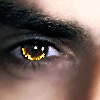-- : --
Зарегистрировано — 123 456Зрителей: 66 536
Авторов: 56 920
On-line — 10 391Зрителей: 2024
Авторов: 8367
Загружено работ — 2 123 819
«Неизвестный Гений»
Конь
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |

Конь Рыжик был седым, хромым и старым. Таким старым, что, глядя на него, плохо верилось, что этот костлявый большеголовый урод с бельмом на глазу вообще может самостоятельно передвигаться.
Однако, коня почти каждое утро впрягали в телегу с обитым кровельным железом ящиком и заставляли тащить ее за семь километров на пекарню за свежим хлебом.
Времена тогда были простые, советские. О правах домашних животных люди и слыхом не слыхивали. Рыжик же вообще был почти глухим, иного мира, кроме колхоза «Малиновки», не видел, и никакой такой несправедливости в скотском к себе отношении не находил.
Дело свое он знал туго, дорогу помнил до каждой выбоины и вполне мог обходиться даже без кучера.
Возницей хлебной телеги был старичок Андрей Иваныч, человек сильно пьющий и потому весьма ненадежный. Иногда, когда дед был с сильного похмелья, процессом доставки хлеба старый конь руководил самостоятельно. Иваныч дрых в сенном передке, а Рыжик приходил к пекарне, покорно ожидал своей очереди, а затем подвозил телегу точно к окошку раздатки. Хлеб нагружали, а накладную, поставив где надо крестик, раздатчица бабка Люба засовывала бывшему гармонисту и любимцу всех послевоенных вдов прямо за пазуху.
Потом давала коню кусок посоленного хлеба, хлопала по крупу и отправляла, перекрестив, домой. Дедок же, бывало, так и не просыпался.
Так и жили… Бог даст, как говорится. И ведь давал.
Когда корабль со спящим шкипером прибывал в деревню, конь подходил к старой часовенке и ждал ровно пять минут. Если за это время к нему никто не подходил, он начинал объедать заросли огромных лопухов, что обильно росли в пространстве древнего пепелища за часовней.
Конь считал, что, сделав свое нелегкое дело, он имеет полное право расслабиться у себя дома. Увлекаясь лопухами, Рыжик совершенно терял ориентировку во времени и пространстве и мог залезть вместе с телегой в такие чапыжи, что выводить его оттуда, через крапиву и колючки, было сущим наказанием. Поручалось это нам – деревенским недорослям. Бабы и старики с пустыми кошелками и корзинками, разбудив Андрея Иваныча, проворно ловили наши юркие велосипеды за багажники и уговорами или просто пинками гнали вызволять кусок своего хлеба насущного из репейной неволи.
Как уже сказано, конь был глуховат и мало восприимчив к насилию. И это очень осложняло дело. Приходилось через тернии пролезать прямо к его огромной одноглазой башке, хватать за узду, тянуть изо всех сил в сторону, чтобы развернуть этот упрямый «трактор с прицепом» и вывести его из чащи. Рыжик, находясь в блаженном ступоре, недоуменно косил фиолетовым глазом на мелкого заморыша, посмевшего прервать его заслуженную трапезу, страшно скалил черно-зеленые зубы, фыркал толстыми губищами, сворачивал их в трубочку и пытался плюнуть в обидчика.
Дед Андрей в это время, стоя на телеге, вожжами лупил по деревянной спине коня и хулигански орал: «Но! Но, мой хороший! Давай, пошла-пошла. Раздайся, грязь, говно плывет!!! В стороны, черепки! Ну, етит твою мать! Куды прешь, гребаный ты по башке!».
Рыжик упирался. От обиды он наваливал кучу, а потом, нехотя поддавался грубому насилию и трогался с места.
Минут через десять телегу вызволяли и она, сделав почетный круг вокруг часовни, ехала обратно к дому Андрея, где, собственно, и происходила продажа. Народ, сохраняя сложившуюся за время освобождения очередь, обрадованно топал за вожделенным хлебным ящиком, словно за свадебной процессией, обсуждая бесплатное развлечение.
Когда телега останавливалась, из дома выходила Андреева жена — бабка Сима и сразу же начинала визжать на высокой ноте: «Упырь, голодранец, алкаш, чтоб ты сдох, гад окаянный! Убожище! Всю кровь мою выпил…» И дальше — в том же духе.
Народ тихо ее ненавидел — она была вредная. Хабалка и Баба Яга. Сима постоянно злобилась на весь человеческий род. Как с ней прожил больше пятидесяти лет Андрей Иваныч — балагур и весельчак, потешный хулиган, деревенский клоун и бабник — неведомо.
Его любили, даже, можно сказать, обожали. Старики и старухи при встрече с ним всегда улыбались. А пьяненькая бабка Шура, помню, в Иванов день, как-то разоткровенничалась и проболталась: «Йе-ех, Дуся, да ты не смотри! Андрюха маленький, да й-ёбкий…». При этом она как-то озорно хихикнула и лихо опрокинула в себя граненую стопочку водки.
Еще в ту пору, я понял, что все старики, оказывается, тоже когда-то были молодыми.
Был молодым и дед Иваныч. Он страшно воевал, трижды был ранен, попал в плен, бежал, сидел после войны в наших лагерях. У него были вырваны осколками два ребра, перебит позвоночник, а немецкие овчарки выгрызли ему мясо на ляжках и плечах. Я видел эти страшные ямы своими глазами и мне, двенадцатилетнему дурачку, стало впервые страшно от слова «война». При такой жуткой жизни Андрей все равно оставался отчаянно веселым, любил травить разные истории, постоянно подкалывал деревенских и заслуженно носил кличку «Фулюган».
Отвизжав свое положенное, Сима начинала производить расчеты с населением. Ругались долго и нудно, но как-то привычно. Кому-то не досталось «белого», кому-то дали больше «бараньего», вместо «настоящего», кто-то просил в долг, кто-то поругивался из-за очереди… Нервное народное ожидание искало свой привычный выход.
Андрей Иванович, не обращая внимания на деревенские распри, вместе с ребятней тихо распрягал Рыжика и в торговле никакого участия не принимал.
Потом вел коня к пруду. Тот пил нудно, хлюпал, булькал в воде, переступал ногами, раздувал бока и громко пердел, словно исполнял трудную работу. Дед Андрей, стоя под самым хвостом животины и пошлепывая ее по заду, совершенно не слышал конского пердежа и не чувствовал чудовищного запаха. Они были едины — восьмидесятилетний дед и старый конь. Разве учуешь собственный запах?
Он навязывал своего любимца за дальними банями на задворках. Потом доставал из кармана краюху хлеба и протягивал коню. Тот благодарно шевелил ушами и тянулся к Андрею черными ватными губами, пыхтя в самое ухо, словно жалуясь на свою нелегкую судьбу. Дед замирал, и так они стояли долго-долго — человек и лошадь. Старые, неуклюжие инвалиды. Кроме друг друга им никто не был нужен на всей земле… Они устали, но их существование зачем-то все длилось и длилось. И словно насильно заставляло их плыть по течению до той самой последней воронки, которая им уготована. Наградой за их трудную жизнь стало долгое ожидание смерти.
Господи, ну что тебе еще-то от них надо?
Часто Рыжик срывался со своей привязи — цепь деду было не поднять, его привязывали на старую веревку. Она, конечно, рвалась, и конь, увлекаясь сочной придорожной травой, уходил прямо в деревню. Его не гоняли — привыкли.
У нашего дома мама посадила четыре маленьких березки — городским ведь всегда хочется эстетики. Ей казалось, что когда они подрастут, бабушкин дом будет выглядеть изящнее, в этаком левитановском стиле, что ли…
Душа требовала не только загородки для цыплят, полной поленницы дров и целиком заросшего ряской камышового пруда, а еще и чего-то неуловимо русского, лубочного... Голубенький дом с белыми наличниками, сирень и белые березки. Кра-со-та!
Когда березки чуть подросли, их, на мамину беду, приметил Рыжик.
Шествуя по деревне, конь всегда проходил над ними. Потом пятился задом, потом опять вперед. Потом блаженно застывал и валил огромную кучу. Березки эти верхушками чесали ему пузо, а может, и еще что поинтимнее… А кому, скажите на милость, это не нравится? Специфический орган, знаете ли, это пузо… Тут все рядом. Ничто человеческое и коню не чуждо!
Он чесал свой живот, чесал до остервенения, вытянув морду к ослепительному солнцу, елозя по нежным веточкам, ожидая оглушительного взрыва животных чувств.
И с каждым днем куча у березок становилась все больше и больше.
Однажды, березки не выдержали конского сексуального насилия и просто сломались. Сломанные, они уже не доставали Рыжику до брюха. Сначала конь недоуменно пытался приседать на острые сучки, но это был уже не тот кайф, и он оставил их в покое. На следующую весну березки уже не отродились.
Зимой Рыжик жил в конюшне на окраине. Дед Андрей когда-то работал конюхом, передав по старости бразды правления более молодому «пацану» — тихому шестидесятисемилетнему зоотехнику на пенсии Семен Гурьянычу по кличке Гурыч.
Тот сызмальства был неразговорчив и людям предпочитал коров, лошадей и свиней. Любая собака, даже самая злая, при встрече старалась облизать его с ног до головы. Быки смирнели под взглядом, коровы, по мановению указательного пальца, выстраивались гуськом и шествовали на дойку. Лошади же сами подставляли ему свои головы под хомуты. И это все молча, без единого Семенова слова.
В его конюшне было девять лошадей и идеальная чистота. Рыжику Гурыч нравился своим спокойствием и безошибочным знанием лошадиной души. Но хозяином своим он все равно считал Андрея Ивановича.
Когда темными зимними вечерами тот приходил в конюшню, Рыжик тихо ржал, призывая хозяина, и пытался просунуть свою огромную башку между жердей, словно боялся, что старик не найдет его в тусклом свете грязной сорокаваттной лампочки. Пьяный Андрей, как правило, посиживал в закутке с Гурычем и тихо дерябал с ним чекушечку. Поздороваться с конем часто забывал, и тот молчаливо ждал, когда мужики напьются и Иваныч полезет к нему целоваться. Он терпел и алкогольную вонь, и хриплый мат хозяина, и шлепки по губам, и его вечное «эх-хе-хех». Конь стерпел бы и любые побои, лишь бы знать, что тот жив, что наступит лето и они снова поедут за хлебом.
Андрея Ивановича похоронили в самом начале апреля, под крик рано прилетевших с юга грачей. Старик замерз пьяным в собственном огороде, свалившись между гряд, не дойдя до дома пятидесяти метров. Через неделю умерла и Сима. То ли от великой любви, то ли от потери смысла — ей некого было больше пилить.
Рыжик ничего об этом не знал. На Пасху Гурыч вывел его, наконец, на весеннее солнышко и долго чесал свалявшуюся шкуру, угрюмо приговаривая: «От, бля, жись, от, бля, жись… Осиротел ты, дурень, совсем осиротел…».
Внимательно слушая поддатого Семена, Рыжик почуял неладное. Воспользовавшись тем, что Гурыч скрылся в конюшне, конь ушел на деревню. Подойдя к дому Андрея Ивановича, он ткнулся мордой в грязное стекло кухонного окошка и жалобно заржал.
Тишина. Пусто стало в деревне.
Весенние пташки щебетали в голубой вышине, а из соседнего села раздавался нестройный звук гармони на басах. Пустой дом таращился слепыми глазами на весело журчащий в канаве ручей.
Рыжик все понял. Ждать ему больше нечего, и лета не будет. С невидящими от слез глазами он поплелся куда-то вдоль деревни, зачем-то завернул в проулок, споткнулся о какую-то жердь, и, завалившись на хлипкий пересохший тын огорода, умер.
***
Однако, коня почти каждое утро впрягали в телегу с обитым кровельным железом ящиком и заставляли тащить ее за семь километров на пекарню за свежим хлебом.
Времена тогда были простые, советские. О правах домашних животных люди и слыхом не слыхивали. Рыжик же вообще был почти глухим, иного мира, кроме колхоза «Малиновки», не видел, и никакой такой несправедливости в скотском к себе отношении не находил.
Дело свое он знал туго, дорогу помнил до каждой выбоины и вполне мог обходиться даже без кучера.
Возницей хлебной телеги был старичок Андрей Иваныч, человек сильно пьющий и потому весьма ненадежный. Иногда, когда дед был с сильного похмелья, процессом доставки хлеба старый конь руководил самостоятельно. Иваныч дрых в сенном передке, а Рыжик приходил к пекарне, покорно ожидал своей очереди, а затем подвозил телегу точно к окошку раздатки. Хлеб нагружали, а накладную, поставив где надо крестик, раздатчица бабка Люба засовывала бывшему гармонисту и любимцу всех послевоенных вдов прямо за пазуху.
Потом давала коню кусок посоленного хлеба, хлопала по крупу и отправляла, перекрестив, домой. Дедок же, бывало, так и не просыпался.
Так и жили… Бог даст, как говорится. И ведь давал.
Когда корабль со спящим шкипером прибывал в деревню, конь подходил к старой часовенке и ждал ровно пять минут. Если за это время к нему никто не подходил, он начинал объедать заросли огромных лопухов, что обильно росли в пространстве древнего пепелища за часовней.
Конь считал, что, сделав свое нелегкое дело, он имеет полное право расслабиться у себя дома. Увлекаясь лопухами, Рыжик совершенно терял ориентировку во времени и пространстве и мог залезть вместе с телегой в такие чапыжи, что выводить его оттуда, через крапиву и колючки, было сущим наказанием. Поручалось это нам – деревенским недорослям. Бабы и старики с пустыми кошелками и корзинками, разбудив Андрея Иваныча, проворно ловили наши юркие велосипеды за багажники и уговорами или просто пинками гнали вызволять кусок своего хлеба насущного из репейной неволи.
Как уже сказано, конь был глуховат и мало восприимчив к насилию. И это очень осложняло дело. Приходилось через тернии пролезать прямо к его огромной одноглазой башке, хватать за узду, тянуть изо всех сил в сторону, чтобы развернуть этот упрямый «трактор с прицепом» и вывести его из чащи. Рыжик, находясь в блаженном ступоре, недоуменно косил фиолетовым глазом на мелкого заморыша, посмевшего прервать его заслуженную трапезу, страшно скалил черно-зеленые зубы, фыркал толстыми губищами, сворачивал их в трубочку и пытался плюнуть в обидчика.
Дед Андрей в это время, стоя на телеге, вожжами лупил по деревянной спине коня и хулигански орал: «Но! Но, мой хороший! Давай, пошла-пошла. Раздайся, грязь, говно плывет!!! В стороны, черепки! Ну, етит твою мать! Куды прешь, гребаный ты по башке!».
Рыжик упирался. От обиды он наваливал кучу, а потом, нехотя поддавался грубому насилию и трогался с места.
Минут через десять телегу вызволяли и она, сделав почетный круг вокруг часовни, ехала обратно к дому Андрея, где, собственно, и происходила продажа. Народ, сохраняя сложившуюся за время освобождения очередь, обрадованно топал за вожделенным хлебным ящиком, словно за свадебной процессией, обсуждая бесплатное развлечение.
Когда телега останавливалась, из дома выходила Андреева жена — бабка Сима и сразу же начинала визжать на высокой ноте: «Упырь, голодранец, алкаш, чтоб ты сдох, гад окаянный! Убожище! Всю кровь мою выпил…» И дальше — в том же духе.
Народ тихо ее ненавидел — она была вредная. Хабалка и Баба Яга. Сима постоянно злобилась на весь человеческий род. Как с ней прожил больше пятидесяти лет Андрей Иваныч — балагур и весельчак, потешный хулиган, деревенский клоун и бабник — неведомо.
Его любили, даже, можно сказать, обожали. Старики и старухи при встрече с ним всегда улыбались. А пьяненькая бабка Шура, помню, в Иванов день, как-то разоткровенничалась и проболталась: «Йе-ех, Дуся, да ты не смотри! Андрюха маленький, да й-ёбкий…». При этом она как-то озорно хихикнула и лихо опрокинула в себя граненую стопочку водки.
Еще в ту пору, я понял, что все старики, оказывается, тоже когда-то были молодыми.
Был молодым и дед Иваныч. Он страшно воевал, трижды был ранен, попал в плен, бежал, сидел после войны в наших лагерях. У него были вырваны осколками два ребра, перебит позвоночник, а немецкие овчарки выгрызли ему мясо на ляжках и плечах. Я видел эти страшные ямы своими глазами и мне, двенадцатилетнему дурачку, стало впервые страшно от слова «война». При такой жуткой жизни Андрей все равно оставался отчаянно веселым, любил травить разные истории, постоянно подкалывал деревенских и заслуженно носил кличку «Фулюган».
Отвизжав свое положенное, Сима начинала производить расчеты с населением. Ругались долго и нудно, но как-то привычно. Кому-то не досталось «белого», кому-то дали больше «бараньего», вместо «настоящего», кто-то просил в долг, кто-то поругивался из-за очереди… Нервное народное ожидание искало свой привычный выход.
Андрей Иванович, не обращая внимания на деревенские распри, вместе с ребятней тихо распрягал Рыжика и в торговле никакого участия не принимал.
Потом вел коня к пруду. Тот пил нудно, хлюпал, булькал в воде, переступал ногами, раздувал бока и громко пердел, словно исполнял трудную работу. Дед Андрей, стоя под самым хвостом животины и пошлепывая ее по заду, совершенно не слышал конского пердежа и не чувствовал чудовищного запаха. Они были едины — восьмидесятилетний дед и старый конь. Разве учуешь собственный запах?
Он навязывал своего любимца за дальними банями на задворках. Потом доставал из кармана краюху хлеба и протягивал коню. Тот благодарно шевелил ушами и тянулся к Андрею черными ватными губами, пыхтя в самое ухо, словно жалуясь на свою нелегкую судьбу. Дед замирал, и так они стояли долго-долго — человек и лошадь. Старые, неуклюжие инвалиды. Кроме друг друга им никто не был нужен на всей земле… Они устали, но их существование зачем-то все длилось и длилось. И словно насильно заставляло их плыть по течению до той самой последней воронки, которая им уготована. Наградой за их трудную жизнь стало долгое ожидание смерти.
Господи, ну что тебе еще-то от них надо?
Часто Рыжик срывался со своей привязи — цепь деду было не поднять, его привязывали на старую веревку. Она, конечно, рвалась, и конь, увлекаясь сочной придорожной травой, уходил прямо в деревню. Его не гоняли — привыкли.
У нашего дома мама посадила четыре маленьких березки — городским ведь всегда хочется эстетики. Ей казалось, что когда они подрастут, бабушкин дом будет выглядеть изящнее, в этаком левитановском стиле, что ли…
Душа требовала не только загородки для цыплят, полной поленницы дров и целиком заросшего ряской камышового пруда, а еще и чего-то неуловимо русского, лубочного... Голубенький дом с белыми наличниками, сирень и белые березки. Кра-со-та!
Когда березки чуть подросли, их, на мамину беду, приметил Рыжик.
Шествуя по деревне, конь всегда проходил над ними. Потом пятился задом, потом опять вперед. Потом блаженно застывал и валил огромную кучу. Березки эти верхушками чесали ему пузо, а может, и еще что поинтимнее… А кому, скажите на милость, это не нравится? Специфический орган, знаете ли, это пузо… Тут все рядом. Ничто человеческое и коню не чуждо!
Он чесал свой живот, чесал до остервенения, вытянув морду к ослепительному солнцу, елозя по нежным веточкам, ожидая оглушительного взрыва животных чувств.
И с каждым днем куча у березок становилась все больше и больше.
Однажды, березки не выдержали конского сексуального насилия и просто сломались. Сломанные, они уже не доставали Рыжику до брюха. Сначала конь недоуменно пытался приседать на острые сучки, но это был уже не тот кайф, и он оставил их в покое. На следующую весну березки уже не отродились.
Зимой Рыжик жил в конюшне на окраине. Дед Андрей когда-то работал конюхом, передав по старости бразды правления более молодому «пацану» — тихому шестидесятисемилетнему зоотехнику на пенсии Семен Гурьянычу по кличке Гурыч.
Тот сызмальства был неразговорчив и людям предпочитал коров, лошадей и свиней. Любая собака, даже самая злая, при встрече старалась облизать его с ног до головы. Быки смирнели под взглядом, коровы, по мановению указательного пальца, выстраивались гуськом и шествовали на дойку. Лошади же сами подставляли ему свои головы под хомуты. И это все молча, без единого Семенова слова.
В его конюшне было девять лошадей и идеальная чистота. Рыжику Гурыч нравился своим спокойствием и безошибочным знанием лошадиной души. Но хозяином своим он все равно считал Андрея Ивановича.
Когда темными зимними вечерами тот приходил в конюшню, Рыжик тихо ржал, призывая хозяина, и пытался просунуть свою огромную башку между жердей, словно боялся, что старик не найдет его в тусклом свете грязной сорокаваттной лампочки. Пьяный Андрей, как правило, посиживал в закутке с Гурычем и тихо дерябал с ним чекушечку. Поздороваться с конем часто забывал, и тот молчаливо ждал, когда мужики напьются и Иваныч полезет к нему целоваться. Он терпел и алкогольную вонь, и хриплый мат хозяина, и шлепки по губам, и его вечное «эх-хе-хех». Конь стерпел бы и любые побои, лишь бы знать, что тот жив, что наступит лето и они снова поедут за хлебом.
Андрея Ивановича похоронили в самом начале апреля, под крик рано прилетевших с юга грачей. Старик замерз пьяным в собственном огороде, свалившись между гряд, не дойдя до дома пятидесяти метров. Через неделю умерла и Сима. То ли от великой любви, то ли от потери смысла — ей некого было больше пилить.
Рыжик ничего об этом не знал. На Пасху Гурыч вывел его, наконец, на весеннее солнышко и долго чесал свалявшуюся шкуру, угрюмо приговаривая: «От, бля, жись, от, бля, жись… Осиротел ты, дурень, совсем осиротел…».
Внимательно слушая поддатого Семена, Рыжик почуял неладное. Воспользовавшись тем, что Гурыч скрылся в конюшне, конь ушел на деревню. Подойдя к дому Андрея Ивановича, он ткнулся мордой в грязное стекло кухонного окошка и жалобно заржал.
Тишина. Пусто стало в деревне.
Весенние пташки щебетали в голубой вышине, а из соседнего села раздавался нестройный звук гармони на басах. Пустой дом таращился слепыми глазами на весело журчащий в канаве ручей.
Рыжик все понял. Ждать ему больше нечего, и лета не будет. С невидящими от слез глазами он поплелся куда-то вдоль деревни, зачем-то завернул в проулок, споткнулся о какую-то жердь, и, завалившись на хлипкий пересохший тын огорода, умер.
***
Голосование:
Суммарный балл: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
Нет отзывов
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор