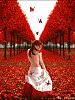-- : --
Зарегистрировано — 123 271Зрителей: 66 373
Авторов: 56 898
On-line — 4 636Зрителей: 897
Авторов: 3739
Загружено работ — 2 120 785
«Неизвестный Гений»
ЧУЖАЯ БОЛЬ (часть вторая)
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |

- Может, дежурного врача позовёшь? Как-то нехорошо он дышит.
- Перед смертью не надышишься.
- Ну, зачем ты так. Давно он у вас?
- Четвёртые сутки.
- Наверное, трубку менять пора – мокротой забивается.
- Вот в другом месте никак не забьётся. Он, паразит, столько сегодня дерьма навалил, еле палату проветрила. От самой, кажется, до сих пор пахнет.
- Да, не позавидуешь. Зато, скажу тебе, лежит он себе спокойненько и не жалуется и не просит ничего, не то, что у нас в отделении.
- Хоть бы сдох поскорее, честное слово. Чего таких в больницу возить. Я уже надорвалась с ним, а толку?
Это было невыносимее всего – беспомощность и унижение. Ну почему он не умер сразу? За что ему всё это? «Хватит!- приказал он себе,- А сёстры…. Просто они не знают, что он слышит, а то бы им было стыдно». И даже усмехнулся про себя нелепости такого предположения.
Но дышать действительно было трудно. Он с усилием втягивал и выталкивал воздух через трубку и хорошо представлял, как просвет её становится всё уже и скоро перекроется мокротой совсем. «Потом ещё немного мучений, и всё». Реанимировать его, надеялся, не будут. Но, пока ещё воздуха хватало, и он жил.
Вот только никак не отпускала голову мучительная боль. «Хоть догадались обезболивающее ввести. И лучше всего, ввели бы побольше морфия, или фентанила в вену – всё бы и закончилось».
А ведь тогда всё так и произошло.
Он снова вернулся в прошлое к той бедной старушке. Правда, обезболивал он её промедолом. Учитывая возраст, подобрал оптимальную дозу, развёл физ. раствором и медленно ввёл в вену. Больная смотрела на него и улыбалась (видимо, очень серьёзным он выглядел). «Сейчас всё пройдёт»,- бодро сказал он, вынимая иглу из вены. «Уже… проходит»,- как-то удивлённо ответила больная.
Он нащупал пульс и с ужасом отметил, что тот стал слабеть и замедляться. «Как вы себя чувствуете?»- стараясь сохранять спокойствие, спросил он. «Хо-ро-шо»,- почему-то по слогам , медленно произнесла она, и, широко раскрыв глаза, всё так же улыбаясь, стала смотреть в потолок,- «Большое спасибо вам, доктор».
Зрачки её расширились, расползлись в разные стороны и закатились под лоб. Пульс больше не определялся. Он бросился к сумке, набрал в шприц адреналин и ввёл его дрожащими руками в сердце. Да и вообще, он делал всё, что в таких случаях нужно делать.
Но больная, широко открыв рот, зевнула, потом медленно выпустила воздух сквозь сжатые губы и затихла, обмякнув. Он видел, что она умерла. Видел и не мог поверить.
«Почему?! Ведь этого просто не должно было быть!». Было. Женщина, похожая на гимназистку, спокойно лежала и казалась спящей, с едва заметной, постепенно застывающей улыбкой.
Вот тогда он впервые ощутил где-то в глубине себя (в душе?) самую настоящую ноющую боль. И даже через много лет, даже теперь, когда сам подошёл к черте, она появлялась, стоило лишь вспомнить этот случай и снова задать себе мучающий до сих пор вопрос: «Почему она умерла?», и снова на него не ответить.
- Привет.
- Привет. Какими судьбами?
- Да вот, решил посмотреть, какой контингент ты пользуешь.
- Твоих пациентов что-то давно не было. Оперировать научился? Или просто довезти до нас не успеваешь?
- Типун тебе на язык. А ты чего это вдруг в палате? На тебя как-то не похоже.
- Назначения пересматриваю.
- Пошли, пошепчемся.
- А здесь что тебя не устраивает?
- Нельзя.
- Из-за них что ли? Так мальчику я снотворного столько ввёл, до вечера хватит. А у этого инсульт, глубокая кома.
- Ну, разве что так. Мальчик давно у тебя?
- Трое суток.
- Большие ожоги?
- Первая-вторая степень, процентов пятнадцать-двадцать.
- Должен выжить.
- Надеюсь.
- А инсультный?
- Что инсультный?
- Он давно?
- Неделю. Ты что, с ревизией пришёл? Тогда мандат покажи.
- Погоди смеяться. У него ишемический, или кровоизлияние?
- Кто его знает. По тяжести состояния тянет на кровоизлияние.
- А пункцию разве не делал?
- Жена не разрешила.
- А компьютер?
- Там очередь на месяц вперёд, да и денег у них нет.
- И как он, вытянет?
- Ни в коем случае. Невропатологи уже и не приходят смотреть. Да и заведующий, похоже, махнул рукой.
- А назначения делаешь, как для VIP-клиента.
- Лист назначений и история болезни, как ты должен знать, пишутся для прокурора. А пользую я его только водичкой в вену, ну, и через зонд подкармливаю. Чтобы не худел.
- Шуточки у тебя. В общем, клиент на самовыживании.
- Можно и так сказать. Молодым-то лекарств не хватает.
- Поэтому дефицитом приторговываете?
- С чего ты взял?
- Слушок идёт.
- А, чего там, слёзы. Едва на сигареты хватает.
- Неужели? Ладно-ладно, это я так, к слову. Дай-ка мне историю болезни инсультного.
- Просил кто-то за него?
- Слушай, а он ведь ничего. Анализы, во всяком случае, дай бог каждому. Так, глядишь, и выживет.
- Ана-ализы…. Ты иди его посмотри….
- Чё смотреть-то? Больной, он и есть больной. Свои надоели. Слушай… тут вот какое дело… почка нужна.
- Здрасьте… опять. А с моргом не получится, как в прошлый раз?
- Мои проблемы.
- Сколько заплатят?
- Много, и даже очень. Не переживай. Ты, главное, раньше времени губу не раскатывай, я пока ещё товар не вижу – вон, как замечательно дышит.
- Вчера только трубку убрал, мокротой забилась. Это у него последний всплеск перед концом, так бывает. Не сомневайся – клиент созреет, товар будет.
- Точно?
- А то! Два-три дня, не больше.
- Надеюсь. Но, ты мне сразу позвони.
- Замётано.
Утро было до невозможности чистым, а может, таким казалось после безумного дежурства с раздавленными поездом конечностями, кровью резаных ран, буйством опившихся, хрипом недоповесившегося. Та ещё ночка. Тем приятнее было ощущать тишину.
Он настежь открыл окно в коридоре и, облокотившись на подоконник, отрешённо смотрел на чуть шелестящие внизу верхушки берёз. И всё же город просыпался. Это парк за окнами больницы приглушал и шуршание колёс по асфальту и редкие пока звонки далёких отсюда трамваев, и ещё более далёкие гудки пароходов на Оби.
Обычное летнее утро.
Но сегодня к этим привычным звукам присоединился ещё один, чужой здесь. И доносился он с неба. Аэропорт был совсем в другой стороне, и далеко отсюда, поэтому тарахтение низко летящего АН-2 обращало на себя внимание. И не только его. Редкие в этот час прохожие замедляли шаг и задирали головы.
А вот и самолёт. Ну, летит и летит себе, мало ли зачем, только почему-то очень уж низко. Пролетел, скрылся за больницей, чуть погодя появился снова, только значительно правее. Потом тарахтение возникало то слева, то справа – самолёт ходил кругами.
Как-то странно это выглядело. Он спустился вниз и вышел за изгородь больницы. Теперь самолёт был виден хорошо. Кто-то крикнул: «Что-то у него случилось! Наверное, хочет сесть на проспект!» И люди побежали в сторону проспекта. Он увидел как самолёт на мгновение будто бы замер и, вдруг, словно нырнул и пропал за домами.
А потом раздался взрыв. Инстинктивно он подался в ту сторону, но опомнившись, побежал в больницу. Там уже все припали к окнам. Старший дежурный хирург командовал: «Всех врачей из дома вызывайте! Всех!! Быстрее!». И добавил с тоской: «Ну, сейчас повезут».
Он проснулся. Именно проснулся, а не очнулся, как было до сих пор. И понял, что больше не умирает. Мозг ещё медленно реагировал на происходящие в нём перемены, но ощущение жизни по крохам возвращалось. Он даже стал уставать от постоянного лежания на спине («Ну почему так редко поворачивают на бок?») и с удовольствием отмечал, что правая половина тела хоть и остаётся неподвижной, в неё всё же лёгким покалыванием возвращается чувствительность.
Зато теперь сильнее ощущалась обида и боль за свою немощность, когда сестра или санитарка вымещали словами и руками на нём своё раздражение, если необходимость заставляла перестилать постель. Но сию минуту была только радость пробуждения.
«Почему мне приснился Новосибирск и тот дикий случай с самолётом? Правильно, я слышал, как врачи говорили о мальчике с ожогами. Днём его не слышно, но ночами он всё время плачет и зовёт мать. Тот мальчик тоже кричал».
Тот мальчик кричал: «Самолёт! Мама, самолёт!» и порывался вскочить с кровати. Он теперь не помнил, как звали того мальчика, но фамилия врезалась в память навсегда.
Их привезли сразу всех троих. Трое Никулкиных – мать, отец и сын. Мальчику было десять лет. В тот день поступило человек двадцать пять. Сначала привозили с переломами – эти выпрыгивали из окон, потом – обожжённых – тех вызволяли из горящих квартир пожарные. По лестнице спуститься не мог никто – врезавшийся в дом самолёт разрушил её между четвёртым и пятым этажами.
Первым из Никулкиных умер отец, на третьи сутки, не приходя в сознание. Его потихоньку вывезли, а жене утром сказали, что перевели в другую палату, поскольку ему стало лучше. И она поверила, и даже обрадовалось потому, что муж, помогая ей и сыну, пострадал больше них. Значит, теперь и они поправятся.
И врачи и сёстры, конечно же, поддакивали, всячески вселяя в неё надежду, и плакали, выйдя из палаты. Все понимали, что оба обречены. Понимали и всё равно старались лечить – а вдруг? Но что там «вдруг», когда не хватало ни крови, ни плазмы (про альбумин даже не заикались в то время), ни просто противошоковых кровезаменителей.
Кровь для Никулкиных сдавало почти всё отделение. От него тоже прямое переливание мальчику дважды делали. Но, увы, тот терял жидкость через ожоговые поверхности гораздо быстрее, чем её успевали восполнять, и не было ни одного уцелевшего участка кожи, пригодной для пересадки. «Как же мы работали в семидесятые годы? А вот ведь работали и лечили и спасали.
Мальчик умер у него на дежурстве, ночью. Мать утром проснулась и, посмотрев на пустую кровать сына, всё поняла. Он ей торопливо и долго говорил, что у сына ночью наступил кризис, и теперь ему лучше находиться среди выздоравливающих. Она, молча, смотрела на него (а он боялся истерики) и вдруг неожиданно сказала: «Какая же я стала толстая корова, а ведь красивая… была».
Он говорил тогда, что вовсе она не корова, а просто сильно отекла, что так всегда бывает при ожогах. И много чего ещё говорил он, радуясь, что больше не приходится врать про сына. «Да будет вам, я же вижу»,- сказала, помолчала немного и добавила,- «А ведь у меня сегодня День рождения. Мои мужчины всегда дарили мне цветы».
Он молчал, решительно не представляя, что можно сказать в такой ситуации. Сказала она: «Доктор, найдите мне, пожалуйста, зеркальце и расчёску. А может, кто-нибудь из сестёр пожертвует губную помаду? Я хочу хоть немного привести себя в порядок сегодня».
Разумеется, он всё исполнил. Потом, часа через три, заполнив кучу историй болезни, перед уходом домой, он снова зашёл к ней. Она встретила его полусидя, прислонившись спиной к подушкам, уже причёсанная, с подкрашенными губами и полуопущенными веками. Она была мертва. Он потрясённо стоял, переполненный чувством горечи и ещё чего-то, что навсегда оставило в нём очередной рубец.
Как она проникает в тебя – чужая боль, где гнездится, и почему так стойка, что даже сейчас ты испытываешь такие же чувства, что и тридцать пять лет тому назад?
- Перед смертью не надышишься.
- Ну, зачем ты так. Давно он у вас?
- Четвёртые сутки.
- Наверное, трубку менять пора – мокротой забивается.
- Вот в другом месте никак не забьётся. Он, паразит, столько сегодня дерьма навалил, еле палату проветрила. От самой, кажется, до сих пор пахнет.
- Да, не позавидуешь. Зато, скажу тебе, лежит он себе спокойненько и не жалуется и не просит ничего, не то, что у нас в отделении.
- Хоть бы сдох поскорее, честное слово. Чего таких в больницу возить. Я уже надорвалась с ним, а толку?
Это было невыносимее всего – беспомощность и унижение. Ну почему он не умер сразу? За что ему всё это? «Хватит!- приказал он себе,- А сёстры…. Просто они не знают, что он слышит, а то бы им было стыдно». И даже усмехнулся про себя нелепости такого предположения.
Но дышать действительно было трудно. Он с усилием втягивал и выталкивал воздух через трубку и хорошо представлял, как просвет её становится всё уже и скоро перекроется мокротой совсем. «Потом ещё немного мучений, и всё». Реанимировать его, надеялся, не будут. Но, пока ещё воздуха хватало, и он жил.
Вот только никак не отпускала голову мучительная боль. «Хоть догадались обезболивающее ввести. И лучше всего, ввели бы побольше морфия, или фентанила в вену – всё бы и закончилось».
А ведь тогда всё так и произошло.
Он снова вернулся в прошлое к той бедной старушке. Правда, обезболивал он её промедолом. Учитывая возраст, подобрал оптимальную дозу, развёл физ. раствором и медленно ввёл в вену. Больная смотрела на него и улыбалась (видимо, очень серьёзным он выглядел). «Сейчас всё пройдёт»,- бодро сказал он, вынимая иглу из вены. «Уже… проходит»,- как-то удивлённо ответила больная.
Он нащупал пульс и с ужасом отметил, что тот стал слабеть и замедляться. «Как вы себя чувствуете?»- стараясь сохранять спокойствие, спросил он. «Хо-ро-шо»,- почему-то по слогам , медленно произнесла она, и, широко раскрыв глаза, всё так же улыбаясь, стала смотреть в потолок,- «Большое спасибо вам, доктор».
Зрачки её расширились, расползлись в разные стороны и закатились под лоб. Пульс больше не определялся. Он бросился к сумке, набрал в шприц адреналин и ввёл его дрожащими руками в сердце. Да и вообще, он делал всё, что в таких случаях нужно делать.
Но больная, широко открыв рот, зевнула, потом медленно выпустила воздух сквозь сжатые губы и затихла, обмякнув. Он видел, что она умерла. Видел и не мог поверить.
«Почему?! Ведь этого просто не должно было быть!». Было. Женщина, похожая на гимназистку, спокойно лежала и казалась спящей, с едва заметной, постепенно застывающей улыбкой.
Вот тогда он впервые ощутил где-то в глубине себя (в душе?) самую настоящую ноющую боль. И даже через много лет, даже теперь, когда сам подошёл к черте, она появлялась, стоило лишь вспомнить этот случай и снова задать себе мучающий до сих пор вопрос: «Почему она умерла?», и снова на него не ответить.
- Привет.
- Привет. Какими судьбами?
- Да вот, решил посмотреть, какой контингент ты пользуешь.
- Твоих пациентов что-то давно не было. Оперировать научился? Или просто довезти до нас не успеваешь?
- Типун тебе на язык. А ты чего это вдруг в палате? На тебя как-то не похоже.
- Назначения пересматриваю.
- Пошли, пошепчемся.
- А здесь что тебя не устраивает?
- Нельзя.
- Из-за них что ли? Так мальчику я снотворного столько ввёл, до вечера хватит. А у этого инсульт, глубокая кома.
- Ну, разве что так. Мальчик давно у тебя?
- Трое суток.
- Большие ожоги?
- Первая-вторая степень, процентов пятнадцать-двадцать.
- Должен выжить.
- Надеюсь.
- А инсультный?
- Что инсультный?
- Он давно?
- Неделю. Ты что, с ревизией пришёл? Тогда мандат покажи.
- Погоди смеяться. У него ишемический, или кровоизлияние?
- Кто его знает. По тяжести состояния тянет на кровоизлияние.
- А пункцию разве не делал?
- Жена не разрешила.
- А компьютер?
- Там очередь на месяц вперёд, да и денег у них нет.
- И как он, вытянет?
- Ни в коем случае. Невропатологи уже и не приходят смотреть. Да и заведующий, похоже, махнул рукой.
- А назначения делаешь, как для VIP-клиента.
- Лист назначений и история болезни, как ты должен знать, пишутся для прокурора. А пользую я его только водичкой в вену, ну, и через зонд подкармливаю. Чтобы не худел.
- Шуточки у тебя. В общем, клиент на самовыживании.
- Можно и так сказать. Молодым-то лекарств не хватает.
- Поэтому дефицитом приторговываете?
- С чего ты взял?
- Слушок идёт.
- А, чего там, слёзы. Едва на сигареты хватает.
- Неужели? Ладно-ладно, это я так, к слову. Дай-ка мне историю болезни инсультного.
- Просил кто-то за него?
- Слушай, а он ведь ничего. Анализы, во всяком случае, дай бог каждому. Так, глядишь, и выживет.
- Ана-ализы…. Ты иди его посмотри….
- Чё смотреть-то? Больной, он и есть больной. Свои надоели. Слушай… тут вот какое дело… почка нужна.
- Здрасьте… опять. А с моргом не получится, как в прошлый раз?
- Мои проблемы.
- Сколько заплатят?
- Много, и даже очень. Не переживай. Ты, главное, раньше времени губу не раскатывай, я пока ещё товар не вижу – вон, как замечательно дышит.
- Вчера только трубку убрал, мокротой забилась. Это у него последний всплеск перед концом, так бывает. Не сомневайся – клиент созреет, товар будет.
- Точно?
- А то! Два-три дня, не больше.
- Надеюсь. Но, ты мне сразу позвони.
- Замётано.
Утро было до невозможности чистым, а может, таким казалось после безумного дежурства с раздавленными поездом конечностями, кровью резаных ран, буйством опившихся, хрипом недоповесившегося. Та ещё ночка. Тем приятнее было ощущать тишину.
Он настежь открыл окно в коридоре и, облокотившись на подоконник, отрешённо смотрел на чуть шелестящие внизу верхушки берёз. И всё же город просыпался. Это парк за окнами больницы приглушал и шуршание колёс по асфальту и редкие пока звонки далёких отсюда трамваев, и ещё более далёкие гудки пароходов на Оби.
Обычное летнее утро.
Но сегодня к этим привычным звукам присоединился ещё один, чужой здесь. И доносился он с неба. Аэропорт был совсем в другой стороне, и далеко отсюда, поэтому тарахтение низко летящего АН-2 обращало на себя внимание. И не только его. Редкие в этот час прохожие замедляли шаг и задирали головы.
А вот и самолёт. Ну, летит и летит себе, мало ли зачем, только почему-то очень уж низко. Пролетел, скрылся за больницей, чуть погодя появился снова, только значительно правее. Потом тарахтение возникало то слева, то справа – самолёт ходил кругами.
Как-то странно это выглядело. Он спустился вниз и вышел за изгородь больницы. Теперь самолёт был виден хорошо. Кто-то крикнул: «Что-то у него случилось! Наверное, хочет сесть на проспект!» И люди побежали в сторону проспекта. Он увидел как самолёт на мгновение будто бы замер и, вдруг, словно нырнул и пропал за домами.
А потом раздался взрыв. Инстинктивно он подался в ту сторону, но опомнившись, побежал в больницу. Там уже все припали к окнам. Старший дежурный хирург командовал: «Всех врачей из дома вызывайте! Всех!! Быстрее!». И добавил с тоской: «Ну, сейчас повезут».
Он проснулся. Именно проснулся, а не очнулся, как было до сих пор. И понял, что больше не умирает. Мозг ещё медленно реагировал на происходящие в нём перемены, но ощущение жизни по крохам возвращалось. Он даже стал уставать от постоянного лежания на спине («Ну почему так редко поворачивают на бок?») и с удовольствием отмечал, что правая половина тела хоть и остаётся неподвижной, в неё всё же лёгким покалыванием возвращается чувствительность.
Зато теперь сильнее ощущалась обида и боль за свою немощность, когда сестра или санитарка вымещали словами и руками на нём своё раздражение, если необходимость заставляла перестилать постель. Но сию минуту была только радость пробуждения.
«Почему мне приснился Новосибирск и тот дикий случай с самолётом? Правильно, я слышал, как врачи говорили о мальчике с ожогами. Днём его не слышно, но ночами он всё время плачет и зовёт мать. Тот мальчик тоже кричал».
Тот мальчик кричал: «Самолёт! Мама, самолёт!» и порывался вскочить с кровати. Он теперь не помнил, как звали того мальчика, но фамилия врезалась в память навсегда.
Их привезли сразу всех троих. Трое Никулкиных – мать, отец и сын. Мальчику было десять лет. В тот день поступило человек двадцать пять. Сначала привозили с переломами – эти выпрыгивали из окон, потом – обожжённых – тех вызволяли из горящих квартир пожарные. По лестнице спуститься не мог никто – врезавшийся в дом самолёт разрушил её между четвёртым и пятым этажами.
Первым из Никулкиных умер отец, на третьи сутки, не приходя в сознание. Его потихоньку вывезли, а жене утром сказали, что перевели в другую палату, поскольку ему стало лучше. И она поверила, и даже обрадовалось потому, что муж, помогая ей и сыну, пострадал больше них. Значит, теперь и они поправятся.
И врачи и сёстры, конечно же, поддакивали, всячески вселяя в неё надежду, и плакали, выйдя из палаты. Все понимали, что оба обречены. Понимали и всё равно старались лечить – а вдруг? Но что там «вдруг», когда не хватало ни крови, ни плазмы (про альбумин даже не заикались в то время), ни просто противошоковых кровезаменителей.
Кровь для Никулкиных сдавало почти всё отделение. От него тоже прямое переливание мальчику дважды делали. Но, увы, тот терял жидкость через ожоговые поверхности гораздо быстрее, чем её успевали восполнять, и не было ни одного уцелевшего участка кожи, пригодной для пересадки. «Как же мы работали в семидесятые годы? А вот ведь работали и лечили и спасали.
Мальчик умер у него на дежурстве, ночью. Мать утром проснулась и, посмотрев на пустую кровать сына, всё поняла. Он ей торопливо и долго говорил, что у сына ночью наступил кризис, и теперь ему лучше находиться среди выздоравливающих. Она, молча, смотрела на него (а он боялся истерики) и вдруг неожиданно сказала: «Какая же я стала толстая корова, а ведь красивая… была».
Он говорил тогда, что вовсе она не корова, а просто сильно отекла, что так всегда бывает при ожогах. И много чего ещё говорил он, радуясь, что больше не приходится врать про сына. «Да будет вам, я же вижу»,- сказала, помолчала немного и добавила,- «А ведь у меня сегодня День рождения. Мои мужчины всегда дарили мне цветы».
Он молчал, решительно не представляя, что можно сказать в такой ситуации. Сказала она: «Доктор, найдите мне, пожалуйста, зеркальце и расчёску. А может, кто-нибудь из сестёр пожертвует губную помаду? Я хочу хоть немного привести себя в порядок сегодня».
Разумеется, он всё исполнил. Потом, часа через три, заполнив кучу историй болезни, перед уходом домой, он снова зашёл к ней. Она встретила его полусидя, прислонившись спиной к подушкам, уже причёсанная, с подкрашенными губами и полуопущенными веками. Она была мертва. Он потрясённо стоял, переполненный чувством горечи и ещё чего-то, что навсегда оставило в нём очередной рубец.
Как она проникает в тебя – чужая боль, где гнездится, и почему так стойка, что даже сейчас ты испытываешь такие же чувства, что и тридцать пять лет тому назад?
Голосование:
Суммарный балл: 70
Проголосовало пользователей: 7
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 7
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
Нет отзывов
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор