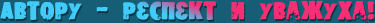-- : --
Зарегистрировано — 122 251Зрителей: 65 405
Авторов: 56 846
On-line — 11 116Зрителей: 2167
Авторов: 8949
Загружено работ — 2 109 690
«Неизвестный Гений»
Прель
Просмотр работы: |
След. |

Глава первая
Худая коса волос, дублёнка не по росту и спешный шаг. Это была девочка лет восьми, пока что без лица, но с робкими плечами и торопящейся ко вздоху грудью. Теперь её резкость стала размытой — это свойственно воспоминаниям, снам — всему, связанному со словом «оставлено». Не лучше, чем «опечатано».
Полупустой коридор без окон, с захлопнутыми дверьми начальных классов и пятнами ленивых детских фигур у облезлых стен, разделённых линией бледно-голубого и белого, уходящего в потолок. Отсутствующий сторож, волнистые тонкие голоса; шум осеннего утра, ещё румяного августовским солнцем. Торопливые шаги и Она.
Она была центром теней, серединой без имени; и теперь ведущая меня к чему-то, к кому-то вчерашнему.
Это было пятое сентября. Городок Х на краю страны, спрятанный в лесном полукруге, в теряющих цвет холмах. Равнина, скрытая в глубоком овраге — бывшем озере. Лес кишел змеями, в бесснежье холмы покрывались сорняками, грибы росли на поляне, заросшей мусором, а собаки у ворот были скалящимися, неприветливыми. Два озера, две дурные славы: одно на севере городка, другое — на юге. Первое — на равнине, глазеющее на въезд городка лягушачьими зрачками, второе — вблизи леса, глазеющее с возвышения на округу глазами утопленников. В первом до сих пор силились поймать рыбу, во втором — ныряли. То, что на севере, звалось «Дурное озеро», отчего и произошло имя городка. Не раз я взбиралась вдоль него вверх, к небу, и смотрела на беспечный, безжизненный пейзаж однообразных крыш и голых деревьев. И любовалась…
— Привет!
Белые пятна учеников, разбросанные у ряда столов в центре класса, фокус зрения: один, второй, третий — всего семеро. Трое девочек и четверо мальчиков, третий класс. Слишком низкие парты, прошлогодние платья формы, не заправленные рубашки, и одинаково — большие живые глаза, встречающие взмах косы вбежавшей в класс Ирины.
Широкие окна, пупырчатые от белой краски стены с пейзажами картин, сюжеты которых сегодня и не вспомнить. Но не один — возвышающийся над низкими головами учеников портрет Коста Хетагурова. Взявшись за ножны, он смотрел вдаль, как истинный муж нации, пишущий жизнь прошлого в прошлом — достояние, всеобщая гордость, пример мужчины, а во взгляде его — покой, как две капли безразличия.
— Привет.
Рина — это смуглая кожа, армянская кровь, угольки глаз и скрещенные на груди руки. Лицо класса, авторитет; она любила говорить первой. Но уголь на то и уголь — остаток потухшего, потемневшая искра. Так она и улыбалась. Без тени радости ребёнка. Став жертвой моей близорукости, она могла прослыть жестокой, коварной; но это значило бы, что холодные глаза означают лишь холодность. Все мы были детьми.
— Почему не пришла на первый звонок? — спросила она, не снимая улыбки.
— Не захотелось…
Ирина льнёт взглядом к каждому, пытаясь обняться, рассказать без слов — может быть, в этом году повезёт?
— Людмила Васильевна тебе устроит…
«А я была на море летом». «А я нигде не была. У бабушки, в городе». «Я была на границе с Францией». «Ага, чеши».
Звучит звонок. Переговариваясь, ученики рассаживаются по своим местам — три ряда по три стола. Красный прямоугольный портфель Ирины ложится на парту рядом с Зарой.
— Со мной сидит Таму.
Ирина растерянно ловит взгляд Рины.
— Тебе нельзя с ней садится. Пока тебя не было, Людмила Васильевна уже рассадила нас.
— И с кем сижу я?
Несколько пар глаз уходят за её спину, возвращаясь без добрых вестей.
— С ним.
В класс входит учительница. Всё, что успевает заметить Ирина, пугливо усаживаясь за указанный стол первого ряда — бритую несуразную голову своего соседа, глядящую на неё в ответ.
— Кого я вижу, Ирина! А почему твоя мама не поднимает телефон, когда я звоню?..
Под водой, за своими глазами, далеко в глуби, почти утопленная горем — она сидит на своём месте, прижав колени друг к другу, хватаясь руками глаз за двигающую губами учительницу, чтобы она скорее увидела, что с неё уже почти капает вода…
Лишь Коста Хетагуров, будто бы глядящий на птиц за спиной художника, мог заметить ужас её лица. Но он молчал.
Девочка вынуждена повернуть голову к своему соседу. Конечно, она помнила его лицо и знала имя. Его робкие губы, растянувшиеся в улыбке, никогда бы не смогли обнадёжить её горе. «Ну-ну. Посидишь со мной этот год, а в следующем — свобода», — мог он сказать. И не только потому, что он был тем единственным, кто нуждался в добром слове и уже был согрет надеждой её присутствия, но и потому, что он был водой. Стихией, не знающей ни животного, ни человеческого языка. «Только не плачь. Я тоже умею плакать. Тут слезами не поможешь». Ничего. Две пары глаз, не разделённое ни горе, ни надежда. И Ирина отворачивается. И пусть она боится совсем не его, а места рядом с ним, Ирина всё ещё центр теней, теперь глядящая на слишком угловатые, реалистичные тела своих одноклассников, и находящая в них лишь ресницы, спокойные брови и приподнятые уголки губ.
Из окон класса открывается вид на задний двор школы: широкая клумба, пустующая большую часть года, редкие деревянные скамьи с отломленными досками и каменная ограда забора, утешаемая защитой орешников. Там, за забором, не прикрытый ни деревьями, ни высотой ограждения, стоял бывший Дворец Пионеров. Ямы его окон смотрели из уцелевших стен; без крыши на одной половине, другой он смотрел на «Центр» — конечную точку главной дороги, ведущей от шоссе; он не был будущей реконструкцией. Груда кирпичей и шифера — обрушившийся к ногам людей памятник прошлого, теперь не внушающий ничего кроме тоски, чаще — безразличия портретов великих…
Как беззубый рот, фасад смотрел в окна, прямо в лица детей, кричащий о чём-то прошедшем, без языка и опознавательных знаков. Никаких «Здесь был Дворец Пионеров! Родился тогда-то, умер тогда-то». Ни одного пионера на весь городок Х.
Это был единственный год, когда привычность класса была нарушена новизной — на каждой парте стоял маленький куст искусственных цветов, для каждой пары — свой цвет. На парте Ирины и мальчика стояли оранжевые розы.
Мальчик всё ещё улыбался. Отвёрнутый от всех к окну, он смотрел прямо в пасть здания, ничуть не страшась его; кирпичи, как точки на земле, невидимая пыль, витающая в воздухе. Пусто. Лишь он и Дом Пионеров. Было в нём что-то родное, от этого не цвело тепло в мальчишеской груди, нисколько не дрожала кожа в волнении. Без мыслей, казалось даже, без чувств, он подолгу смотрел на предметы, словно был таким же бездыханным — с каменным не сердцем, но душой. Кирпич, кирпич, груда камней — не больше точки, и ничего больше.
С таким же спокойствием он смотрел на бумажные лепестки цветов. Пока из-под одного лепестка не показалось внезапно маленькое чёрное тельце муравья. Показалось и замерло. Мальчик смотрел на него и молчал. Был он единственным, кто отозвался на зов, и два создания встретились глазами. Но я была там. И видела его тоже. Муравей уполз. Урок закончился.
«Это твоя сторона парты, а это — моя. Ничего не трогай. Вот цветок, где он, там начинается граница». Она не первая стала строить границы из страха. Стали бы вы судить тех, кто не пускал чумных к себе на порог? Всем хочется жить. Даже детям.
***
Асик не был ни силён, ни умён. Он был маленьким, с несуразной формой черепа, вечно бритый, всегда в одном и том же, и одним и тем же. По одному и тому же пути он возвращался домой и шёл в обратном направлении — по одному и тому же пути он шёл в центр, к дедушке, или отправлялся посидеть в конце улицы (может быть, кто-нибудь даст ему покататься на велосипеде?). Чёрный костюм, купленный ещё в первый класс, всё тот же серый рюкзак.
Асик не торопился. Шёл медленно, будто бы хромая на одну ногу, а будто бы и нет — худощавый, выставленный границей своих костей; это была неуклюжая походка, которая со временем потеряла своё название и стала просто ему принадлежащей.
Асик был один. Так он шёл вверх по улице к своему дому — осенью, весной, по праздникам, поздно ночью или рядом с кем-нибудь; неважно, с кем быть одному, какое это будет множество — десяток, или всего ты да твоя тень; значит ли это что-нибудь, если единичность, одинаковость — это как цвет твоих глаз или рука, которой ты тянешься за чем-нибудь, за кем-нибудь. Весь он был в том году как улыбка, оставленная без ответа. И если внутри него и жил человек, который смеётся — никто не видел; не видел и он, потому что не знал куда смотреть.
Он взбирался вверх по тропе. Это была продолжающаяся улица главной дороги, носящая название вождя Советского Союза, с такими же домами, как и повсюду в городке — кирпич или блок, блёклый, иногда выкрашенный и вздутый, окна в деревянной раме, завешенные тюлем, и безликие железные ворота, отличающиеся лишь цветом. Чем выше, дальше от центра городка, тем резче воздух, уже тропа, вздутее краска; и если в начале пути он видел аккуратные железные калитки, прилегающие к каждому дому, то потом — только кривые, как зубы здешнего пастуха Робинзона, штыки заборов.
Очень часто пустынная, но почти никогда — в обед, дорога, по которой Асик шёл с теми, чьи уроки тоже подошли к концу; шёл, уткнувшись в землю, или оглядываясь на них, но очень скоро оставался один, взбираясь на отшиб тропинки, и только потом заворачивая к голубым воротам.
Лязг железа, шаги, лестница в пять ступеней, заваленная обувью, и дверь, раскрытая настежь. Всё ещё обласканные летним зноем, хозяева не запирались от прохлады сентября.
Внутренний дворик остаётся позади. Асик не поднимает голову, входя в сумрачный коридор дома. Бросает рюкзак прямо на пляшущую на деревянных полах тень движущейся листвы орешника. Две комнаты с правого бока, две — с левого, и в конце залитая светом дверь, ведущая на задний двор.
Мама выплывает из арки первой от входной двери комнаты: короткая джинсовая юбка, усыпанная блёстками у карманов спереди и сзади. Голые колени, волосы оттенка рыжей охры, уходящие за обтянутые голубой тканью рубашки плечи, пока рубашка просвечивала пухлые руки и бугорок живота. Узкие щиколотки, замкнутые ремешком туфель, и рука, надевающая кольца серёг. Она торопится к зеркалу, подвешенному в коридоре без рамы, и смотрит на себя. Расстёгивает верхние пуговицы рубашки. Такие женщины не стесняются прыщей на голенях или вздутых вен в сгибе. Она оборачивается к нему не сразу — впрочем, он ничего не говорит. Она подходит к нему, неспешна. Стук каблука о дерево, налившиеся кровью колени, и она — такое близкое лицо красных губ, розовое дерево век и болезненная румяность щёк, такая близкая мама. Красивая.
— Не буди папу.
Она выпрямилась. Поправила юбку, вздохнула. Готова. В спину ей смотрит тусклость синеющего солнца, а лицо погрузилось во мрак внутреннего дворика. Асик слышит, как в дальней комнате тихо шумит телевизор, но следует за мамой, спускающейся по лестнице из пяти ступеней. У его шагов нет звука, но она слышит каждый. Их взгляды встречаются, и в сумраке, скрытая листвой деревьев, внезапно она стала смотреть на него как мама, которой она станет через пятнадцать лет — как свежевыкрашенная стена их дома, с выпирающими сосудами потрескавшегося камня; под слоем пудры и красноты проступала каждая её морщинка, и, внезапно, она оказалось такой бледной, какой часто бывала, когда её никто не видел. Лишь смотрящий в щель не захлопнутой двери ребенок. Потусторонне, сквозь прохладу потемневшего неба, она хватает его за локоть. Босой, он стоит у самого края второй ступени, готовый последовать за ней, когда она говорит только:
— Не буди папу. Будь тихим.
И оставляет на его лбу красный след помады, отчего-то напоминающий рану. Это была рана, колющая теплотой, кровоточащая нежностью и болью.
Её слова теряются в шуме ветра. И он провожает её взглядом до тех пор, пока звук железа не нарушает послеобеденную сонливость. Провожает её руки, цепляющиеся за ремешок белой сумочки обглоданными ногтями, выкрашенными в цвет фуксии. Её ноги как всегда волнующе спокойные. Конечно, он за ней не следует.
Асик обходит стол в коридоре, идёт к голосам: зелёный экран телевизора, мельтешащие человечески с мячом и спящее тело, разваленное вдоль дивана. Папа.
Ничего особенного — тесная комната, диван, телевизор, палас, стойка шкафа, заполненная проводами, да зелёное стекло бутылок у изголовья кровати спящего. Крошечное окно распахнуто и не прикрыто. Тонкая нить проводка лампы под потолком и темень, в которой жужжит невидимый комар. Плотный воздух, а в нём брожение, пыль, долгая недвижимость тела, его соки — и всё ещё папа. С закинутой на спинку дивана рукой, мирный и тихий; громкий лишь самую малость — дыханием. Из-под белой майки, давно сошедшей в размере, выпячивается мягкость пухлого живота, обитая чёрными волосками, совсем как над его губой. Асик подбирается ближе, без дыхания, красный от волнения. Совсем как над губой… Бусина пупка, застрявшая в ней шерсть одежды и запах, столько запахов… Вот бы прижаться к ней, к этой мягкости, как к подушке, и обнять, уткнуться, размягчиться следом, стать влажной ватой. Проспать бы до прихода мамы, и пусть папа ничего не говорит, будто он и есть его сон…
Но мягкость эта — недоступная. Вздымающаяся, зовущая, она уходит, совсем как облако, когда Асик скрывается за дверью и идёт следом, совсем не далеко — на задний двор.
Он невелик размером: места — на два удара мячом. Мутный внезапной синеватостью, с миндальной пылью волнующегося воздуха, двор был пуст вдоль и поперёк, за исключением одного дерева, упирающегося в деревянный забор размером по пояс; он просвечивал пейзаж небольшого склона, на котором непримечательно высились дома: отвёрнутые окнами вглубь улицы стены построек, крыши цвета спелой черешни, и повсюду — земля. Где-то вспаханная, кое-как взбитая волосом — зеленью, где-то — протоптанная. Вся она была окрашена кислотностью предстоящей грозы.
Асик бредёт к деревцу растерянностью висевших по бокам рук, накренённостью шеи, и всё у Асика цвета переломанной кожи, особенно — опущенные глаза. Деревце молодое, Асик не знает названия. Оно завалено серыми камешками размером с грецкий орех. Коленка к коленке мальчик садится неподалеку, берёт пару камней во влажные ладони.
Как здорово они касаются друг друга, так, словно знают друг друга; перестукиваясь, они разговаривают — это целый неисследованный диалект вещей, и на одно недолгое мгновение кажется, что во внимании Асика мелькает понимание. Весь разговор целиком он слушает, склонённый над парой знакомых почти радостно, пока не поднимается с земли, не отходит на пару шагов и не заводит руку за голову. Стук, один, другой — они ударяются, падают — о молодую кору, о землю, а потом заново: поднимается рука, заводится за шею, и пара летит, уже без разговора.
Разве равнодушие ребёнка не похоже на бездвижность покойника, безмолвный ужас? Иногда оно смотрит на тебя, и глаза искусственные — глаза куклы, которые черны, как бездна, и тогда смотреть в ответ стыдно, нехорошо, совестно. Природу не трогают предрассудки ни перед лицом смерти, ни перед лицом рождения — не дрожит ни земля, ни небо. Деревья стоят покойно, и всё вокруг полно жизнью, больше — молчанием стороннего наблюдателя, и когда начинается извержение, землетрясение — это разговор, так же равнодушно обыденный. Стук, один, другой. Спящие просыпаются.
Раздаётся шорох. Асик оборачивается на знакомый шум, но видит лишь пустующую арку раскрытой двери. И тишина снова наполняется лишь проступающим ветром, прежде чем плечи ребёнка не вздрагивают и раздаётся вопль:
— Асик!
В ладошке мальчика осталось два нагретых камня. За воплем следует эхо грузных шагов отца, и его шатающаяся фигура проявляется в тусклом свете. Его нога затекла, глаза в жёлтой копоти, щурящиеся, заспанные; он висит на пороге, внезапный, неожиданно такой незнакомый, говорит:
— Иди-ка сюда, два-три слова… тебе скажу.
Мальчик бросается к забору, утыкается в его угол всем телом, так, словно это ванна, а за окном — скорая бомба. Вишнёвые крыши, отсутствующие окна — всё отвернуто, почти что слепо. Пьяный шаг отца, весь путь до забора — протоптанная дорога. За забором — грозовые тучи, уплывающие на восток. И всё мирно, спокойно, как сиреневый набухший синяк. Только стук — один, другой — как древний язык тел, предметов — мелодия, раздуваемая ветром.
***
Людмила Васильевна обтянута тонкой тканью платка в узорах индийского мотива. За своим рабочим столом она лишена туловища, лишь едкий зелёный маникюр выглядывает из-под линии дерева, и голова, обрамлённая чёрной оправой очков, за которой часто суженный, подозревающий взгляд дрейфует по согнутым над учебниками макушкам учеников.
В её руках мобильный телефон — стучащий звук, удар по кнопкам. Удар витал в воздухе так же, как витало слово «проступок».
— Олечка! Где ты? Всё утро тебя жду… Эти сидят, опять двадцать пять. Ничего не сделали… Всё, я тут. Рацу ардам.Приходи.
На первой парте прямо перед ней сидит беспарный ребенок: блондинистые волосы, голубой взгляд — настоящий скиф, своему предку едва доходящий до голени. На его щеке странного рода красный отпечаток — что-то фигурное, но незамысловатое — узорчатый овал, походящий на форму кольца. Было такое кольцо у Людмилы Васильевны, правда, то было обёрнуто лицом к линии жизни. Когда её подбородок краснел от гнева и дрожи, а зубы становились хрустом, она разворачивала его для размаха. Скифа он касался куда чаще, чем Рины или даже Асика. Другим полагалось выпрямлять спины, делать парочку вдохов и выдохов, в общем, готовиться — и тогда учебник входил в соприкосновение с головой ученика в физическом мире, но в нём царило равноправие — каждому по равному количеству соприкосновений, одному или трём, не больше.
Асик играл в гляделки с буквами каждого языка, который писался в книжках. Будь то осетинский, единственный на котором он говорил, или русский, который он лишь слушал, — он был обречён проигрывать. Язык становился настоящим предателем на бумаге — палочки, точки, закорючки, точки с хвостиками, как у девочек на затылках, две точки — как перевёрнутые глаза, и всё совсем как шалаш, в котором не спрячешься ни от грозы, ни от ночи. Бесполезный шалаш, ничего больше. Любая ветка и закорючка куда полезнее. Бумага предаёт язык?
Скоро дверь в класс распахнулась. Ученики вышли из оцепенения и поднялись с мест.
— Здравствуйте!
— Хотя бы это умеете. Садитесь-садитесь!
Олечка была миниатюрной женщиной лет пятидесяти, с рыжими, такими же короткими, как у Людмилы, волосами, и глазами за пазухой очков. Разделяла она также любовь подруги к разнообразным платкам. Вместе они оборачивались в них и скрещивали руки в каморке библиотеки на втором этаже, в столовой, в учительской, дома… И разговаривали.
— Какое колечко…
Библиотекарь подплыла к учительскому столу, и Скиф подпрыгнул с места, поднося свободный стул к частой гостье. В классе раздался робкий короткий шёпот заново допущенных к жизни детей. И если громкость и количество слов были ограничены, то возможность переглядываться — никогда.
— Да, мне Серёжа подарил…
Женщины сели рядом. Острые квадратные колени Олечки, обтянутые чёрным тонким капроном колготок, глядели на лица детей, которые украдкой бросали взгляды на озирающуюся по кругу опущенных голов женщину. Всё ещё порабощённые заданием вызубрить правила — им были доступны лишь колени, квадратные, угловатые, мясистые.
— Ну, что?
— Как видишь, — Людмила Васильевна машет рукой. — Ничего. Так замотали меня, я аж вспотела.
— Совсем ничего не выучили?
— Совсем ничего. Весь день с ними мучаюсь.
Да, хороший класс тебе попался.
Библиотекарь любила долгий зрительный контакт с напряжёнными спинами детей, любила ловить их заискивающие взгляды, лишать надежды на улыбку, смотреть — смотреть подолгу, как вызванный для окончательного вердикта судья, заранее знающий вердикт. Виновен.
— И не говори. Не выучили еще? Давайте по очереди. Начинай. — Она кивает Скифу.
Запинаясь и медля когда-то герой поднимается над партой. Весь его ответ тих и робок, словно перекрикиваемый пятном щеки — Скиф исхудал, потерялся в седом цвете лица, временами разбавленным ещё одним цветом страха — краснотой щёк. Прямо над его головой, за потолком преподавала биологию его мама. Мама не обволакивала его пышностью своей фигуры; не было материнского крыла, и сквозь потолок просачивалась лишь слепота выбора, болезни иного рода. На то он герой, на то Скиф белоснежен, как горный хребет — судьба, всё дело в ней. Слово, заменяющее смысл и всевозможные жизненные оголённости. Звенело в тишине недоступное ребёнку право, скрытое; когда вырастешь — поймёшь обязательно. Скифа занесло из далёкого в круг лесополосы — чтобы бледнеть, чтобы краснеть, чтобы плакать, чтобы стать героем уже нового времени. А в новом времени, изнутри горных хребтов — оказалось, место героя занято прошлым.
Ребёнок сел на место. Поднялся второй, третий. Пока не поднялся последний.
— А этот до сих пор ничего не знает?
Мелководье её глаз обратилось к Асику.
— А когда тут знать что-то?Ты забыла, кто его родители?
— Я не знакома, но, может быть, есть прогресс.
— Он даже алфавит не знает, о чём ты говоришь? — в глазах обеих облик мальчика блёк, пропадал в черноте не сводящихся, моргающих век. Они преследовали его недвижимость со спокойствием человека, ожидающего мёртвой плоти. — Ты видела, в каком виде она машины ловит на повороте? Будет у неё время ребёнка учить..Она снова беременна. — заискивающе кивает Людмила Васильевна.
— Ты права. Осетинский алфавит тоже не знает?
— А ты спроси его.
Библиотекарь махнула рукой классу:
— Дайте ему учебник.
В пределе шума поднимающегося портфеля, тела, стула, руки — голос говорил снова:
— Три года с ним уже мучаюсь. Говорила Альбине, чтобы она оставила его на второй год. Что ты думаешь? Отказываются его брать все. Не удивительно. Знала бы я — обязательно бы отказалась тоже. Теперь мне мучайся.
— А почему его в интернат не сдают? Видно же, что ребенок отсталый.
— Да кто его знает, Олечка! Я вообще думала первое время, что он притворяется, приходит из дома всё время как в первый раз, совсем ничего не запоминает.
— Да. Пушкин, говорят, тоже двоечником был.
— Пушкин нам незачем, есть свои примеры.
Учебник лежал перед Асиком раскрытой страницей алфавита, который мало отличался от русского.
— Асик, начни читать на открытой странице.
Асик, блёклый не только веками смотрителей, но и кожей тела, смотрит в недра книжного листа. Приветливый ласковый голос классной руководительницы точит тишину класса. А в глубине страниц — веточка, камешек, штыки забора, плевок на асфальте — так плюют папа и дедушка.
—Прочти хотя бы одну букву!
Ребёнок утыкается в одно единственное, что знает буквой. «А». Не помнил он в тот день как произнести её, как рассказать соприкосновение её веточек. А если бы не так, осмелившись рассказать — буква бы стала криком.
— Ты видела? — раздулась Людмила.
— С этим понятно. А та, которая рядом с ним сидит? — Олечка осталась холодной, подобно камню её коленей.
— Эта по-осетински ни «б», ни «м».
Олечка посмотрела на часы запястья. Женщины переглянулись. Раздутая, прикрывая внешнюю горечь, завернувшись в платок, Людмила Васильевна поднялась из-за стола, а за ней следом и подруга. Вечер сгущался во дне, Ирочка обронила: «Осень будет холодной».
— Сидите тихо, я сейчас вернусь. Если один звук услышу — буду разговаривать с вами по-другому. Я тут, недалеко.
Дверь захлопывается. По комнате проносится полуобщий вздох облегчения.
— Сколько они разговаривают!
— Вы что-нибудь прочитали?
— Я ничего не запомнил.
Не запланированная перемена без звонка, и класс из семи маленьких людей собирается в полукруг говорящих и молчащих: первые размахивают руками, вторые — стоят позади, два типа составляют линии и точки, благодаря выбивающимся из полукруга немым, незащищённым трусам — переводилось всегда по-разному. В тот день точки и линии гласили: «Воздух во мне имеет остриё кинжала, мое горло проткнуто, оно — кладезь умерщвленных слов и предложений, раскол их в алфавите, это где каждая буква — могила. Мой язык растерзан, он — клочки, вихрящиеся на ветру непереводимого многоголосия. Если ты прикоснёшься ко мне — я стану паром, я стану пылью, я преклоню колени. Обними меня».
Мальчик повис в воздухе между одноклассниками, из кожи его торчат дыры без крови. Когда в них входит по пальцу, он слышит:
— Ты совсем, что ли, читать не умеешь? — говорит одноклассник с перекошенной переносицей.
— Да он и говорит с трудом, — вставляет Рина, скрещивая руки.
— Может, он больной? — Скиф стоит почтенно в линии высказывания.
— Не знаю, — Рина улыбается. — Они же сказали, что его мама ловит машины на повороте.
— Тогда понятно. Смотрите, какая у него кожа. Наверное, цыган какой-нибудь его отец.
— Я видел его отца, — хмурится кривой перегородкой. — Он нормальный.
— Он-то нормальный, но не точно, что отец, — поднимает брови девочка.
— У нас здесь цыган! — кричит Скиф.
Круг был узок — пары рук коротки и не малочисленны. Асик стоял в центре, будто бы блестящий предмет, или высеченная в материи молитва — так прыгали вокруг его плечей. Он улыбался. Потому что хотел улыбаться им так же, как улыбались они, пока кружились вокруг его глаз, словно сферы. И было совсем не важно, что они говорили, ведь это был самый первый раз, когда они улыбались ему одному. Он был планетой зарождения жизни. Такая абстракция кипела, трепетала в кружении сфер, так ново и чисто ощущалась жизнь в то мгновение, когда хохот проник в его сердце, и его тело стало мягким, бескожим. И он любил их.
Раздался шум за дверью. Никто не заметил. «ЦЫГАН, ЦЫГАН, ЦЫГАН». Асик сделал шаг навстречу выходу из круга. Или навстречу кому-то из одноклассников. Он был слишком близко. Столкновение отбросило его обратно, прямо в эпицентр. Может быть, был он вовсе не планетой? Может быть, это было падение, а они — вихрь лживого принятия в атмосферу? Куда он падал: в одно из триллионов неизведанных тел космоса, в чёрную дыру, или в простое, окончательно ровное безразличие человеческого смеха?
— Отпустите его, ему неприятно!
Ирина стояла позади, вне прыжка, скрестив руки на груди. На ней висело пятно тревоги, несовместимой и лишней, внезапно органической субстанции, прилипшей к ней изнутри.
Асик смотрел на свои старые чёрные туфли. Запястья его обхватили друг друга, плечи поджались. Через мгновение его искажённое лицо разразилось безмолвным криком истомы замкнутого в пространстве животного.
Хоровод не был нарушен ни восклицанием, ни приближающимся воплем, ни тишиной школьного коридора. Ирина подошла вплотную к Кривому Перегородкой, и почти вошла внутрь чужого падения. Ладони размыкаются. Вспотевшие, запыхавшиеся дети не снимают улыбок.
— Ты что, влюбилась? — спрашивает Рина. Противоположная Ирине, она стоит во главе хихикающих.
— Я? Да ни за что в жизни. Просто это плохо.
— Мы же шутим.
— Мне мама говорит, что нельзя так шутить.
Ирина прошла в разрозненный круг и взяла Асика за локоть. В этом не было ни дружбы, ни признания, ни даже поддержи. Обычная рука и обычный локоть — ничего, кроме касания, не связывало их, разве что теперь он поднял на неё глаза, как маленький муравей, застывший на месте — казалось, в нём не было ни признательности, ни благодарности — лишь один животный ужас замкнутого в общественном порядке маленького создания, не знающего предписаний.
Ирина вывела своего соседа по парте вон из окружённости, увела и посадила за стол.
Учительница не показалась из-за двери. Раздался звонок с урока. Девочка уселась рядом с соседом. Когда в их спины ударялись слова — повторяющееся «жених и невеста» — она склонились над партой, перейдя границу, созданную и начерченную ею же, и стала говорить. И теперь произнесённое омыло мальчика холодом льющегося водяного потока, разливающегося по бокам, остужая горящую бескожесть от падения сквозь атмосферу. Будто бы тогда, испытав разность одного целого, он перестал быть стихией, и ею стала она. Он не понимал, чего она хочет, что говорит. За окном выл ветер. Классы и коридоры наполнились шумом высвобожденных от занятий детей.
— Ты понял меня? Не обращай на них внимания, они глупые, — гордая собой, Ирина оглянулась на ухмыляющихся, и пододвинула книгу к его скрещённым на столе ладоням, — Давай почитаем вместе.
Ритм выравнивается, дыхания замедляются, а глаза стекленеют. В погружённости заставленного тучей солнца дети расхаживали по классу. Вскоре приходит Людмила, указывая рассаживаться по местам. Короткий кусок шума, шуршание дерева стульев — Ирина забирает свою книгу.
— У тебя есть учебник? У нас сейчас осетинская литература. Посмотри у себя в портфеле.
Достав книгу и положив её перед собой, Асик взглянул на Ирину и замер. Она смотрела на него и улыбалась. Еле заметно, уже потухающее, страшно слабо, но улыбалась — ему! Её косы лежали вдоль спины. Как в тот день, прошедший совсем недавно.
— Открываем домашнее задание. Кто сделал?
Зашуршали листы бумаги, опустились головы, потухли огни улыбок и взглядов.
— Спасибо.
Девичья ладонь останавливается над страницей. Ирина обернулась медленно. Осторожность её поворотов хранила судорожность холода застывших мыслей, морозность дрожащих рек под оледеневшей кожей, сожаление. Неморгающие глаза нашли соседа по парте, но он больше не глядел на неё. Ветреность листвы напоминала о крови. В тот час замерло всё. Лишь деревья, тревожащиеся ветром, да опущенная голова — всё, что осталось.
Больше Ирина не улыбалась ему никогда.
***
В доме витает запах прошедшего детства. Этот запах, вспомнившись человеку спустя годы, скажет не только о конце, но и о сути — он явится воспоминанием не о дне, где пусто и холодно, но о минуте, когда мама гладит по голове, и папа спит под жужжание комара. Там мягко и влажно, почти что темно, и там ты — живой. Такие вещи, заканчивающиеся, прошедшие, окутанные ностальгией высокого возраста, откуда не увидеть пощёчины или кожи ремня, стирают зло, а иногда — раскрашивают его в красный. Понимаете, хочется помнить вздымающийся живот, выпирающую лопатку, растягивающиеся в улыбке две линии когда-то целующих тебя губ. А вспомнишь дрожь земли под ногами, немой вопрос, пустые бутылки у изголовья — становишься маленьким, словно насекомое. Такие запахи оседают надолго. Когда особенный вздох заискрится воспоминанием — ты вспомнишь не то, что детство закончилось, а то, что оно когда-то было.
В тот день в доме было тихо. Из-за угла раскрытой настежь двери доносился шум телевизора, ткани на окнах танцевали моросью. Женщины не было ни в одной из комнат, Асику не нужно было проверять каждую, чтобы знать. Когда мама дома, воздух становится плотным, наполненным присутствием полубогини, снизошедшей к тебе, и неважно, как больно может быть.
Асик стоит в переднем дворике. Асфальт завален грудой хлама, обрывками металлолома, безобразностью. Через год чёрный костюм, купленный в первый класс, совсем сойдёт с этих опущенных плеч, и придётся покупать новый. Появившись на первый звонок следующего года, ученик четвёртого класса будет бродить по школе в новом костюме, одухотворённый его красотой и безупречностью — его плечи расправятся совсем ненадолго, забудется прошлое, и кто-то, возможно, подумает про него, что он изменился. А костюм постареет через неделю-другую. И всё вернётся на круги своя.
В груде хлама завалялось зеркало, оно было прислонено ко внутренней стене бетонного забора, ограждающего лишь правую и левую сторону дома. Запятнанное, выброшенное — оно отражало недвижимую фигуру мальчика, окружающий его беспорядок вещей, его беспрестанное дыхание, моргание, биение и шаг, сделанный вперед. Асик встал ближе. Быть может, чтобы всмотреться? С той стороны зазеркалья на него глядело истончённое лицо, пустошь человеческих девяти лет. Впустить ребенка в тёмное нечто размышления? Кто даёт одобрение, когда? Как заслужить чести быть выбранным?
Немного выждав, вглядывающийся в отражение своих черт ребёнок, будто убедившись в том, что внутри действительно он, Асик — мальчик крутит головой, приоткрывает рот.
— А… Б… В… АВ… Г…
Из-под крепко прижатой к земле ноги выглядывает окурок, плотно придавленный за глотку. Тишина была полна постороннего, а его глаза — счастья.
— А-Б-В-Г! А-В! В! А!..
Асик бросает портфель с плеч, бежит строго вон за ворота, на улицу. Улица была пустынна, а окна — занавешены. Асик пустился бежать вверх по улице, вон из линии приросших друг к другу домов, к просёлочной дороге.
Там, в пустоши безлюдья, на объятой постройками улице, а дальше и потом — в поле вьющихся трав — ещё десяток минут будет звучать крик, звучание одной маленькой жизни на краю мира. Навстречу ему неслось сплошное и капризное — безликая вечность, многоликое мучение, само ничто.
«Казалось тогда, что кто-то ждёт меня впереди, встречает, что кто-то знает меня. Так изголодался я по звучанию собственного голоса, таким большим я стал в мгновение, когда разразился буквами, которые, оказывается, помню. Никто не встретил меня. И никто не знал. Я вернулся домой той же дорогой, что пришёл. И ничто не ждало меня впереди. Кроме огня и стали».
Глава 2
Быт среднестатистического семейства городка Х. равнялся быту семьи статуса ниже среднего. А быт семейства выше составлял небольшой выход за стандарт — ванная комната, современный унитаз со сливным бачком — вот и вся роскошь. Отнимите это — все станут равны.
Прошло четыре года. Асик переходит в шестой класс и становится самым высоким среди одноклассников. Его голова была начисто лишена волос, а ладони стали крупными, разросшимися, словно ветви — стали руками рабочего человека, с засохшей копотью на запястье.
Обычно он и его семья купались в тазике ядовитого розового цвета, который выносился на задний двор, прямо против срубленного деревца, ставился на землю, покрытую разбросанными повсюду камешками. У Асика появилось двое новых лиц — брат и сестра. Младшим помогала мама, поливала их из ковша, старшему же приходилось справляться в одиночку. В одной руке ковш, в другой — мыло.
Умения Асика в чтении и правописании не изменились нисколько. Но, как у ученика средней школы, у него было безоговорочное преимущество — он никогда не опаздывал в школу и никогда не пропускал ни дня. Это было преимущество, не видимое для глаз.
В то утро октября туман обволакивал на шаг вперёд. Словно в холодном облаке, Асик шёл в школу медленным шагом, спрятав ладони в карманы куртки. Подошва пропускала ветер, и мальчик как никто знал, какая сегодня озябшая земля.
Временами туман желтел, рассеивался. Мальчик фантазировал, что каждая белая частичка тумана — чья-то душа, не прошедшая ритуала инициации. Ему казалось, что все станут туманностью, когда придёт время умирать.
Спустя десять минут дороги стал виднеться «Центр» и зелёная крыша школы. Внезапно, словно кто-то выдохнул в пространство, непроглядная сопровождающая серость развелась вдоль дороги. Жёлтый луч света пронзил околевшую землю, тут и там сражая облачную тьму. Асик увидел магазин, а вскоре услышал звон колокольчика открывающейся двери, из которой вышла крошечная компания друзей. Если бы голос, так приветливо адресованный не ему, мог порезать кожу, Асик непременно лежал бы в луже собственной крови. В медленном приближении к неподвижности школьного двора луч света сделал последний выпад, упав ровно в собравшуюся на дороге лужу прошедшего дождя; она была похожа на посветлевшую грусть.
В лужу света погрузилась нога одного из компании, разбрызгав луч на своих товарищей. Компания разразилась хохотом. Осмеянный, промокший ногой стыдливо оглянулся. На него смотрели стеклянные глаза Асика. Все продолжили путь.
***
В залах школы пахло затхлостью, сгущённой спёртостью и вчерашней уборкой. Спустя час после начала учебного дня залы заполнялись запахом завтраков из столовой первого этажа, а ещё через час к ней выдвигались немногочисленные легионы младшеклассников. Дети без пособия, перешагнувшие за пятый класс, оставались на попечение своих карманных денег. Те, у кого таких не водилось, без стеснения слонялись у раскрытых дверей столовой в ожидании детей, выбегающих с коркой хлеба. Иногда возникала просьба. Тогда корок хлеба выносилось не меньше двух.
Асик стоял среди прочих. Облокотившись о стену, он осматривал зелёные столики, встающих из-за них людей, их руки, танцующие щёки. Посуда относилась в подсобку, погружённую в полумрак, самими детьми. Неподалёку от входа закончил завтрак мальчишка в красных кедах. Заправлял рубашку в штаны; голова с торчащими соломенными волосами повернулась и приметила Асика, махнувшего рукой на сетку хлебницы. Мальчишка убежал убирать со стола, а, выбежав из подсобки, схватил с ближайшего стола две корки хлеба, одну из которых торопливо всунул в вытянутую у порога ладонь просящего, бегом скрывшись за поворотом коридора.
Радуясь в одиночку, Асик поднёс завтрак к раскрытым губам. Но внезапно сжавшаяся рука оказалась пустой, а мелкий откусанный кусок — последним. Тёплая тень за спиной. Мальчик, наступивший на лужу света — вор — стоял дерзкой улыбкой и оживлённо жевал выпрошенную Асиком мякоть. Нет и мысли — лишь нахмуренные брови непонимания, когда Асик выбрасывает руку вперёд, забирая своё, справедливо принадлежащее ему одному. Ладонь-ветвь промахивается, хватает сквозняк продуваемого помещения — снующие в школу и вон из неё ученики, шумные хлопки тяжёлых дверей и солнце, вытянувшееся на болезненно сером небосводе.
— Спасибо
Он хлопает его по плечу. Прожёвывает последний кусок мякоти. Убегает по собственным делам. Выброшенный из мира букв, Асик непременно хотел подумать: «Ко мне прикоснулся человек». Но он только стоял. Столовая опустошается, гул посуды и голосов затихает. Звенит приглашение на урок. На плече Асика остаётся след, холод неизвестного.
Когда Асик взбегает по лестнице широкими шагами, поспевая к уроку русской литературы, его класс стоит в коридоре в ожидании учительского присутствия. Рина уехала в Армению пару лет назад, и одноклассники потеряли интерес к пристальному вниманию к чужим особенностям. На место заводилы класса приехала нежная девочка из соседнего города, Мадлена — утончённая стройностью фигуры, романтичная леди стала влюблённостью многих — конечно, она не хотела никого дразнить. Вражда утихла.
Таймураз — прилежный ученик, любящий футбол и танцы, Скиф — его верный соратник, Зара — старшая дочь многодетной семьи, Русик — «перекошенный перегородкой» и Ирина.
Девочки сидели на подоконнике, прижав икры к горячим батареям.
Родима Вольдемаровна имела привычку появляться спокойным шагом и тогда, когда опаздывала открыть дверь своим ученикам. За ней шёл шлейф иссушающего пространство парфюма, стук каблуков и нередко — подруга соседнего кабинета, Ольга — заведующая школьной библиотекой. Родима Вольдемаровна часто была обвита увесистыми одеждами: шубой, плотным пальто и висящим по бокам платком.
Это была женщина лет шестидесяти пяти; якобы благородно состарившаяся, она имела выразительные кошачьи черты лица, а движения её были диктованы грацией женщины, воспитанной на русской литературе. Дочь военного, она знала про дисциплину всё, и в том числе необходимость наказания; и имела свой метод обличения чужой неправоты, выработанный за годы практики.
— Чудо, все в сборе. И Ирина здесь — явление Христа народу!
К поднимающейся подбегает Скиф, забрав ключ от двери в кабинет и её сумку. Таймураз скоро заправляет телефон в карман и выпрямляется, девочки спускаются с подоконников и встают в общую группу. Когда дверь была отперта, первой вошла Родима Вольдемаровна.
— Впустите девочек вперёд себя, будьте джентльменами.
Сумка была положена на учительский стол, ключ — аккурат рядом. Школьники рассаживались по местам.
Родима Вольдемаровна была аккуратна, ухожена; она никогда не изменяла себе. В свои шестьдесят два года она была пышущей жизнью старушкой, ничуть на старушку не походящей. Одетая с иголочки, с вызубренными жестами и мимическими выражениями. Садясь за учительский стол, заставленный книгами в высокий ряд, походящий на баррикаду, вся она издавала звон выученного изящества, утончённости, правильности. То ли лилии на её одежде, растущие вниз головой, то ли седой волос, покоящийся на её плечах, или вовсе пальто, криво свисающее со стула, пыль, налётом лежащая на книгах — что-то выдавало её. Тогда движения изящества становились похожими на слизь змеиной изворотливости, тонкость — на истончённость, а правильность — на пепел, очерняющий голое тело. Тогда она походила на сущность, слезливо взирающую ввысь из глубокой ямы. Парфюм её смердел разоблачённой гнилью.
— Откройте окно, как здесь душно. Вчера убирался пятый класс, посмотрите, какие разводы на полу остались. Сегодня убираетесь, если вы не забыли. Чтобы я такого не видела.
Асик прошёл в дальний угол третьего ряда — сел за последнюю парту, повесил рюкзак на спинку стула, уселся за стол, впритык животом. Мадлена раскрыла окно неподалёку от него, а учительница заняла своё место, надев очки; ученики раскрыли учебники, Мадлена вернулась за свой стол.
— Что у нас сейчас, литература, язык?
— Литература, — раздаётся хор голосов.
— Отлично. Я задавала вам два стихотворения. Кто выучил? — два ястребиных глаза осмотрели детей из-под рамы очков. — Что, никто? Поднимите руки, кто выучил.
Немногочисленные руки немногочисленного класса поднялись вверх.
— А ты что, сильно занят был? Почему не выучил?
Скиф сжался над собой, покраснел кожей, опустил взгляд на скрещенные руки, промолчал.
— Понятно всё с тобой, — мальчик был облит вязкой субстанцией стыда и жижей смердящей настойчивости учительского взгляда. — Зара?
— Я выучила только одно.
— Я не понимаю, что такое с нынешним поколением.
Учительница сняла очки, подвязанные мелкой бордовой верёвочкой, и откинулась на спинку стула.
— В наше время даже двоечники учились лучше, чем вы. Они были начитанными; а чтобы прийти на урок неподготовленным — такого вообще не было в СССР. Все были дружными, чистенькими, и дурачились только на переменах. Было серьёзное отношение. А сейчас что? Вчера услышала, как возле магазина мальчики матерятся — меня они не видели. А я к ним подошла, не прошла мимо — наши восьмиклассники. Нет, я понимаю, нравы меняются — но можно матом хотя бы не кричать в самом центре села? А через пару лет они превратятся в тех бездарей, которые колесят по селу в своих приорах, ничего кроме спортивок не надевая. В моё время ходить в спортивной одежде в будний день — да это было стыдно! А теперь ничего кроме этого не знают. Вы от них ничем не отличаетесь, каждый урок одно и то же. Вы хоть отговорки научитесь придумывать, чтобы интересно было слушать. А нет, молчат. Что вы молчите, языки проглотили? Нечего вам сказать? Вот ты, Ирина, выучила ты урок?
— Да, — ответила она дрожащим голосом.
— Выучила, значит. Ну, вставай, мы все во внимании. Хоть одно прочитай.
— Лермонтов Михаил Юрьевич, «Родина».
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит её рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни тёмной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю — за что, не знаю сам —
Её степей холодное молчанье,
Её лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек её, подобные морям;
Просёлочным путём люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
Люблю дымок спалённой жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь жёлтой нивы
Чету белеющих берёз,
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно.
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
— Вот видите, это не сложно. Садись, — Родима осмотрела детей, её губы сморщились. Взгляд остановился на опущенной голове Ирины, — Тебя почему в школе не было, у тебя справка есть?
— Да, есть — я болела.
— Вы с мамой что, эти справки печатаете? Я вот не могу понять такого отношения. Как тебя на учёт до сих пор не поставили? Говоришь, болеешь, в сама разъезжаешь на автобусе до города и обратно. Так не болеют. Что у тебя за мама? Будь у меня такой ребёнок, я бы это так просто не оставила. А она позволяет тебе. Видела твою бабушку, прекрасная женщина — говорит, матери не помогаешь. Что, сложно полы помыть один раз? Да хоть бы пыли чтобы не было, разве так приятно в доме находится? Намочила тряпку, протёрла. Еды у вас, говорит, не бывает. Сложно на работу пойти твоей маме, ты ведь большая уже, и брат твой из школы выпустился — не судьба на работу ему устроится? А такая сейчас молодёжь, лишь бы на шее у родителей сидеть. Хотите, чтобы всё вам на блюдечке пришло с золотой каёмочкой. А так не бывает. Ходи в школу, ты ведь в прошлом году так хорошо училась. Завралась совсем. И маме помогай.
Землетрясение детского сердцебиения не сотрясло ни стен, ни окон, ни портретов великих. Таймураз и Скиф оглянулись, посмеявшись приподнятыми уголками губ.
Родима Вольдемаровна плотнее закуталась в свой платок.
— Асик, закрой окно, совсем уже холодно стало.
Окно было закрыто, Асик вернулся на своё место.
— А ты что-нибудь выучил? — обратилась Родима к мальчику. — Что я сказала тебе выучить? Давай, начинай читать.
Тощая спина мальчика накренилась над столом, головой в двух сантиметрах от листа бумаги, Асик упёрся руками в край стола; губами беззвучный, он проговаривал слог — или просто одну букву. Палец на слове, голова — ещё ниже; ни звука.
— Что ты там бормочешь? Вслух читай.
За окном раздались голоса детей, мчащихся по асфальту в поддеревье небольшой рощи, спрятанной от глаз неподалёку от поляны с торчащими в двух концах воротами.
— Да что же это такое! — ладони Родимы Вольдемаровны с грохотом опустились на дерево стола. — Читай, кому я сказала!
Асик сидел в прихожей дома, за небольшим передвижным столиком, пока мама с папой были в комнате с громким телевизором. Подперев голову ладонью, мальчик смотрел на учебник, где буквы плавали, словно в речке. Мама сказала прочитать всю страницу, а когда она вернётся из комнаты с телевизором — он должен будет читать вслух. Обычно, когда мама так кричит в комнате с папой, Асику нельзя заходить внутрь. Ему нужно ждать, пока мама не откроет дверь. Поэтому он ждёт.
Ноги свисали со стула, до уха доносился голос кукушки, а ткань, повешенная на входе, вилась в воздухе продуваемой прихожей. Из-за раскрытой двери было видно — собирался дождь.
Скоро вышла мама — на ней была розовая майка. Уперевшись рукой в стену, она натягивала красные трусики. Из-за её спины виднелся папин живот, торчащий на диване. По телевизору шёл футбол.
— Ну-ка, что ты у меня тут прочитал, рассказывай.
— Я ничего не могу прочитать, — грустно опустил глаза Асик.
— Как это не можешь, что-за глупости? Давай вместе почитаем, не бойся, это — ничего страшного. Что это за буква?
Мама показала пальцем на первую букву, плавающую рядом с тремя другими. Он уже видел её раньше — никак не вспомнить где, и как её называют люди… Но он знал это сочетание веточек. Он только в первом классе. Ни у кого не получается с первого раза. Его одноклассникам нужно постараться несколько раз, чтобы хорошенько вспомнить, как зовут букву.
— Мамочка, я не понимаю.
— Читай, Асик, — голос мамы посерьёзнел. — Это не сложно. Читай.
В речке было тепло, как летом. Все умели плавать, каждый говорил своё — волшебные заклинания звуков, столкнувшихся друг с другом веточек; в этой речке стояло солнце, шумели деревья, синело небо — как синело пятно под левым глазом Асика. Он стоял на берегу, опустив в речку большой палец ноги. А в речке водились крокодилы и акулы, водяные злые собаки и большие чёрные кошки, которые царапались и шипели. Речка была глубокая, страшная — и ни одного весёлого человека в ней. Мама и папа сохли на берегу. Асик не хотел утонуть — ведь он совсем не знал, как плавать! Но одноклассники стояли в воде по колено.
— Ты меня не слышишь? Кому я сказала? Читай, кому я сказала!
Асик согнулся над книгой.
— Не хочешь?
— Что он сделал? — раздался голос папы, встающего с дивана. — Что ты орёшь?
— Ничего не делает! Посмотри, ничего не понимает — что за ребёнок!
Мальчик поворачивает голову к маме, но она не смотрит. И в нём есть речка — иногда она течёт из его глаз, холодная и пустая — никто в ней не плавает. Мама, отвёрнутая, встаёт и уходит к телевизору. Мама любит смотреть футбол с папой.
— Ты почему не слушаешь маму? Хорз лаппу на да? Лаг на да? Ты не хороший мальчик? Не мужчина?
В доме стучат руки и кости, где-то не смолкает кукушка. На улице разговаривают бабушки. Вечереет.
— Ладно, это бесполезно. Открывайте новую тему в учебниках — там, кажется, Бунин.
Глава 3
После урока класс необычно для себя — совместно — решил отправиться в магазин, купить булочки. Напротив школы, рядом с синей вывеской Почты России, стояло два ближайших магазина; в левом наполовину пустовали прилавки, в правом — прилавки были не интересны, но в обоих одинаково стоял полумрак.
Дети стали выбирать, встав у подножья. В паре метров от лестницы в магазины на сырой земле сидел старик, подперев щёку рукой, он уткнулся в согнутые колени. Говорили, он работал на семью фермеров, разводящих скот — гнал их стадо от скотного двора до холмов, изредка прямо через «Центр».
Его имя было Павел. Густая седая борода, лохмотья волос — он сидел в тёмном джинсе, сверху до низу. Старик вовсе не походил на пастуха или на принадлежащего кому-то слугу. А ещё он никогда не обижал коров. Лишь стукал концом пастушьей палки об асфальт и шёл дальше. Дома его колотили хозяева, а ждал возвращения его один лишь пакет с вещами, который он закопал в земле под оградой хозяйского дома.
Затуманенным взором старик смотрел в землю. Не голоса привлекли его внимание, но близость множества пар ног друг к другу.
— И как будто старая Россия всё же жива, — внезапно произнёс он уставшим, но неожиданно громким голосом. — Воздух спёрт плевой угнетения, царь жив, а социалистический дух воспарит над страной через год только, а может быть, и никогда. Но сейчас же из-за угла появится барская повозка, сравняется с крестьянином, не поведёт и глазом. Где-то в Петрограде прозвучит «Призвать Пушкина сюда!», а над страной повиснет угроза, без имени пока, которая бултыхается в простом человеческом, пахнущем травой и сеном, не названном; когда и учёные мужи внезапно маются в зное знания, равные с людом рабским общей обездвиженностью застывшего в груди крика. И один Бог для народа, да и его уж нет. Как мираж, он вьётся над головами в час красный, а потом уплывает, будто бы сердце придумало его в скорби.
Дети вздрогнули, напуганные бессвязностью неслыханных до сегодня слов. Бывало, поравняется с Павлом ребёнок, да что и говорить — любой взрослый — и силится не смотреть, потому что если посмотришь — он смотрит в ответ, будто бы готовясь заранее встретиться с человеком взглядами; а в глазах его нечто — неприятная субстанция невысказанных слов. Иногда человеку нужен лишь союзник — даже для того, что не обернуть в слова. Потому что тогда кажется, что ты готов воспрянуть ото сна, идти вперёд с верой, проданной когда-то давно. Таким был Павел.
Он пришёл пару лет назад из другой глубинки России, совсем как Горьковский Рыбин, не зная, что повсюду другая глубина. «Ассимиляция наоборот!» — бывало шутил старик. Разве приходят искать правду русскую в чужеродный край родины?
— А у правды нет рода! И нации нет! — резко воскликнул Павел, вскинув руку, заставляя отступить кого-то из детей. — А она как есть, без одежд и лица — так и есть. Это вы её переодеваете и раскрашиваете. Но я знаю. Там, в сердце своём, она одинаковая для всех. От того-то и больно мне, милая, — Павел нашёл за спинами мальчиков лицо Ирины и схватился за голову. — Душа ж её живёт в каждом, но все мы одинокие, живём сами по себе на свете: сами родились, сами и помрём. А собраться нам всем, посмотреть друг на друга, заплакать! Поняли бы мы всё, всё бы поняли, почувствовали, как я чувствую!
Павел спрятал лицо в рукаве джинсовки, глубже прячась в прижатые к груди колени. Одноклассники переглянулись. Из-за их спин вышла Ирина, подошла ближе на пару шагов к вздрагивающей на земле фигуре старика.
— Стой, ты куда?.. — Таймураз прошипел сквозь зубы.
— Дедушка, с вами всё хорошо? — тихо произнесла она.
Почти шёпот. Тайное сочувствие. Павел поднимает заплаканное лицо, будто бы пробуждённый от тревожного сна, лицо его преображается.
— Дедушка, говоришь?..
Ирина стоит, словно лишённая тела, думая, что он похож на Смерть. А щёки Павла влажнеют, улыбаются; кажется, до того не дышащий, Павел задышал легко и радостно, и всё вокруг заискрилось жизнью, ритмом вздымающейся груди старика.
— Ты, милая, поди сюда.
Ирина не сдвигается с места — так ей кажется. А ноги идут ближе, слушаются.
— Не поверишь ты мне, но видел я Пушкина. Всё это рассказал ему! Больше не мог молчать, не смог! Я думал, утешит он меня, как Христос, омоет горечь мою бесконечную, поцелует по-братски. А он — покраснел сначала, потом побледнел, а потом вдруг задрожал весь и залился слезами. И горечь моя была его горечью. Ты думаешь, почему это все так любили Пушкина, а? Это всё потому что душа его вся — как две капли душа правды, но нагая, честная — для народа. И он не смог сказать, чему названья нет — а когда слышали его, видели — понимал народ, что на одном дыхании они все вместе, на последнем издыхании. От того, что доброта его была большая, от того, что излилась душа его вдоль и поперёк, казалось тогда — божеская это сила то, и ширина души тоже божеская. Ан нет! Человек-то он был, как все! Моя в нём кровь была, твоя. От того-то меня всегда в слёзы вело, читая его. Такая нежность брата к брату, чем бы не молвил он.
Говорящий тихий медленный голос прерывается. Смотрит пристально, молчит. Нет страха больше в глаза напротив.
— Я будто внучку обрёл, деточка. Здесь ладони черствеют от работы и у детей. Только у исключительных детей, — доверительно шепчет Павел, наклонившись ближе. — Другие детки тяжести поднимают только для того, чтобы в соседа бросить. Тут такое место: яма с муравьями-переростками. Мне вот часто снится, что эта яма горит. Она разверзнута катаклизмом; так сильно расколота земля, что и небо дрожит. Я вот диву даюсь — никто и не видит, что ли, кроме меня? Но уж больно важно заметить: кто-то поднимает ветку чтобы убрать, а кто-то — чтобы ударить. А кто-то — третий. Но не будем об этом… А четвёртые-то! Как же. Ни коровьего засохшего не видят, ни запаха здешней водицы не чуют. Иногда случается: ударь их, а они палку поднимут, обернутся, а у них и вовсе три!
— Три? — переспрашивает Ирина.
— Эх вы… Люди. Не видите, что в мире творится?
— Что ты здесь забыл? Иди отсюда, я тебе сказала! — раздался высокий писк из приоткрытой дверцы магазина. — Одну вонь разносишь! Иди работай, не продам я тебе водку, и так мне деньги должен! И не сиди здесь, не жди!
— Эх вы, люди… Нелепые обиды. А вдруг не станет меня завтра, жалеть не будешь? — Павел встаёт с земли, ухватившись за стену за собой.
— Ну и пусть, кому какое дело, станет или не станет? Пошёл вон!
— Правильно, и дела ей нет, — улыбается Павел, подмигнув Ирине. — Ну, спасибо, детка, послушала дедушку. Ну, ступай, поздно уже.
— А вы что тут столпились, урок уже десять минут назад как начался! Быстро в школу! — вскрикивает женщина.
Дети срываются с места, позвякивая карманами. Асик — позади всех.
Глава 4
День подходит к концу кое-как. За стенами школы — тишина опустевших кабинетов, нарушаемая лишь редкими шагами задержавшихся случайно учеников. Дверь в школу распахнута, залы и коридоры, продуваемые насквозь, обеспокоены лишь вознёй уборщиц, когда воздух спёрт запахом стирального порошка, замешиваемого в воду для мытья полов, а покой раздаётся шумом движущейся взад и вперёд швабры. В подсобке библиотеки поправляют спадающие с плеч платки женщины, пыль книг оседает на их переносицы, раскрытые в смехе рты, а ближе к двум часам пробуждается актовый зал: в нём кричит полная женщина с глянцевыми белоснежными волосами и обвисшим подбородком; она размахивает руки, заведуя гитарами, балалайками, шахматами и, кажется, жизнями — мифическое животное с пастью в сорока клыках — за ней вьётся длинная юбка коричневых цветов и маленькая подручная помощница пятидесяти лет — с ласковым голосом и лукавыми глазами, она учит играть на балалайках, гитарах, шахматах, а когда дети плачут, поздно спохватившись об украденном — секретно шепчет: «Она полная дура!».
В этом царстве обитает учительница музыки, имеющая длинный бурдюк смазанных гелем кудрей, уходящих в потолок. Преподаватель осетинских танцев, известный хореограф из соседнего посёлка, вечно одевающийся в чёрный. Все свидетели, безмолвные статуи прошлого, потерявшие имена.
Асик шёл в ряду со Скифом и Таймуразом — четверо творческих звёзд стояли в раскрытых дверях актового зала. Меховой платок, высокая копна волос, чёрная водолазка, коричневый подол юбки — и не взгляда в сторону.
Асик заслужил идти рядом с одноклассниками — это умение, отточенное временем. Прогоняемый, обруганный грубостью, насмешкой, Асик научился наглости не двигаться с места, а после — следовать подле, почитая это за честь; на его лице проскальзывала горделивая улыбка. Ему было позволено смотреть футбольный матч на мобильнике Таймураза, но только чтобы не наклоняться слишком близко к экрану — это было важное условие. В мгновения, подобные этим, он чувствовал себя частью чего-то большего и был почти счастлив.
Трое школьников вышли за распахнутые двери школы и спустились с короткой ступенчатой лестницы под деревья близлежащей рощи, в которой был спрятан могучий дуб-старик, и каменистое здание спортивной секции с решётками на окнах. Под ногами хрустел гравий, пахло вазелином; двое друзей обсуждали Лионеля Месси, Асик плёлся рядом — пока гул птичьих голосов не сменился гулом переговаривающихся между собой борцов, стоящих в очередях к редким тренажёрам, прижатым к правой стене — на матах сцепились двое спортсменов.
— Кого я вижу!— раздались приветствия вошедшим.
Все участники спортивной секции были старше них в два раза. Таймураз и Скиф не были частыми гостями здешних мест — не доросли, Асик — подавно. В тот день он вошёл в новый дивный мир, закрытый для него навечно с самого начала. Щуплый, хилый ученик шестого класса. И чуть менее щуплые и хилые — его одноклассники.
— Что вы тут забыли, заблудились? — оскалился сидящий на тренажёре ученик девятого класса Алан.
Мальчики неловко посмеялись. Присутствующие обменялись рукопожатиями.
— Ну что, будете сегодня работать или позевать пришли опять?
— Не, мы больше по футболу, — откликается Таймураз.
— А что вы сюда приперлись тогда, футбольное поле тут рядом?
— Поздороваться зашли.
— А, поздороваться, — хмыкает Алан, поднимаясь с тренажёра. — А обезьяну зачем привели?
— Мы его не приводили, он сам за нами шёл, — взбудоражился Скиф, нахмурив брови.
— Ты что, пацан, зачем за людьми ходишь? Устали они от тебя, посмотри какие недовольные.
— Да он наш одноклассник, — пытается посмеяться Таймураз.
— Ты их одноклассник, что ли? В школе учишься? Да… Я помню, видел, скачешь по коридорам. Поди сюда.
Асик не понимает, но подчиняется. Одноклассники остаются позади, а он встаёт перед Аланом. Он чувствует запах чужого тела, наблюдает холодный взгляд сощуренных глаз и каплю пота, скатывающуюся по белой шее.
— Так, я знаю что делать. Пошли-ка за мной, и вы двое тоже, он же с вами.
В огромном зале спортивной секции стоят арки в неустроенные помещения, оставленные под ремонт много лет назад. В заваленных мусором строительных материалов, сигаретного пепла и скомканных остатков фольги, еле освещённых, в них хранилась ненужная школе мебель и темнота голых стен и сырого пола, с проглядываемой кое-где голой землёй.
За Аланом следуют друзья, оставив свои дела; Асику не страшно. Таковы правила дивных миров. Нужно пройти испытание, чтобы заслужить честь быть рядом.
Компания входит в дальнее помещение, лишённое окон, завернув налево — комната полнится сигаретным дымом и парой парней, сидящих на двух отломанных друг от друга частях бывшего кресла. Таймураз и Скиф поздоровались с сидящими, не видевшиеся пожали друг другу руки. Движущиеся головы освещала мелкая лампочка под потолком, лица — огонь вспыхивающих зажигалок.
Асику рук не жмут. Алан затягивается, обращённый ко всем спиной — он говорит с приятелем, кажется, совсем позабыв, зачем пришёл. Асик видит всех по очереди заново, не в силах разглядеть лишь сидящего в слабо освещённом углу помещения человека. Ему знакома лишь одна сторона его лица, нечаянно попадающая в свет от покрытой грязью лампочки. В ней он видит вора. В то мгновение мальчик пугается, судорожно осматриваясь по сторонам, и понимает, что стоит в самом центре комнаты.
Алан бросает сигарету на землю и хлопает в ладоши.
— Так. Чтобы было понятно — нельзя пускать в наш второй дом кого попало. Так говорит тренер — сегодня его нет, поэтому на мне, как на самом старшем, лежит ответственность.
— Мальчик, — Алан подходит к Асику и кладёт ладонь на его плечо, — сейчас я буду тебя бить, а ты будешь отбиваться. Или не будешь — на твоё усмотрение, — скалящийся девятиклассник сплёвывает. — А вы прекратите дымить, кто-нибудь может прийти.
Компания разошлась, встав в удобный для удерживания и наблюдения круг. Скиф, самый короткий ростом, потирает руки в нетерпении.
— Да бросьте, он же нездоровый, что с него взять? — раздаётся голос Таймураза.
— Значит, пришло время выздоравливать, — Алан снимает с себя мастерку и встаёт в стойку, — Иди сюда, покажи насколько ты мужчина.
Руки Асика вольно висят по бокам. Никто не гасит сигарет. Часто в любимых фильмах папы стоят также победители и побеждённые — до того, как упасть, до того, как напасть — а вокруг них сетки, не выпускающие наружу, и люди, свободные от боёв.
— Ну что же такое, — бормочет кто-то за спиной Асика.
Он чувствует пальцы, толкающие его вперёд, и летит прямо на соперника. Алан заносит руку для удара, но промахивается, не успевая попасть по падающему на землю мальчику. Его нос ударяется о правый кроссовок Алана. На шнурке, завязанном бантиком, остаётся капля крови. Алан раздаётся хохотом.
— Ты что, стоять разучился? Вставай, я так драться не умею.
Асика поднимают за руки. Ставят на место. Губы его краснеют кровью, глаза закатываются за веки. Лица, скрытые за баррикадами безразличия, ровны и тихи.
— Что ж с тобой делать? — вздыхает Алан.
Скула уже кровоточащего бойца ранится выпадом пощёчины. Падающий в темноте закрытых глаз, Асик упирается ладонями во влажную землю.
Дети собираются на уроке математики. По кабинету снуют мальчишки из класса постарше — с ними часто приходилось сталкиваться, когда не хотелось, потому что они были почти одногодками. Классы часто ставили на один и тот же урок — поэтому всем пришлось рано познакомиться.
Мадлена вытирала доску с горделивой осанкой, пока подле неё сновал влюблённый мальчишка чужого класса. Девочка не вела и бровью, скрывая еле заметную радостную улыбку.
В тот день Асик стоял неподалёку от Мадлены — его пиджак был заляпан мелом. Может быть, он держал тряпки, которые нужно отмыть от грязи, а может быть, просто оказался не в том месте и не в то время.
Влюблённый мальчишка бросил цепкий взгляд на хилого птенца и раскрыл пасть.
Судьба была такой, скажет иной человек. Оттого Асик попадал в круги чужого ожесточения. Он метался как загнанный зверь, прекрасно зная теперь, что значит эта человеческая улыбка.
В тот день на глазах мальчика выступили слёзы. Сжав кулаки, красный от гнева, он впервые дал отпор противнику, отобравшему его воздух. Противник смеялся, удивлённо переглядываясь с друзьями.
Мадлена проводила своего поклонника кротостью, любой другой — спокойно занялся собственными делами. Лишь у одного человека в тот день дрогнуло сердце. Оно дрожит и сейчас.
— Что вы здесь устроили? — во тьме арки раздаётся бас мужского голоса, — А тренироваться кто будет?
Тренер не глядит на опавшее на пол тельце, на кровь, засыхающую и бордовую, на сигареты, спрятанные за спинами. Алан тяжело дышит, уперевшись влажными ладонями в колени, смотрит на тренера исподлобья, ничего не говорит. Толпа шевелится, бросает сигареты за спины, наступает на выходе из комнаты, не поднимая глаз на тренера.
— Уберитесь тут, и чтобы на матах были через пять минут.
В комнате остаётся вор, Таймураз, Скиф и Алан. Последний направляется к выходу, не скрывая ни утомленности, ни скуки. Прежде чем скрыться, он говорит:
— Мне кажется, он выздоровел.
Таймураз переглядывается со Скифом, и они молча идут следом за победителем.
На языке Асика чернота земли. Вокруг — ни травинки. Щека упирается во влажное, почти мягкое и неотступно близкое. Заснуть бы, чтобы разбудили быстрые шаги мамы, вернувшейся домой. И папа дёрнется под щекой, загудит, перевернётся. Его глаза закрыты.
Слышатся шаги встающего за спиной. Не разобрать лица вора, неподвижного и безучастного. Его звали Марат.
Марат остановился перед лежащим на одно мгновение, в котором застывшая тишина, чужой взгляд, запах могил под носом. Когда оно заканчивается, вор уходит вслед за остальными.
Вечереет кое-как. Со второго этажа школы доносится музыка актового зала. Дуб гремит словами, затерявшимися в безлюдье.
Глава 5
Наступает февраль. Дедушка Асика заболевает невыговариваемой болезнью. Нередко по возвращению из школы мальчика отправляли составить ему компанию и помочь по дому, который находится совсем неподалеку от школы. Дедушка был бывшим механиком и учил Асика всем названиям инструментов, которые знал. Асик запоминал каждое.
В тот день он сидит во дворике дома, на потерявшей свою выкрашенность скамейке. Его большое тёплое тело укутано в короткую куртку, спина сгорблена, а брови сведены в единую полосу сосредоточенности. Дедушка очень старый. А ещё у него поседели ресницы. На левом зрачке его белое пятно, а борода длинная, как в сказке. Все называли его «Заронд Сатурн». И Асик мечтал однажды заслужить прозвище. Асик любил деда. Он подарил ему кнопочный телефон. В нём были игры. Очень мало, но и это неплохо.
Когда Асик садится подле него, от старика пахнет рыбой и отсыревшей одеждой.
— Что нового в школе?
— Ничего такого.
— А выучил что-нибудь?
— Сегодня нет, деду.
— Это нехорошо. Принеси-ка свою книгу.
Мальчик уходит в крошечную переднюю, достает из чёрного целлофана банку, нагретую молоком, оставленную лежать на табуретке вместе с книжкой, принесённой из дома.
Асик бежит обратно со стаканом налитого молока в объятиях обеих ладоней и с книжкой под мышкой. На землю опадает мелкий снег.
— Спасибо.
Старые ладони красные и в морщинах, под первым и четвёртым ногтями левой руки — засохшая грязь. Он отпивает из стакана с хлюпающим звуком, отложив инструменты лежать на скамейке.
«Я чувствую себя белым листом бумаги. Я покоюсь на сухой жёлтой траве, а в воздухе пахнет неведомым присутствием и копотью нажитых ошибок. Мне хочется стать травой, хочется стать сухостью под стопой прохожего, проходящего сквозь меня. Я никогда не знал стихов, мне не понять ни строфы. Я не знал дружбы. Я — обнажившийся провод, создающий неудобства и опасность. Однажды девочка улыбнулась мне. Однажды она перестала улыбаться мне. Я не знаю ни отмщения, ни справедливости, ни нежности рук. Поцелуй меня, мама. Я ангел твоего тела, ты — мой создатель. Где же ты? Мне так одиноко».
— Возьми книгу и почитай вместе со мной.
Зарон Сатурн не знал и слова русского языка. Поэтому, каждый раз приходя к дедушке, Асик берёт с собой учебник по русской литературе. Ему не хочется разочаровывать дедушку. И в тот день он кладёт книжку на колени, поднимает глаза на старика — видит след глины на его запястье, дым из кружки, белое пятно полуприкрытого глаза и тончайшую струю крови, текущей из его носа, и надеется, что читать не придётся. Капля падает в молоко. Взгляд Сатурна устремлён вперёд в прошлое.
— Деду…Деда…
— Читай.
— Ты придёшь на школьное собрание вместо мамы?
— Почему не идёт твоя мать?
— Не хочет.
Дедушка слегла посмеивается, отставляет стакан, тянется в карман за сигаретой.
— Я не приду, мой мальчик, там нужна твоя мама, а какой толк с меня? Недолго мне осталось.
— Не говори так.
— Не бойся!— Сатурн затягивается дымом, — Смерть — ничто. Жизнь страшнее смерти. Ты хороший ребёнок, поэтому не бойся. Жизнь каждого рассудит.
Дома очень шумно. Асик возвращается в шестом часу — на кухне горит свет, раздаётся хор мужских голосов, среди них и папин. Брат с сестрой дерутся на запылённом полу, к ладошке сестры прилип расплющенный таракан. Лапка его шевелится, сестра смеётся.
Мама торчит из кухни скрежетом ложки, снующей по дну сковороды. Друзья папы громкие, как паровозы. Размозжённые сигареты, сжатые кулаки по столу, вечереющий мир.
Стоящий в проёме, глядящий исподтишка, робкой уязвлённостью сына, скучающего по нежности. Как обнимает кость, кожа, твёрдость её руки эту ложку, как долго держит её, касается — будто бы она необходима ей, чтобы дышать. Я люблю тебя. Я люблю тебя, люблю…
Мама поднимает взгляд, не меняясь ничуть, точно также — исподтишка. Её взгляд ровен, пуст, словно было когда в этих глаза нечто такое, что никому и не снилось. Похищенное сокровище или тень мифического бога, замеченного мамой давно в молодости. Разожми ладонь.
Медленно наступает ночь. А вскоре — новый день. Туман утра одурманивает пейзаж обыденной картины жизни. Свет меркнет, чёрствые молчаливые фигуры бродят мрачно и холодно, смотрят под ноги, не спешат. Мерещится сон. Приближение к крыше школы рассеивает сомнения. Он не спит. Речка жизни течет необратимостью. Лишь знакомая пасть памятника прошлого глядела на Асика, и взгляд этот походил на печальную торжественность кладбищенского стража.
Незримый, Асик глядел в окно весь день. Роща, футбольное поле, погрязшее в росе и белеющей туманностью тьме сокрытого от глаз солнца.
По окончании дня он выходит из школы один. Сквозь тьму прорывается знакомая фигура, недавно выходящая из массивных дверей спортивного зала. Асик больше не следовал за одноклассниками. Фигура принадлежит вору. Тот идёт сам по себе, глядит под ноги, жуёт щеку. И подмечает Асика, медленно продвигающегося к выходу из школьного двора. Вор свистит и вприпрыжку подходит к остановившемуся младшекласснику.
— Домой идёшь?
— О… Да…
Марат прищуривается.
— Ты покупаешь сигареты для своего отца?
—Покупаю.
— Очень хорошо. Идём-ка со мной…
Когда идёшь сквозь холод, чувствуешь плоть его зябкой природы: это чистота и вечная память замёрзшего льда. Так преданна память холода природе.
Марат стоял у магазина, потирая руки друг о друга в жалких попытках согреться. Денёк выдался необычайно морозным. Звенит колокольчик открывающейся двери. Асик выходит из магазина и подходит к Марату. Тот выжидающе глядит на смущённое лицо мальчишки. В красную руку Марата ложится согретая красная пачка сигарет. Марат улыбается.
— Спасибо. Теперь ты кое что заслужил.
Небо сумрачно и грустно, когда двое ребят перелезают через забор, огораживающий территорию школы и прилегающий к спортивному залу. По мере приближения к укромному уголку в роще стал виднеться дым и запах подожжённой древесины. Трещат ветки, в воздухе витают голоса и приближающиеся к ним шаги. Это место — слепая зона, не прослеживающаяся ни с окон школы, ни с главной дороги. Присутствующие сидели у костра, подсунув под себя дощечки.
Асик замечает знакомые лица, когда входит в круг света. Все здесь когда-то смотрели, как он падает на землю. Все здесь забыли о том, кто он такой. Кроме Алана. Когда все опомнились от приветственных ритуалов при пришествии Марата, Алан, сидящий с бутылкой пива, осмотрительно спросил:
— Ты головой ударился? Зачем ты его привёл?
— Шкет заслужил.
Подмигнув стоящему за его спиной Асику, Марат достаёт из кармана две пачки сигарет и бросает Алану под ноги. Раздаются восторженные завывания. Алан прищуривается, достаёт сигарету и говорит:
— Если что, отвечаешь ты.
Смеркается. Асик сидит на влажном от непогоды брёвнышке, напрасно пытаясь согреть околевшие пальцы в рукавах куртки. Осторожно идёт снег. Школьные окна гаснут, поглощённые опустошённостью и проникшей снаружи темнотой скорой ночи. Бесстрашные школьники перекрикивают друг друга. Кто-то достаёт из-за пазухи пластиковую бутыль, которая вскоре станет дымиться. Асик замечает, что Марат вдыхает дым бутылки, а потом заливается смехом. А вскоре замечает, что за ним наблюдают.
— Подойди.
Асик соскальзывает с брёвнышка и подсаживается к загадочному вору.
— Мы так играем, — начинает речь Марат.
Его ладонь дружелюбно ложится на плечо Асика.
— Кто больше вдохнет дыма, тот и выиграл. Но это секретная игра, про неё нельзя никому говорить. Ты понял меня?
— Я никому не расскажу.
— Молодец.
Алан, недоверчиво следящий за разговором, подаёт голос:
— Раз уж мы играем, пусть наш выздоровевший играет вместе с нами.
Марат коротко переглядывается с другом и кивает. Асику в ладони всучают бутылку нагревшегося пластика. Костёр потухает. Школьники остаются под слабым светом, доносящимся из центра. Никто не расходится. Хлопья снега ложатся на землю, бесшумно тая. Внезапная полутьма советует говорить вполголоса. Товарищи стихают.
Асик никого не слышит. Выиграл ли он? Дым просачивается в его глаза, под кожу; стучит в виске. И поднимается вверх по горлу. На ватных ногах мальчик поднимается и выскальзывает из слепой зоны. Стоит у решётки забора; лицо его было обречено, объято решёткой, а молчание звучало совсем как безмолвие российской жизни — там, на другой стороне земли, все эти взрослые дети смеялись как вольные птицы, тогда как он стоял на виду; они прятались от чужого взгляда, словно уже тогда их судьба была предрешена решёткой.
Он идёт на свет. Линия фонарных столбов, идущая вдоль улицы Ленина, выводит его на главную дорогу, которая абсолютно пуста. Ему осталось идти вверх, к знакомой тропе, чтобы попасть домой. Но в безлюдье Асик видит отблеск силуэта, тени, которую он знает лучше прочих. Силуэт стоит посреди дороги. Безликость его не пугает Асика — он не может бояться, молчание его не смущает, Асик не ждёт оклика. Всё клокочет в нём, удушливо дрожит. Но в силах его лишь стоять и ждать чего-то — что будет или нет. Так он ждёт до тех пор, пока силуэт не превращается в сугроб людей.
В самой середине центра развёртывается яма обнажённых мужчин, почти бесполых, очищенных неизведанным от своей принадлежности к роду мужскому, человеческому. Мрак отступает пред тем, что породил он же — на лице толпы говорило мление, рождённое плотью — страсть… Бесконечные тела тянутся ввысь, к чему-то над собой. Безликие чудовища, смердящие, они касались друг друга нечаянно, вожделенно стремясь найти Её.
Асик делает шаг назад. Вверх, вслед за чужими руками, он разыскивает конечность видения. Тошнота подступает незаметно. Он видит её. Такую белую, словно мрамор, нетронутую, казалось, ни чернотой ночи, ни чернотой желания.
Мама была спокойной. Лишь тревожно вздёрнутая тонкая линия бровей и хмурящийся подбородок выдавал нечто иное от спокойствия, совершенно иное. Ни ссадин, ни одной тонкой линии сшитой тканью красноты, ни единой лиловости кости. Съеденные морщины, неприступная белизна — далёкая, молодая, без надреза живота. Мама прикрывалась ладонями, пока взгляд её холодных, словно февральская ночь, глаз был устремлён далеко вперёд.
«Я бы обязательно побежал к ней, если бы мог. Спас её от плена чуждых ей рук, тел, вздохов. Но почему она не смотрит на меня в ответ? Почему не оттолкнёт, не сбежит, не закричит о помощи? Почему вокруг больше никого?».
Он помнил плохо. Куда испарились тела, все эти люди, плохо помнил дорогу домой и сам дом. Что он помнил хорошо — так это лицо матери, стоящей на кухне по его приходу, и тепло своих прикрытых век. Тогда она выглядела как обычная мама, одетая в бордовый халат, на котором стразами обрисовали цветок. Пояс халата свисал до пола. Облокотившись о кухонную тумбу, она держала в кулаке зелёное яблоко, а глаза её не моргали. Перед ней за столом сидел папа и его друзья. Но почему, вспоминая это, Асик видел, что она стоит совсем одна?
Асик не спрашивал себя, почему она оказалась дома раньше него, почему на её шее томится царапина, а на запястье виднеется лиловое пятно, почему меж бровей залегла постоянная складка, а кожа серая, как гадкое небо раннего облачного утра.
Мир был мутной рекой, не желающей остановиться. Блик за бликом, волна за волной — и ты слеп, безропотен, невелик. В отражении — все кривые, безликие, фантастические. А постель холодна, лишена прикосновения. Прежде чем заснуть, Асик слышит хохот мамы почти так же чётко, как собственное дыхание.
Глава 6
Приходит весна. Мартовские сутки мало отличаются от февральских. Пейзаж оголённых проводов-ветвей, искрящихся в темноте признаком безжизненности, болезненная синева, желтизна, болотная слякоть, и всё ещё мрачнеющий день с самого рассвета до заката. По пути в школу пахнет протекающим газом, готовым подпалить встречного проходящего — в частности же Асика, озирающегося по сторонам в пустоту. Время движется быстрее обычного.
Мрачность свежеет с приходом апреля. Пряность воздуха наполняет сердце радостью, где кровь становится нетерпеливой к теплу солнцестояния. Зеленеет плод, сохнет редеющая слякоть. В пейзаже насущности появляется место для виднеющихся тут и там набухающих почек, ждущих часа цветения.
Близится, мчится встречно жар приближающегося лета, и там, где виднеется конец учебного года, наступает май. Виноградная лоза мечтает распуститься вереницей замысловатых закорючек, устрашая схватить и погрузить в неизведанную пучину неизвестных мест и площадей под кровом земли. Крик птицы раздаётся над ухом, над головой — в роще звучных, непрерывных шуршанием листвы деревьев, где путаются не ноги, но взгляды, небесные светила, крылья, тайны… Пахнет неспелым абрикосом, растущим вдоль главной улицы, до самого школьного двора; войдёшь в мае за железо дверцы-карусели, ветер ластится к щеке, а нога ступает по залитому солнцем асфальту школы, окна классов распахнуты тут и там. Они глядят на небольшую игровую площадку, богатую грушевыми деревьями.
Большая перемена длится пятнадцать минут. Дети стекаются на игровую площадку. Земля покрыта спелыми фруктами — разбитые, истекающие соком, они раскинуты повсюду так, что сложно ступить. Дети запускают в оставшиеся плоды на деревьях палки, камни; забираются ввысь, трясут ветви — проходящие мимо прикрываются учебниками, ладонями, портфелями, осторожно обходя препятствия.
Знакомые лица разбросаны тут и там по площадке. Вот Мадлена и Ирина сидят на качелях. К ним подбегает одноклассница Зара. Впереди, за песочницей, Таймураз и Скиф бросаются палками ввысь. А около забитых лавочек стоит Асик. На лавочке перед ним сидит Марат, оживлённо рассказывающий рядом сидящим истории из своей жизни.
Асик находил Марата на переменах, после школы, на выходных. Марат Асика не находил, потому что не искал. Неуловимо что-то переменилось. Словно жизнь стала полниться воздухом, а радость закоротила в близком отдалении. Асик улыбался.
Буквы всё плавали, мама пропадала за воротами дома, а папа — в телевизионных шумах. Детские голоса резали тишину обыденности. А Асик всё улыбался.
Цветущая сирень душила ароматом нежности. Мама пахла так. Так пахло детство. Розовость заплаканных глаз, влажные ресницы, пятно горчичного фонаря, кровь на коленке. Соседский цветочный куст, след от шин у просёлочной дороги, одновременность всего. Стоя в прихожей своего дома, там, где когда-то он делал уроки за переносным столиком, Асик впервые замечает, что обои зелёные. Пустые зелёные обои с нарисованным розовым фломастером человечком. Что меняется?
Мадлена насторожённо смотрит на мелькающие в тени деревьев фигуры, находя спину Асика. Ирина оборачивается вслед за взглядом подруги. Марат стоял вблизи мальчика, хлопал его по спине. Раздался девичий шёпот. Родима Вольдемаровна нередко говорила:
— Этот начал шастать с главным хулиганом школы, вдруг от него научится чему хорошему, да?.. Как будто бы до этого было чем похвастаться. Нашли друг друга.
Руки одноклассниц непреклонно скрещены. Казалось, воздух был задушен чувствами, спёртый и личный для каждого. Пахло фруктами. И стыдом.
В этом возрасте фантастично сложно понять, откуда этот стыд пришёл и чего хочет. Позже можно догадаться, назвать его «стыдом совершенного и несовершенного» — его часто испытывают дети, поджидая мгновенье, когда можно остаться наедине с собой — рыхлый, въевшийся в кожу, словно могильный червь. Так пахло всё.
Спелая груша падает к ногам Мадлены. На её ладони виднелось пятно засохшего сока. Марат, стоявший неподалеку, в два прыжка оказывается у чёрной туфельки девочки. Ничуть не пострадавший фрукт размером с взрослый мужской кулак ложится в руку вора. Мадлена, нахмуренная осуждённым взглядом, отодвигается на дощечке качели. Приподняв голову, Марат щурится от яркого света солнца и смотрит на Асика, подошедшего к нему с робкой улыбкой и неловко скрещенными руками, как водилось теперь всегда. Ирина пристально наблюдала за хулиганом — чем-то напоминала его улыбка улыбку людей преступных зарисовок. Готовая защитить подругу, она обводит взглядом подошедшего одноклассника. Тёмная туча нисходит на её сердце. Такой доверчивый взгляд она видела лишь у себя.
Марат не отходит далеко, громко надкусывая фрукт.
— Добрый день, девушки. Прошу прощения! Моя груша упала сюда, — его взгляд падает на стоящего рядом Асика. Вор подбегает к нему и ведёт за плечо, подтаскивая к девочкам. — Знаете его? Это мой брат! Очень хороший человек! С хорошими людьми нужно дружить.
Он почти чувствует чужой пульс, стучащий через его плечо. Влажность глаз высохла, а нежность детства покинула воспоминания — весь он, как сухая земля, где засуха длится не одну жизнь. Он знает эту руку. А прикосновение всё так же важно, как и в первый раз. Всё ещё.
Перемена подходит к концу. Повсюду детский визг. Тогда, в почти летний тёплый час, облепленный отовсюду грушевым соком и молчанием, адресованным лишь ему, он стоял под солнцем, восходящем в своем безразличии — почти материнском — и чувствовал, что стоит под дождём.
У Асика уже есть брат. Но он не такой. Он не касается его. С братом он связан лишь кровью. А с Маратом — чем-то большим — чёрствой ладонью. Когда кто-нибудь кроме Марата касался его? Мама, папа, друг? Это было очень давно. А теперь Асик знает, что такое дружба. Это когда улыбаются, когда касаются, когда любят.
И это похоже на беспричинный дождь в чистой синеве майского неба. Когда все бегут под крышу: «В школу! В школу!», повсюду детский визг и танцующие на бегу рубашки, раскрасневшиеся лица. И мы дышим. Раздаётся звонок на урок.
«Теперь у меня есть друг. У вас есть друг? Так жарко на солнце. Как хорошо, что пошёл дождь. Наконец-то… Мама, ты меня слышишь? Мама… ты такая красивая. Никогда не грусти».
***
«Как описать для вас чувство, окутывающее душу, когда появляется впервые за жизнь существо, не боящееся дотронуться до тебя? Не глядящее на тебя, как на скверну, которую нужно обходить стороной? Когда тебя замечают, с тобой смеются, тебя не прогоняют? Я не знаю, как».
9 мая — это праздник для всех. Актовый зал наполняется людьми. Шестой класс дружно садится неподалёку от сцены. В первом ряду — приглашённые гости и маленькие дети, пришедшие из садика вместе с воспитательницей. Чёрный бурдюк кудрей возвышается у фортепиано. За сценой готовятся избранные: стихотворения выучены назубок, а песни отпеты на репетициях.
Два старика садятся под сценой, против публики, на приготовленных заранее стульях. Иссохшиеся, печальные, бессмертные. Дети из детского сада, пристыженные за неугомонность, неловко теребят праздничные наряды, боязливо вглядываясь в дедушек, так хрупко опирающихся на трости. На чёрных костюмах дедушек висят звёзды.
Рядом с ними — высокий дядя, одетый обычно. В его руках микрофон. Наполовину заполненный актовый зал обёрнут к нему лицом. У входа возвышается директор — женщина тридцати лет, взволнованно прижимающая к сердцу ежедневник. Её улыбка — это добро и тепло детства. Однажды она оплатит Асику билет в цирк, время от времени приезжающий в городок Х.
На задних ряда Марат переговаривается с друзьями. Асик замечает его, когда ищет взглядом. Когда директор входит в зал, прикрывая за собой дверь, Марат машет Асику рукой, подзывая к себе. Почти на носочках тайно пробираясь сквозь полупустые ряды, Асик слышит речь мужчины с микрофоном:
— Эта война закончилась относительно недавно, её раны так же свежи, как раны, оставленные Великой Отечественной войной. Сколько хороших людей осталось там, столько моих товарищей не вернулось. Они бились за свою родину, за вас. — Он смотрит на дошколят. — И вы родились для того, чтобы заменить их.
Две фигуры выскальзывают из зала. Лишь едва уловимый свет из приоткрытой двери, исчезнувший так же быстро, как и возник, выдал отсутствие двоих учеников, провожаемых взглядом директора.
В молчании шёл Асик подле своего друга. Он думал об уроке русского языка, который закончился пару часов назад.
— Читай, Асик. Что-нибудь прочитай, одну строчку хотя бы.
Асик, согнутый над страницей, вглядывался в суть веточек и точек. Они были такими же, что обычно: расплывались по всему листу, пока глаза Асика бегали за ними, стараясь ухватить. Но было в них нечто особенное. Внезапно они стали добрее. Они шептали ему на ухо слова. Осторожно, совсем тихо, незаметно для всех.
— М-а-а-ша х-х-ход-и-ла на с-с-с-к-р-р-ип-ку.
Родима Вольдемаровна удивлённо переглядывалась с присутствующими.
— Молодец, Асик! Молодец! Господи…
Учительница складывает скрещённые ладони у приоткрытых губ, вглядываясь в Асика. Сегодня его плечи расправятся в мимолётной свободе от страха.
— Ма-ша л-л-люб-б-бит… скк-р-ип-ку.
— Сегодня вы наблюдали чудо. Боюсь, такого больше никогда не повторится. Типун мне на язык!
Бывший дом пионеров глядел на поднимающихся вверх по улице мальчиков беспристрастно. От Марата пахло как от папы — сигаретами. «Может быть, зайдём туда?» — бросает он. Они входят внутрь.
Безразличие его прикосновений были сродни нежности. Как удар или сжатая кость рукопожатия, но ниже позвоночника. Как было просто спутать. Ведь только это он и знал. Всё, что он помнил как исключение — давно смыло время.
Твёрдость его колен впивалась в гравий мелких камней и обломков черепицы. Это он помнил. Там не осталось шрамов. А там, куда не доставал взор, не было ничего, кроме воспоминаний о горячей красной жиже. И её он помнил. Так пахла дорога домой.
Часто дети пробуют кровь на вкус, когда нечаянно поцарапаются пальцем. А чем мы царапались в детстве? Неужто и я забыла, кем была раньше?..
Асик никогда так не делал. Он не знал вкуса крови. Дедушка говорил, что кровь пьют демоны, лишь им нравится её вкус.
Раз кровь идёт, значит, она остановится. Рано или поздно. Зачем меняться в лице? Так ему говорили, так он стал считать в детстве. Но не тогда. Его лицо покрылось морщинами, и осталось лишь долгое-долгое мгновение. Может быть, оно останется навсегда.
Когда Марат остановился, ничего не было. Воздух не стал чище, земля — мягче, а боль — милосерднее. По правде сказать, Асик бы не смог ответить, в какой момент Марат ушёл. Он запомнил лишь, что друг ушёл сквозь дыру в стене. Он не хлопнул его по плечу на прощание, не отряхнул колен от пыли. Остался ли на нём след от произошедшего? Чувствовал ли он его, пока шёл домой? Смыл ли сразу по приходу, или сел к матери на диван?
Когда земля стала чёрной, Асик понял, что солнце давно село. За стенами было тихо. Здание стояло так же, как и до их прихода, не вздрогнув ничем. Асик вышел в пустынный Центр. Он запомнил, что было пустынно. И что было ветрено. Свет горел в линии фонарных столбов и в одиноком окне магазина. Это был тот вечерний миг, когда становилось ещё недостаточно темно, чтобы не разобрать дороги впереди себя, но уже так сумрачно, что не разглядеть лица на перекрестке. А почти сейчас — так недавно, что почти уже не больно — небо было голубое-голубое, совсем как глаза его сестры.
Его фигура скрывается с главной дороги под меркнущим светом городка. За ним остаются следы. Его ноги знали этот путь. Но не он: он не знал ни троп, ни имён, ни лиц. Тогда остались только ноги, несущие вперёд. Или, быть может, так только казалось. Ведь когда наступает смертельная тишина, оглушающим звоном, темноту озаряют не они, а беззвучный вопль.
Пусто, как ночью. Бывает, ночи наступают раньше, когда случается особая жестокость. В такие ночи не бывает звёзд, и, будто одной жестокости мало, наступает другой вид абсолютной тишины, где крика не слышно. Но ошибкой в то мгновение было всё, потому что Асик не кричал вовсе. В такой час принято говорить про рёв раненого животного. В действительности как часто вам доводилось слышать такой рёв? А доводилось ли вам слышать рёв маленького человека? Похоже звучал Асик.
Он шёл, хватаясь за встречные калитки. Он был тихим. Каждый шаг занимал почти жизнь. Дорога, выученная за детство — без рук, без глаз. А людей сколько! И все они в домах. Никого. Лишь ветер. И мальчик. И дорога.
***
На автобусной остановке, погружаясь в сумрачность только прибывшего автобуса, спустя много лет после окончания школы, я видела Асика, идущего к бывшему дому пионеров. Я слышала, теперь это мечеть. Здание подлатали, покрасили внешнюю стену, поставили новую дверь, но оставили кое-где зияющие дыры. На его голове была надета такия, шаг был спокоен, а взгляд опущен. Я села у окна, на самом последнем ряду. Спустя столько лет было страшно увидеть знакомую спину. Я боялась, что он обернётся. И он обернулся. Я спряталась за штору.
Асик вошёл в мечеть. Преклонил колени. Послышался азан. Автобус тронулся с места. Я не обернулась.
***
Ему снится городок Х. Он стоит на самом высоком холме. Вокруг все зелено, вдалеке слышатся азан — почему он не там? Мгновение позже — он дома. Идёт дождь, совсем как тогда. Во дворе виднеется сорвавшаяся с деревьев листва. Двери дома распахнуты, порог лишён обуви. Он оборачивается: ворота на улицу остались раскрыты, около них его ждёт велосипед. Но пока он зайдёт домой. Его ждут. Он знает.
На кухне что-то грохочет. Она здесь. Совсем одна — продуваемая ветром раскрытых окон. Скатерть стола опрокинута ветром, вокруг витают перья — под её руками зарезанная курица.
На маме надет фартук поверх белого платья из твёрдой ткани, а волосы заколоты на затылке — небрежная, такая знакомая, она стояла на том же самом месте, что и тысячу раз до. Но сегодня она отличалась. Она видит его сразу, как будто бы знает звучание его шага. И улыбается.
— Асик! Дай-ка мне ножик, нигде его не вижу.
Он находит его на стуле, задвинутом под стол. Её руки влажные от крови, но тёплые, будто родные солнцу. Но всё же она улыбается…
— Мама, у тебя волосы в перьях.
Её губы красные, совсем как она любит. А улыбка напоминает о колыбельной песне: сейчас он ляжет в постель, а она споёт ему что-нибудь, что он никогда не слышал.
— Ну так убери их, глупый, у меня руки в крови!
Её волосы мягкие, как пух. Асик вынимает пёрышки одно за другим — они крошечные, как и он. Как он успел снова стать таким маленьким? Мама давно не возвышалась над ним. Ему приходится стоять на стуле, чтобы дотянуться до волос. Она продолжает раздевать курицу от перьев. Они витают вокруг, возвращаются к ней, покидают погружённую в сумрак комнату, уносясь прочь навстречу серости вечернего неба.
— Спасибо, дальше я сама.
Асик стоит рядом с ней, чувствует как к его щеке прилипло мокрое пёрышко. А сумрачность кухни разливается чем-то молочным, нечеловеческим, неземным — такие цвета создаёт только небо. Кажется, серость нарушена, разбита, снова освещённая просветом после долгого дождя, длившегося, должно быть, всю жизнь.
Она замечает его растерянность, эту обезоруженность ребёнка, не находящего слов. Сквозь алость помады просвечивает тонкая линия чувств. Она кладёт нож рядом с тушей и поворачивается к нему, опускаясь на колени — он спускается со стула. Её ладони всё ещё в крови, всё ещё тёплые, как долгий на коже снег. Она кладёт их на локти мальчика. Если бы она попросила, он бы смыл кровь с её рук, обтёр собой, если бы она попросила. Но она не просит. Она касается его век — лишь на мгновение. Будто стирая что-то, ведомое лишь ей одной.
Кухня залита светом прошедших туч, в маминых волосах ветер.
— Мой милый мальчик, мне так жаль. Послушай меня, только тихо. Я обещаю заботиться о тебе. Я обещаю вставать на его пути. Я обещаю дорожить тобой. Я обещаю учиться. Я обещаю быть терпеливой, быть рядом, когда ты чего-то не понимаешь. Обещаю не спать, не оставлять тебя одного. Я обещаю любить тебя. А теперь иди. Тебе пора бежать. Береги себя.
Когда Асик выходит на улицу и садится на свой велосипед, небо совсем как молоко, в которое бросили гроздь сирени. Где-то за холмом поднимается пар облаков. И он крутит педали, едет вперёд по каменистой дорожке. Вокруг так тихо, спокойно, будто утром. И он едет дальше.
Свидетельство о публикации №442333 от 18 сентября 2024 годаХудая коса волос, дублёнка не по росту и спешный шаг. Это была девочка лет восьми, пока что без лица, но с робкими плечами и торопящейся ко вздоху грудью. Теперь её резкость стала размытой — это свойственно воспоминаниям, снам — всему, связанному со словом «оставлено». Не лучше, чем «опечатано».
Полупустой коридор без окон, с захлопнутыми дверьми начальных классов и пятнами ленивых детских фигур у облезлых стен, разделённых линией бледно-голубого и белого, уходящего в потолок. Отсутствующий сторож, волнистые тонкие голоса; шум осеннего утра, ещё румяного августовским солнцем. Торопливые шаги и Она.
Она была центром теней, серединой без имени; и теперь ведущая меня к чему-то, к кому-то вчерашнему.
Это было пятое сентября. Городок Х на краю страны, спрятанный в лесном полукруге, в теряющих цвет холмах. Равнина, скрытая в глубоком овраге — бывшем озере. Лес кишел змеями, в бесснежье холмы покрывались сорняками, грибы росли на поляне, заросшей мусором, а собаки у ворот были скалящимися, неприветливыми. Два озера, две дурные славы: одно на севере городка, другое — на юге. Первое — на равнине, глазеющее на въезд городка лягушачьими зрачками, второе — вблизи леса, глазеющее с возвышения на округу глазами утопленников. В первом до сих пор силились поймать рыбу, во втором — ныряли. То, что на севере, звалось «Дурное озеро», отчего и произошло имя городка. Не раз я взбиралась вдоль него вверх, к небу, и смотрела на беспечный, безжизненный пейзаж однообразных крыш и голых деревьев. И любовалась…
— Привет!
Белые пятна учеников, разбросанные у ряда столов в центре класса, фокус зрения: один, второй, третий — всего семеро. Трое девочек и четверо мальчиков, третий класс. Слишком низкие парты, прошлогодние платья формы, не заправленные рубашки, и одинаково — большие живые глаза, встречающие взмах косы вбежавшей в класс Ирины.
Широкие окна, пупырчатые от белой краски стены с пейзажами картин, сюжеты которых сегодня и не вспомнить. Но не один — возвышающийся над низкими головами учеников портрет Коста Хетагурова. Взявшись за ножны, он смотрел вдаль, как истинный муж нации, пишущий жизнь прошлого в прошлом — достояние, всеобщая гордость, пример мужчины, а во взгляде его — покой, как две капли безразличия.
— Привет.
Рина — это смуглая кожа, армянская кровь, угольки глаз и скрещенные на груди руки. Лицо класса, авторитет; она любила говорить первой. Но уголь на то и уголь — остаток потухшего, потемневшая искра. Так она и улыбалась. Без тени радости ребёнка. Став жертвой моей близорукости, она могла прослыть жестокой, коварной; но это значило бы, что холодные глаза означают лишь холодность. Все мы были детьми.
— Почему не пришла на первый звонок? — спросила она, не снимая улыбки.
— Не захотелось…
Ирина льнёт взглядом к каждому, пытаясь обняться, рассказать без слов — может быть, в этом году повезёт?
— Людмила Васильевна тебе устроит…
«А я была на море летом». «А я нигде не была. У бабушки, в городе». «Я была на границе с Францией». «Ага, чеши».
Звучит звонок. Переговариваясь, ученики рассаживаются по своим местам — три ряда по три стола. Красный прямоугольный портфель Ирины ложится на парту рядом с Зарой.
— Со мной сидит Таму.
Ирина растерянно ловит взгляд Рины.
— Тебе нельзя с ней садится. Пока тебя не было, Людмила Васильевна уже рассадила нас.
— И с кем сижу я?
Несколько пар глаз уходят за её спину, возвращаясь без добрых вестей.
— С ним.
В класс входит учительница. Всё, что успевает заметить Ирина, пугливо усаживаясь за указанный стол первого ряда — бритую несуразную голову своего соседа, глядящую на неё в ответ.
— Кого я вижу, Ирина! А почему твоя мама не поднимает телефон, когда я звоню?..
Под водой, за своими глазами, далеко в глуби, почти утопленная горем — она сидит на своём месте, прижав колени друг к другу, хватаясь руками глаз за двигающую губами учительницу, чтобы она скорее увидела, что с неё уже почти капает вода…
Лишь Коста Хетагуров, будто бы глядящий на птиц за спиной художника, мог заметить ужас её лица. Но он молчал.
Девочка вынуждена повернуть голову к своему соседу. Конечно, она помнила его лицо и знала имя. Его робкие губы, растянувшиеся в улыбке, никогда бы не смогли обнадёжить её горе. «Ну-ну. Посидишь со мной этот год, а в следующем — свобода», — мог он сказать. И не только потому, что он был тем единственным, кто нуждался в добром слове и уже был согрет надеждой её присутствия, но и потому, что он был водой. Стихией, не знающей ни животного, ни человеческого языка. «Только не плачь. Я тоже умею плакать. Тут слезами не поможешь». Ничего. Две пары глаз, не разделённое ни горе, ни надежда. И Ирина отворачивается. И пусть она боится совсем не его, а места рядом с ним, Ирина всё ещё центр теней, теперь глядящая на слишком угловатые, реалистичные тела своих одноклассников, и находящая в них лишь ресницы, спокойные брови и приподнятые уголки губ.
Из окон класса открывается вид на задний двор школы: широкая клумба, пустующая большую часть года, редкие деревянные скамьи с отломленными досками и каменная ограда забора, утешаемая защитой орешников. Там, за забором, не прикрытый ни деревьями, ни высотой ограждения, стоял бывший Дворец Пионеров. Ямы его окон смотрели из уцелевших стен; без крыши на одной половине, другой он смотрел на «Центр» — конечную точку главной дороги, ведущей от шоссе; он не был будущей реконструкцией. Груда кирпичей и шифера — обрушившийся к ногам людей памятник прошлого, теперь не внушающий ничего кроме тоски, чаще — безразличия портретов великих…
Как беззубый рот, фасад смотрел в окна, прямо в лица детей, кричащий о чём-то прошедшем, без языка и опознавательных знаков. Никаких «Здесь был Дворец Пионеров! Родился тогда-то, умер тогда-то». Ни одного пионера на весь городок Х.
Это был единственный год, когда привычность класса была нарушена новизной — на каждой парте стоял маленький куст искусственных цветов, для каждой пары — свой цвет. На парте Ирины и мальчика стояли оранжевые розы.
Мальчик всё ещё улыбался. Отвёрнутый от всех к окну, он смотрел прямо в пасть здания, ничуть не страшась его; кирпичи, как точки на земле, невидимая пыль, витающая в воздухе. Пусто. Лишь он и Дом Пионеров. Было в нём что-то родное, от этого не цвело тепло в мальчишеской груди, нисколько не дрожала кожа в волнении. Без мыслей, казалось даже, без чувств, он подолгу смотрел на предметы, словно был таким же бездыханным — с каменным не сердцем, но душой. Кирпич, кирпич, груда камней — не больше точки, и ничего больше.
С таким же спокойствием он смотрел на бумажные лепестки цветов. Пока из-под одного лепестка не показалось внезапно маленькое чёрное тельце муравья. Показалось и замерло. Мальчик смотрел на него и молчал. Был он единственным, кто отозвался на зов, и два создания встретились глазами. Но я была там. И видела его тоже. Муравей уполз. Урок закончился.
«Это твоя сторона парты, а это — моя. Ничего не трогай. Вот цветок, где он, там начинается граница». Она не первая стала строить границы из страха. Стали бы вы судить тех, кто не пускал чумных к себе на порог? Всем хочется жить. Даже детям.
***
Асик не был ни силён, ни умён. Он был маленьким, с несуразной формой черепа, вечно бритый, всегда в одном и том же, и одним и тем же. По одному и тому же пути он возвращался домой и шёл в обратном направлении — по одному и тому же пути он шёл в центр, к дедушке, или отправлялся посидеть в конце улицы (может быть, кто-нибудь даст ему покататься на велосипеде?). Чёрный костюм, купленный ещё в первый класс, всё тот же серый рюкзак.
Асик не торопился. Шёл медленно, будто бы хромая на одну ногу, а будто бы и нет — худощавый, выставленный границей своих костей; это была неуклюжая походка, которая со временем потеряла своё название и стала просто ему принадлежащей.
Асик был один. Так он шёл вверх по улице к своему дому — осенью, весной, по праздникам, поздно ночью или рядом с кем-нибудь; неважно, с кем быть одному, какое это будет множество — десяток, или всего ты да твоя тень; значит ли это что-нибудь, если единичность, одинаковость — это как цвет твоих глаз или рука, которой ты тянешься за чем-нибудь, за кем-нибудь. Весь он был в том году как улыбка, оставленная без ответа. И если внутри него и жил человек, который смеётся — никто не видел; не видел и он, потому что не знал куда смотреть.
Он взбирался вверх по тропе. Это была продолжающаяся улица главной дороги, носящая название вождя Советского Союза, с такими же домами, как и повсюду в городке — кирпич или блок, блёклый, иногда выкрашенный и вздутый, окна в деревянной раме, завешенные тюлем, и безликие железные ворота, отличающиеся лишь цветом. Чем выше, дальше от центра городка, тем резче воздух, уже тропа, вздутее краска; и если в начале пути он видел аккуратные железные калитки, прилегающие к каждому дому, то потом — только кривые, как зубы здешнего пастуха Робинзона, штыки заборов.
Очень часто пустынная, но почти никогда — в обед, дорога, по которой Асик шёл с теми, чьи уроки тоже подошли к концу; шёл, уткнувшись в землю, или оглядываясь на них, но очень скоро оставался один, взбираясь на отшиб тропинки, и только потом заворачивая к голубым воротам.
Лязг железа, шаги, лестница в пять ступеней, заваленная обувью, и дверь, раскрытая настежь. Всё ещё обласканные летним зноем, хозяева не запирались от прохлады сентября.
Внутренний дворик остаётся позади. Асик не поднимает голову, входя в сумрачный коридор дома. Бросает рюкзак прямо на пляшущую на деревянных полах тень движущейся листвы орешника. Две комнаты с правого бока, две — с левого, и в конце залитая светом дверь, ведущая на задний двор.
Мама выплывает из арки первой от входной двери комнаты: короткая джинсовая юбка, усыпанная блёстками у карманов спереди и сзади. Голые колени, волосы оттенка рыжей охры, уходящие за обтянутые голубой тканью рубашки плечи, пока рубашка просвечивала пухлые руки и бугорок живота. Узкие щиколотки, замкнутые ремешком туфель, и рука, надевающая кольца серёг. Она торопится к зеркалу, подвешенному в коридоре без рамы, и смотрит на себя. Расстёгивает верхние пуговицы рубашки. Такие женщины не стесняются прыщей на голенях или вздутых вен в сгибе. Она оборачивается к нему не сразу — впрочем, он ничего не говорит. Она подходит к нему, неспешна. Стук каблука о дерево, налившиеся кровью колени, и она — такое близкое лицо красных губ, розовое дерево век и болезненная румяность щёк, такая близкая мама. Красивая.
— Не буди папу.
Она выпрямилась. Поправила юбку, вздохнула. Готова. В спину ей смотрит тусклость синеющего солнца, а лицо погрузилось во мрак внутреннего дворика. Асик слышит, как в дальней комнате тихо шумит телевизор, но следует за мамой, спускающейся по лестнице из пяти ступеней. У его шагов нет звука, но она слышит каждый. Их взгляды встречаются, и в сумраке, скрытая листвой деревьев, внезапно она стала смотреть на него как мама, которой она станет через пятнадцать лет — как свежевыкрашенная стена их дома, с выпирающими сосудами потрескавшегося камня; под слоем пудры и красноты проступала каждая её морщинка, и, внезапно, она оказалось такой бледной, какой часто бывала, когда её никто не видел. Лишь смотрящий в щель не захлопнутой двери ребенок. Потусторонне, сквозь прохладу потемневшего неба, она хватает его за локоть. Босой, он стоит у самого края второй ступени, готовый последовать за ней, когда она говорит только:
— Не буди папу. Будь тихим.
И оставляет на его лбу красный след помады, отчего-то напоминающий рану. Это была рана, колющая теплотой, кровоточащая нежностью и болью.
Её слова теряются в шуме ветра. И он провожает её взглядом до тех пор, пока звук железа не нарушает послеобеденную сонливость. Провожает её руки, цепляющиеся за ремешок белой сумочки обглоданными ногтями, выкрашенными в цвет фуксии. Её ноги как всегда волнующе спокойные. Конечно, он за ней не следует.
Асик обходит стол в коридоре, идёт к голосам: зелёный экран телевизора, мельтешащие человечески с мячом и спящее тело, разваленное вдоль дивана. Папа.
Ничего особенного — тесная комната, диван, телевизор, палас, стойка шкафа, заполненная проводами, да зелёное стекло бутылок у изголовья кровати спящего. Крошечное окно распахнуто и не прикрыто. Тонкая нить проводка лампы под потолком и темень, в которой жужжит невидимый комар. Плотный воздух, а в нём брожение, пыль, долгая недвижимость тела, его соки — и всё ещё папа. С закинутой на спинку дивана рукой, мирный и тихий; громкий лишь самую малость — дыханием. Из-под белой майки, давно сошедшей в размере, выпячивается мягкость пухлого живота, обитая чёрными волосками, совсем как над его губой. Асик подбирается ближе, без дыхания, красный от волнения. Совсем как над губой… Бусина пупка, застрявшая в ней шерсть одежды и запах, столько запахов… Вот бы прижаться к ней, к этой мягкости, как к подушке, и обнять, уткнуться, размягчиться следом, стать влажной ватой. Проспать бы до прихода мамы, и пусть папа ничего не говорит, будто он и есть его сон…
Но мягкость эта — недоступная. Вздымающаяся, зовущая, она уходит, совсем как облако, когда Асик скрывается за дверью и идёт следом, совсем не далеко — на задний двор.
Он невелик размером: места — на два удара мячом. Мутный внезапной синеватостью, с миндальной пылью волнующегося воздуха, двор был пуст вдоль и поперёк, за исключением одного дерева, упирающегося в деревянный забор размером по пояс; он просвечивал пейзаж небольшого склона, на котором непримечательно высились дома: отвёрнутые окнами вглубь улицы стены построек, крыши цвета спелой черешни, и повсюду — земля. Где-то вспаханная, кое-как взбитая волосом — зеленью, где-то — протоптанная. Вся она была окрашена кислотностью предстоящей грозы.
Асик бредёт к деревцу растерянностью висевших по бокам рук, накренённостью шеи, и всё у Асика цвета переломанной кожи, особенно — опущенные глаза. Деревце молодое, Асик не знает названия. Оно завалено серыми камешками размером с грецкий орех. Коленка к коленке мальчик садится неподалеку, берёт пару камней во влажные ладони.
Как здорово они касаются друг друга, так, словно знают друг друга; перестукиваясь, они разговаривают — это целый неисследованный диалект вещей, и на одно недолгое мгновение кажется, что во внимании Асика мелькает понимание. Весь разговор целиком он слушает, склонённый над парой знакомых почти радостно, пока не поднимается с земли, не отходит на пару шагов и не заводит руку за голову. Стук, один, другой — они ударяются, падают — о молодую кору, о землю, а потом заново: поднимается рука, заводится за шею, и пара летит, уже без разговора.
Разве равнодушие ребёнка не похоже на бездвижность покойника, безмолвный ужас? Иногда оно смотрит на тебя, и глаза искусственные — глаза куклы, которые черны, как бездна, и тогда смотреть в ответ стыдно, нехорошо, совестно. Природу не трогают предрассудки ни перед лицом смерти, ни перед лицом рождения — не дрожит ни земля, ни небо. Деревья стоят покойно, и всё вокруг полно жизнью, больше — молчанием стороннего наблюдателя, и когда начинается извержение, землетрясение — это разговор, так же равнодушно обыденный. Стук, один, другой. Спящие просыпаются.
Раздаётся шорох. Асик оборачивается на знакомый шум, но видит лишь пустующую арку раскрытой двери. И тишина снова наполняется лишь проступающим ветром, прежде чем плечи ребёнка не вздрагивают и раздаётся вопль:
— Асик!
В ладошке мальчика осталось два нагретых камня. За воплем следует эхо грузных шагов отца, и его шатающаяся фигура проявляется в тусклом свете. Его нога затекла, глаза в жёлтой копоти, щурящиеся, заспанные; он висит на пороге, внезапный, неожиданно такой незнакомый, говорит:
— Иди-ка сюда, два-три слова… тебе скажу.
Мальчик бросается к забору, утыкается в его угол всем телом, так, словно это ванна, а за окном — скорая бомба. Вишнёвые крыши, отсутствующие окна — всё отвернуто, почти что слепо. Пьяный шаг отца, весь путь до забора — протоптанная дорога. За забором — грозовые тучи, уплывающие на восток. И всё мирно, спокойно, как сиреневый набухший синяк. Только стук — один, другой — как древний язык тел, предметов — мелодия, раздуваемая ветром.
***
Людмила Васильевна обтянута тонкой тканью платка в узорах индийского мотива. За своим рабочим столом она лишена туловища, лишь едкий зелёный маникюр выглядывает из-под линии дерева, и голова, обрамлённая чёрной оправой очков, за которой часто суженный, подозревающий взгляд дрейфует по согнутым над учебниками макушкам учеников.
В её руках мобильный телефон — стучащий звук, удар по кнопкам. Удар витал в воздухе так же, как витало слово «проступок».
— Олечка! Где ты? Всё утро тебя жду… Эти сидят, опять двадцать пять. Ничего не сделали… Всё, я тут. Рацу ардам.Приходи.
На первой парте прямо перед ней сидит беспарный ребенок: блондинистые волосы, голубой взгляд — настоящий скиф, своему предку едва доходящий до голени. На его щеке странного рода красный отпечаток — что-то фигурное, но незамысловатое — узорчатый овал, походящий на форму кольца. Было такое кольцо у Людмилы Васильевны, правда, то было обёрнуто лицом к линии жизни. Когда её подбородок краснел от гнева и дрожи, а зубы становились хрустом, она разворачивала его для размаха. Скифа он касался куда чаще, чем Рины или даже Асика. Другим полагалось выпрямлять спины, делать парочку вдохов и выдохов, в общем, готовиться — и тогда учебник входил в соприкосновение с головой ученика в физическом мире, но в нём царило равноправие — каждому по равному количеству соприкосновений, одному или трём, не больше.
Асик играл в гляделки с буквами каждого языка, который писался в книжках. Будь то осетинский, единственный на котором он говорил, или русский, который он лишь слушал, — он был обречён проигрывать. Язык становился настоящим предателем на бумаге — палочки, точки, закорючки, точки с хвостиками, как у девочек на затылках, две точки — как перевёрнутые глаза, и всё совсем как шалаш, в котором не спрячешься ни от грозы, ни от ночи. Бесполезный шалаш, ничего больше. Любая ветка и закорючка куда полезнее. Бумага предаёт язык?
Скоро дверь в класс распахнулась. Ученики вышли из оцепенения и поднялись с мест.
— Здравствуйте!
— Хотя бы это умеете. Садитесь-садитесь!
Олечка была миниатюрной женщиной лет пятидесяти, с рыжими, такими же короткими, как у Людмилы, волосами, и глазами за пазухой очков. Разделяла она также любовь подруги к разнообразным платкам. Вместе они оборачивались в них и скрещивали руки в каморке библиотеки на втором этаже, в столовой, в учительской, дома… И разговаривали.
— Какое колечко…
Библиотекарь подплыла к учительскому столу, и Скиф подпрыгнул с места, поднося свободный стул к частой гостье. В классе раздался робкий короткий шёпот заново допущенных к жизни детей. И если громкость и количество слов были ограничены, то возможность переглядываться — никогда.
— Да, мне Серёжа подарил…
Женщины сели рядом. Острые квадратные колени Олечки, обтянутые чёрным тонким капроном колготок, глядели на лица детей, которые украдкой бросали взгляды на озирающуюся по кругу опущенных голов женщину. Всё ещё порабощённые заданием вызубрить правила — им были доступны лишь колени, квадратные, угловатые, мясистые.
— Ну, что?
— Как видишь, — Людмила Васильевна машет рукой. — Ничего. Так замотали меня, я аж вспотела.
— Совсем ничего не выучили?
— Совсем ничего. Весь день с ними мучаюсь.
Да, хороший класс тебе попался.
Библиотекарь любила долгий зрительный контакт с напряжёнными спинами детей, любила ловить их заискивающие взгляды, лишать надежды на улыбку, смотреть — смотреть подолгу, как вызванный для окончательного вердикта судья, заранее знающий вердикт. Виновен.
— И не говори. Не выучили еще? Давайте по очереди. Начинай. — Она кивает Скифу.
Запинаясь и медля когда-то герой поднимается над партой. Весь его ответ тих и робок, словно перекрикиваемый пятном щеки — Скиф исхудал, потерялся в седом цвете лица, временами разбавленным ещё одним цветом страха — краснотой щёк. Прямо над его головой, за потолком преподавала биологию его мама. Мама не обволакивала его пышностью своей фигуры; не было материнского крыла, и сквозь потолок просачивалась лишь слепота выбора, болезни иного рода. На то он герой, на то Скиф белоснежен, как горный хребет — судьба, всё дело в ней. Слово, заменяющее смысл и всевозможные жизненные оголённости. Звенело в тишине недоступное ребёнку право, скрытое; когда вырастешь — поймёшь обязательно. Скифа занесло из далёкого в круг лесополосы — чтобы бледнеть, чтобы краснеть, чтобы плакать, чтобы стать героем уже нового времени. А в новом времени, изнутри горных хребтов — оказалось, место героя занято прошлым.
Ребёнок сел на место. Поднялся второй, третий. Пока не поднялся последний.
— А этот до сих пор ничего не знает?
Мелководье её глаз обратилось к Асику.
— А когда тут знать что-то?Ты забыла, кто его родители?
— Я не знакома, но, может быть, есть прогресс.
— Он даже алфавит не знает, о чём ты говоришь? — в глазах обеих облик мальчика блёк, пропадал в черноте не сводящихся, моргающих век. Они преследовали его недвижимость со спокойствием человека, ожидающего мёртвой плоти. — Ты видела, в каком виде она машины ловит на повороте? Будет у неё время ребёнка учить..Она снова беременна. — заискивающе кивает Людмила Васильевна.
— Ты права. Осетинский алфавит тоже не знает?
— А ты спроси его.
Библиотекарь махнула рукой классу:
— Дайте ему учебник.
В пределе шума поднимающегося портфеля, тела, стула, руки — голос говорил снова:
— Три года с ним уже мучаюсь. Говорила Альбине, чтобы она оставила его на второй год. Что ты думаешь? Отказываются его брать все. Не удивительно. Знала бы я — обязательно бы отказалась тоже. Теперь мне мучайся.
— А почему его в интернат не сдают? Видно же, что ребенок отсталый.
— Да кто его знает, Олечка! Я вообще думала первое время, что он притворяется, приходит из дома всё время как в первый раз, совсем ничего не запоминает.
— Да. Пушкин, говорят, тоже двоечником был.
— Пушкин нам незачем, есть свои примеры.
Учебник лежал перед Асиком раскрытой страницей алфавита, который мало отличался от русского.
— Асик, начни читать на открытой странице.
Асик, блёклый не только веками смотрителей, но и кожей тела, смотрит в недра книжного листа. Приветливый ласковый голос классной руководительницы точит тишину класса. А в глубине страниц — веточка, камешек, штыки забора, плевок на асфальте — так плюют папа и дедушка.
—Прочти хотя бы одну букву!
Ребёнок утыкается в одно единственное, что знает буквой. «А». Не помнил он в тот день как произнести её, как рассказать соприкосновение её веточек. А если бы не так, осмелившись рассказать — буква бы стала криком.
— Ты видела? — раздулась Людмила.
— С этим понятно. А та, которая рядом с ним сидит? — Олечка осталась холодной, подобно камню её коленей.
— Эта по-осетински ни «б», ни «м».
Олечка посмотрела на часы запястья. Женщины переглянулись. Раздутая, прикрывая внешнюю горечь, завернувшись в платок, Людмила Васильевна поднялась из-за стола, а за ней следом и подруга. Вечер сгущался во дне, Ирочка обронила: «Осень будет холодной».
— Сидите тихо, я сейчас вернусь. Если один звук услышу — буду разговаривать с вами по-другому. Я тут, недалеко.
Дверь захлопывается. По комнате проносится полуобщий вздох облегчения.
— Сколько они разговаривают!
— Вы что-нибудь прочитали?
— Я ничего не запомнил.
Не запланированная перемена без звонка, и класс из семи маленьких людей собирается в полукруг говорящих и молчащих: первые размахивают руками, вторые — стоят позади, два типа составляют линии и точки, благодаря выбивающимся из полукруга немым, незащищённым трусам — переводилось всегда по-разному. В тот день точки и линии гласили: «Воздух во мне имеет остриё кинжала, мое горло проткнуто, оно — кладезь умерщвленных слов и предложений, раскол их в алфавите, это где каждая буква — могила. Мой язык растерзан, он — клочки, вихрящиеся на ветру непереводимого многоголосия. Если ты прикоснёшься ко мне — я стану паром, я стану пылью, я преклоню колени. Обними меня».
Мальчик повис в воздухе между одноклассниками, из кожи его торчат дыры без крови. Когда в них входит по пальцу, он слышит:
— Ты совсем, что ли, читать не умеешь? — говорит одноклассник с перекошенной переносицей.
— Да он и говорит с трудом, — вставляет Рина, скрещивая руки.
— Может, он больной? — Скиф стоит почтенно в линии высказывания.
— Не знаю, — Рина улыбается. — Они же сказали, что его мама ловит машины на повороте.
— Тогда понятно. Смотрите, какая у него кожа. Наверное, цыган какой-нибудь его отец.
— Я видел его отца, — хмурится кривой перегородкой. — Он нормальный.
— Он-то нормальный, но не точно, что отец, — поднимает брови девочка.
— У нас здесь цыган! — кричит Скиф.
Круг был узок — пары рук коротки и не малочисленны. Асик стоял в центре, будто бы блестящий предмет, или высеченная в материи молитва — так прыгали вокруг его плечей. Он улыбался. Потому что хотел улыбаться им так же, как улыбались они, пока кружились вокруг его глаз, словно сферы. И было совсем не важно, что они говорили, ведь это был самый первый раз, когда они улыбались ему одному. Он был планетой зарождения жизни. Такая абстракция кипела, трепетала в кружении сфер, так ново и чисто ощущалась жизнь в то мгновение, когда хохот проник в его сердце, и его тело стало мягким, бескожим. И он любил их.
Раздался шум за дверью. Никто не заметил. «ЦЫГАН, ЦЫГАН, ЦЫГАН». Асик сделал шаг навстречу выходу из круга. Или навстречу кому-то из одноклассников. Он был слишком близко. Столкновение отбросило его обратно, прямо в эпицентр. Может быть, был он вовсе не планетой? Может быть, это было падение, а они — вихрь лживого принятия в атмосферу? Куда он падал: в одно из триллионов неизведанных тел космоса, в чёрную дыру, или в простое, окончательно ровное безразличие человеческого смеха?
— Отпустите его, ему неприятно!
Ирина стояла позади, вне прыжка, скрестив руки на груди. На ней висело пятно тревоги, несовместимой и лишней, внезапно органической субстанции, прилипшей к ней изнутри.
Асик смотрел на свои старые чёрные туфли. Запястья его обхватили друг друга, плечи поджались. Через мгновение его искажённое лицо разразилось безмолвным криком истомы замкнутого в пространстве животного.
Хоровод не был нарушен ни восклицанием, ни приближающимся воплем, ни тишиной школьного коридора. Ирина подошла вплотную к Кривому Перегородкой, и почти вошла внутрь чужого падения. Ладони размыкаются. Вспотевшие, запыхавшиеся дети не снимают улыбок.
— Ты что, влюбилась? — спрашивает Рина. Противоположная Ирине, она стоит во главе хихикающих.
— Я? Да ни за что в жизни. Просто это плохо.
— Мы же шутим.
— Мне мама говорит, что нельзя так шутить.
Ирина прошла в разрозненный круг и взяла Асика за локоть. В этом не было ни дружбы, ни признания, ни даже поддержи. Обычная рука и обычный локоть — ничего, кроме касания, не связывало их, разве что теперь он поднял на неё глаза, как маленький муравей, застывший на месте — казалось, в нём не было ни признательности, ни благодарности — лишь один животный ужас замкнутого в общественном порядке маленького создания, не знающего предписаний.
Ирина вывела своего соседа по парте вон из окружённости, увела и посадила за стол.
Учительница не показалась из-за двери. Раздался звонок с урока. Девочка уселась рядом с соседом. Когда в их спины ударялись слова — повторяющееся «жених и невеста» — она склонились над партой, перейдя границу, созданную и начерченную ею же, и стала говорить. И теперь произнесённое омыло мальчика холодом льющегося водяного потока, разливающегося по бокам, остужая горящую бескожесть от падения сквозь атмосферу. Будто бы тогда, испытав разность одного целого, он перестал быть стихией, и ею стала она. Он не понимал, чего она хочет, что говорит. За окном выл ветер. Классы и коридоры наполнились шумом высвобожденных от занятий детей.
— Ты понял меня? Не обращай на них внимания, они глупые, — гордая собой, Ирина оглянулась на ухмыляющихся, и пододвинула книгу к его скрещённым на столе ладоням, — Давай почитаем вместе.
Ритм выравнивается, дыхания замедляются, а глаза стекленеют. В погружённости заставленного тучей солнца дети расхаживали по классу. Вскоре приходит Людмила, указывая рассаживаться по местам. Короткий кусок шума, шуршание дерева стульев — Ирина забирает свою книгу.
— У тебя есть учебник? У нас сейчас осетинская литература. Посмотри у себя в портфеле.
Достав книгу и положив её перед собой, Асик взглянул на Ирину и замер. Она смотрела на него и улыбалась. Еле заметно, уже потухающее, страшно слабо, но улыбалась — ему! Её косы лежали вдоль спины. Как в тот день, прошедший совсем недавно.
— Открываем домашнее задание. Кто сделал?
Зашуршали листы бумаги, опустились головы, потухли огни улыбок и взглядов.
— Спасибо.
Девичья ладонь останавливается над страницей. Ирина обернулась медленно. Осторожность её поворотов хранила судорожность холода застывших мыслей, морозность дрожащих рек под оледеневшей кожей, сожаление. Неморгающие глаза нашли соседа по парте, но он больше не глядел на неё. Ветреность листвы напоминала о крови. В тот час замерло всё. Лишь деревья, тревожащиеся ветром, да опущенная голова — всё, что осталось.
Больше Ирина не улыбалась ему никогда.
***
В доме витает запах прошедшего детства. Этот запах, вспомнившись человеку спустя годы, скажет не только о конце, но и о сути — он явится воспоминанием не о дне, где пусто и холодно, но о минуте, когда мама гладит по голове, и папа спит под жужжание комара. Там мягко и влажно, почти что темно, и там ты — живой. Такие вещи, заканчивающиеся, прошедшие, окутанные ностальгией высокого возраста, откуда не увидеть пощёчины или кожи ремня, стирают зло, а иногда — раскрашивают его в красный. Понимаете, хочется помнить вздымающийся живот, выпирающую лопатку, растягивающиеся в улыбке две линии когда-то целующих тебя губ. А вспомнишь дрожь земли под ногами, немой вопрос, пустые бутылки у изголовья — становишься маленьким, словно насекомое. Такие запахи оседают надолго. Когда особенный вздох заискрится воспоминанием — ты вспомнишь не то, что детство закончилось, а то, что оно когда-то было.
В тот день в доме было тихо. Из-за угла раскрытой настежь двери доносился шум телевизора, ткани на окнах танцевали моросью. Женщины не было ни в одной из комнат, Асику не нужно было проверять каждую, чтобы знать. Когда мама дома, воздух становится плотным, наполненным присутствием полубогини, снизошедшей к тебе, и неважно, как больно может быть.
Асик стоит в переднем дворике. Асфальт завален грудой хлама, обрывками металлолома, безобразностью. Через год чёрный костюм, купленный в первый класс, совсем сойдёт с этих опущенных плеч, и придётся покупать новый. Появившись на первый звонок следующего года, ученик четвёртого класса будет бродить по школе в новом костюме, одухотворённый его красотой и безупречностью — его плечи расправятся совсем ненадолго, забудется прошлое, и кто-то, возможно, подумает про него, что он изменился. А костюм постареет через неделю-другую. И всё вернётся на круги своя.
В груде хлама завалялось зеркало, оно было прислонено ко внутренней стене бетонного забора, ограждающего лишь правую и левую сторону дома. Запятнанное, выброшенное — оно отражало недвижимую фигуру мальчика, окружающий его беспорядок вещей, его беспрестанное дыхание, моргание, биение и шаг, сделанный вперед. Асик встал ближе. Быть может, чтобы всмотреться? С той стороны зазеркалья на него глядело истончённое лицо, пустошь человеческих девяти лет. Впустить ребенка в тёмное нечто размышления? Кто даёт одобрение, когда? Как заслужить чести быть выбранным?
Немного выждав, вглядывающийся в отражение своих черт ребёнок, будто убедившись в том, что внутри действительно он, Асик — мальчик крутит головой, приоткрывает рот.
— А… Б… В… АВ… Г…
Из-под крепко прижатой к земле ноги выглядывает окурок, плотно придавленный за глотку. Тишина была полна постороннего, а его глаза — счастья.
— А-Б-В-Г! А-В! В! А!..
Асик бросает портфель с плеч, бежит строго вон за ворота, на улицу. Улица была пустынна, а окна — занавешены. Асик пустился бежать вверх по улице, вон из линии приросших друг к другу домов, к просёлочной дороге.
Там, в пустоши безлюдья, на объятой постройками улице, а дальше и потом — в поле вьющихся трав — ещё десяток минут будет звучать крик, звучание одной маленькой жизни на краю мира. Навстречу ему неслось сплошное и капризное — безликая вечность, многоликое мучение, само ничто.
«Казалось тогда, что кто-то ждёт меня впереди, встречает, что кто-то знает меня. Так изголодался я по звучанию собственного голоса, таким большим я стал в мгновение, когда разразился буквами, которые, оказывается, помню. Никто не встретил меня. И никто не знал. Я вернулся домой той же дорогой, что пришёл. И ничто не ждало меня впереди. Кроме огня и стали».
Глава 2
Быт среднестатистического семейства городка Х. равнялся быту семьи статуса ниже среднего. А быт семейства выше составлял небольшой выход за стандарт — ванная комната, современный унитаз со сливным бачком — вот и вся роскошь. Отнимите это — все станут равны.
Прошло четыре года. Асик переходит в шестой класс и становится самым высоким среди одноклассников. Его голова была начисто лишена волос, а ладони стали крупными, разросшимися, словно ветви — стали руками рабочего человека, с засохшей копотью на запястье.
Обычно он и его семья купались в тазике ядовитого розового цвета, который выносился на задний двор, прямо против срубленного деревца, ставился на землю, покрытую разбросанными повсюду камешками. У Асика появилось двое новых лиц — брат и сестра. Младшим помогала мама, поливала их из ковша, старшему же приходилось справляться в одиночку. В одной руке ковш, в другой — мыло.
Умения Асика в чтении и правописании не изменились нисколько. Но, как у ученика средней школы, у него было безоговорочное преимущество — он никогда не опаздывал в школу и никогда не пропускал ни дня. Это было преимущество, не видимое для глаз.
В то утро октября туман обволакивал на шаг вперёд. Словно в холодном облаке, Асик шёл в школу медленным шагом, спрятав ладони в карманы куртки. Подошва пропускала ветер, и мальчик как никто знал, какая сегодня озябшая земля.
Временами туман желтел, рассеивался. Мальчик фантазировал, что каждая белая частичка тумана — чья-то душа, не прошедшая ритуала инициации. Ему казалось, что все станут туманностью, когда придёт время умирать.
Спустя десять минут дороги стал виднеться «Центр» и зелёная крыша школы. Внезапно, словно кто-то выдохнул в пространство, непроглядная сопровождающая серость развелась вдоль дороги. Жёлтый луч света пронзил околевшую землю, тут и там сражая облачную тьму. Асик увидел магазин, а вскоре услышал звон колокольчика открывающейся двери, из которой вышла крошечная компания друзей. Если бы голос, так приветливо адресованный не ему, мог порезать кожу, Асик непременно лежал бы в луже собственной крови. В медленном приближении к неподвижности школьного двора луч света сделал последний выпад, упав ровно в собравшуюся на дороге лужу прошедшего дождя; она была похожа на посветлевшую грусть.
В лужу света погрузилась нога одного из компании, разбрызгав луч на своих товарищей. Компания разразилась хохотом. Осмеянный, промокший ногой стыдливо оглянулся. На него смотрели стеклянные глаза Асика. Все продолжили путь.
***
В залах школы пахло затхлостью, сгущённой спёртостью и вчерашней уборкой. Спустя час после начала учебного дня залы заполнялись запахом завтраков из столовой первого этажа, а ещё через час к ней выдвигались немногочисленные легионы младшеклассников. Дети без пособия, перешагнувшие за пятый класс, оставались на попечение своих карманных денег. Те, у кого таких не водилось, без стеснения слонялись у раскрытых дверей столовой в ожидании детей, выбегающих с коркой хлеба. Иногда возникала просьба. Тогда корок хлеба выносилось не меньше двух.
Асик стоял среди прочих. Облокотившись о стену, он осматривал зелёные столики, встающих из-за них людей, их руки, танцующие щёки. Посуда относилась в подсобку, погружённую в полумрак, самими детьми. Неподалёку от входа закончил завтрак мальчишка в красных кедах. Заправлял рубашку в штаны; голова с торчащими соломенными волосами повернулась и приметила Асика, махнувшего рукой на сетку хлебницы. Мальчишка убежал убирать со стола, а, выбежав из подсобки, схватил с ближайшего стола две корки хлеба, одну из которых торопливо всунул в вытянутую у порога ладонь просящего, бегом скрывшись за поворотом коридора.
Радуясь в одиночку, Асик поднёс завтрак к раскрытым губам. Но внезапно сжавшаяся рука оказалась пустой, а мелкий откусанный кусок — последним. Тёплая тень за спиной. Мальчик, наступивший на лужу света — вор — стоял дерзкой улыбкой и оживлённо жевал выпрошенную Асиком мякоть. Нет и мысли — лишь нахмуренные брови непонимания, когда Асик выбрасывает руку вперёд, забирая своё, справедливо принадлежащее ему одному. Ладонь-ветвь промахивается, хватает сквозняк продуваемого помещения — снующие в школу и вон из неё ученики, шумные хлопки тяжёлых дверей и солнце, вытянувшееся на болезненно сером небосводе.
— Спасибо
Он хлопает его по плечу. Прожёвывает последний кусок мякоти. Убегает по собственным делам. Выброшенный из мира букв, Асик непременно хотел подумать: «Ко мне прикоснулся человек». Но он только стоял. Столовая опустошается, гул посуды и голосов затихает. Звенит приглашение на урок. На плече Асика остаётся след, холод неизвестного.
Когда Асик взбегает по лестнице широкими шагами, поспевая к уроку русской литературы, его класс стоит в коридоре в ожидании учительского присутствия. Рина уехала в Армению пару лет назад, и одноклассники потеряли интерес к пристальному вниманию к чужим особенностям. На место заводилы класса приехала нежная девочка из соседнего города, Мадлена — утончённая стройностью фигуры, романтичная леди стала влюблённостью многих — конечно, она не хотела никого дразнить. Вражда утихла.
Таймураз — прилежный ученик, любящий футбол и танцы, Скиф — его верный соратник, Зара — старшая дочь многодетной семьи, Русик — «перекошенный перегородкой» и Ирина.
Девочки сидели на подоконнике, прижав икры к горячим батареям.
Родима Вольдемаровна имела привычку появляться спокойным шагом и тогда, когда опаздывала открыть дверь своим ученикам. За ней шёл шлейф иссушающего пространство парфюма, стук каблуков и нередко — подруга соседнего кабинета, Ольга — заведующая школьной библиотекой. Родима Вольдемаровна часто была обвита увесистыми одеждами: шубой, плотным пальто и висящим по бокам платком.
Это была женщина лет шестидесяти пяти; якобы благородно состарившаяся, она имела выразительные кошачьи черты лица, а движения её были диктованы грацией женщины, воспитанной на русской литературе. Дочь военного, она знала про дисциплину всё, и в том числе необходимость наказания; и имела свой метод обличения чужой неправоты, выработанный за годы практики.
— Чудо, все в сборе. И Ирина здесь — явление Христа народу!
К поднимающейся подбегает Скиф, забрав ключ от двери в кабинет и её сумку. Таймураз скоро заправляет телефон в карман и выпрямляется, девочки спускаются с подоконников и встают в общую группу. Когда дверь была отперта, первой вошла Родима Вольдемаровна.
— Впустите девочек вперёд себя, будьте джентльменами.
Сумка была положена на учительский стол, ключ — аккурат рядом. Школьники рассаживались по местам.
Родима Вольдемаровна была аккуратна, ухожена; она никогда не изменяла себе. В свои шестьдесят два года она была пышущей жизнью старушкой, ничуть на старушку не походящей. Одетая с иголочки, с вызубренными жестами и мимическими выражениями. Садясь за учительский стол, заставленный книгами в высокий ряд, походящий на баррикаду, вся она издавала звон выученного изящества, утончённости, правильности. То ли лилии на её одежде, растущие вниз головой, то ли седой волос, покоящийся на её плечах, или вовсе пальто, криво свисающее со стула, пыль, налётом лежащая на книгах — что-то выдавало её. Тогда движения изящества становились похожими на слизь змеиной изворотливости, тонкость — на истончённость, а правильность — на пепел, очерняющий голое тело. Тогда она походила на сущность, слезливо взирающую ввысь из глубокой ямы. Парфюм её смердел разоблачённой гнилью.
— Откройте окно, как здесь душно. Вчера убирался пятый класс, посмотрите, какие разводы на полу остались. Сегодня убираетесь, если вы не забыли. Чтобы я такого не видела.
Асик прошёл в дальний угол третьего ряда — сел за последнюю парту, повесил рюкзак на спинку стула, уселся за стол, впритык животом. Мадлена раскрыла окно неподалёку от него, а учительница заняла своё место, надев очки; ученики раскрыли учебники, Мадлена вернулась за свой стол.
— Что у нас сейчас, литература, язык?
— Литература, — раздаётся хор голосов.
— Отлично. Я задавала вам два стихотворения. Кто выучил? — два ястребиных глаза осмотрели детей из-под рамы очков. — Что, никто? Поднимите руки, кто выучил.
Немногочисленные руки немногочисленного класса поднялись вверх.
— А ты что, сильно занят был? Почему не выучил?
Скиф сжался над собой, покраснел кожей, опустил взгляд на скрещенные руки, промолчал.
— Понятно всё с тобой, — мальчик был облит вязкой субстанцией стыда и жижей смердящей настойчивости учительского взгляда. — Зара?
— Я выучила только одно.
— Я не понимаю, что такое с нынешним поколением.
Учительница сняла очки, подвязанные мелкой бордовой верёвочкой, и откинулась на спинку стула.
— В наше время даже двоечники учились лучше, чем вы. Они были начитанными; а чтобы прийти на урок неподготовленным — такого вообще не было в СССР. Все были дружными, чистенькими, и дурачились только на переменах. Было серьёзное отношение. А сейчас что? Вчера услышала, как возле магазина мальчики матерятся — меня они не видели. А я к ним подошла, не прошла мимо — наши восьмиклассники. Нет, я понимаю, нравы меняются — но можно матом хотя бы не кричать в самом центре села? А через пару лет они превратятся в тех бездарей, которые колесят по селу в своих приорах, ничего кроме спортивок не надевая. В моё время ходить в спортивной одежде в будний день — да это было стыдно! А теперь ничего кроме этого не знают. Вы от них ничем не отличаетесь, каждый урок одно и то же. Вы хоть отговорки научитесь придумывать, чтобы интересно было слушать. А нет, молчат. Что вы молчите, языки проглотили? Нечего вам сказать? Вот ты, Ирина, выучила ты урок?
— Да, — ответила она дрожащим голосом.
— Выучила, значит. Ну, вставай, мы все во внимании. Хоть одно прочитай.
— Лермонтов Михаил Юрьевич, «Родина».
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит её рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни тёмной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю — за что, не знаю сам —
Её степей холодное молчанье,
Её лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек её, подобные морям;
Просёлочным путём люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
Люблю дымок спалённой жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь жёлтой нивы
Чету белеющих берёз,
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно.
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
— Вот видите, это не сложно. Садись, — Родима осмотрела детей, её губы сморщились. Взгляд остановился на опущенной голове Ирины, — Тебя почему в школе не было, у тебя справка есть?
— Да, есть — я болела.
— Вы с мамой что, эти справки печатаете? Я вот не могу понять такого отношения. Как тебя на учёт до сих пор не поставили? Говоришь, болеешь, в сама разъезжаешь на автобусе до города и обратно. Так не болеют. Что у тебя за мама? Будь у меня такой ребёнок, я бы это так просто не оставила. А она позволяет тебе. Видела твою бабушку, прекрасная женщина — говорит, матери не помогаешь. Что, сложно полы помыть один раз? Да хоть бы пыли чтобы не было, разве так приятно в доме находится? Намочила тряпку, протёрла. Еды у вас, говорит, не бывает. Сложно на работу пойти твоей маме, ты ведь большая уже, и брат твой из школы выпустился — не судьба на работу ему устроится? А такая сейчас молодёжь, лишь бы на шее у родителей сидеть. Хотите, чтобы всё вам на блюдечке пришло с золотой каёмочкой. А так не бывает. Ходи в школу, ты ведь в прошлом году так хорошо училась. Завралась совсем. И маме помогай.
Землетрясение детского сердцебиения не сотрясло ни стен, ни окон, ни портретов великих. Таймураз и Скиф оглянулись, посмеявшись приподнятыми уголками губ.
Родима Вольдемаровна плотнее закуталась в свой платок.
— Асик, закрой окно, совсем уже холодно стало.
Окно было закрыто, Асик вернулся на своё место.
— А ты что-нибудь выучил? — обратилась Родима к мальчику. — Что я сказала тебе выучить? Давай, начинай читать.
Тощая спина мальчика накренилась над столом, головой в двух сантиметрах от листа бумаги, Асик упёрся руками в край стола; губами беззвучный, он проговаривал слог — или просто одну букву. Палец на слове, голова — ещё ниже; ни звука.
— Что ты там бормочешь? Вслух читай.
За окном раздались голоса детей, мчащихся по асфальту в поддеревье небольшой рощи, спрятанной от глаз неподалёку от поляны с торчащими в двух концах воротами.
— Да что же это такое! — ладони Родимы Вольдемаровны с грохотом опустились на дерево стола. — Читай, кому я сказала!
Асик сидел в прихожей дома, за небольшим передвижным столиком, пока мама с папой были в комнате с громким телевизором. Подперев голову ладонью, мальчик смотрел на учебник, где буквы плавали, словно в речке. Мама сказала прочитать всю страницу, а когда она вернётся из комнаты с телевизором — он должен будет читать вслух. Обычно, когда мама так кричит в комнате с папой, Асику нельзя заходить внутрь. Ему нужно ждать, пока мама не откроет дверь. Поэтому он ждёт.
Ноги свисали со стула, до уха доносился голос кукушки, а ткань, повешенная на входе, вилась в воздухе продуваемой прихожей. Из-за раскрытой двери было видно — собирался дождь.
Скоро вышла мама — на ней была розовая майка. Уперевшись рукой в стену, она натягивала красные трусики. Из-за её спины виднелся папин живот, торчащий на диване. По телевизору шёл футбол.
— Ну-ка, что ты у меня тут прочитал, рассказывай.
— Я ничего не могу прочитать, — грустно опустил глаза Асик.
— Как это не можешь, что-за глупости? Давай вместе почитаем, не бойся, это — ничего страшного. Что это за буква?
Мама показала пальцем на первую букву, плавающую рядом с тремя другими. Он уже видел её раньше — никак не вспомнить где, и как её называют люди… Но он знал это сочетание веточек. Он только в первом классе. Ни у кого не получается с первого раза. Его одноклассникам нужно постараться несколько раз, чтобы хорошенько вспомнить, как зовут букву.
— Мамочка, я не понимаю.
— Читай, Асик, — голос мамы посерьёзнел. — Это не сложно. Читай.
В речке было тепло, как летом. Все умели плавать, каждый говорил своё — волшебные заклинания звуков, столкнувшихся друг с другом веточек; в этой речке стояло солнце, шумели деревья, синело небо — как синело пятно под левым глазом Асика. Он стоял на берегу, опустив в речку большой палец ноги. А в речке водились крокодилы и акулы, водяные злые собаки и большие чёрные кошки, которые царапались и шипели. Речка была глубокая, страшная — и ни одного весёлого человека в ней. Мама и папа сохли на берегу. Асик не хотел утонуть — ведь он совсем не знал, как плавать! Но одноклассники стояли в воде по колено.
— Ты меня не слышишь? Кому я сказала? Читай, кому я сказала!
Асик согнулся над книгой.
— Не хочешь?
— Что он сделал? — раздался голос папы, встающего с дивана. — Что ты орёшь?
— Ничего не делает! Посмотри, ничего не понимает — что за ребёнок!
Мальчик поворачивает голову к маме, но она не смотрит. И в нём есть речка — иногда она течёт из его глаз, холодная и пустая — никто в ней не плавает. Мама, отвёрнутая, встаёт и уходит к телевизору. Мама любит смотреть футбол с папой.
— Ты почему не слушаешь маму? Хорз лаппу на да? Лаг на да? Ты не хороший мальчик? Не мужчина?
В доме стучат руки и кости, где-то не смолкает кукушка. На улице разговаривают бабушки. Вечереет.
— Ладно, это бесполезно. Открывайте новую тему в учебниках — там, кажется, Бунин.
Глава 3
После урока класс необычно для себя — совместно — решил отправиться в магазин, купить булочки. Напротив школы, рядом с синей вывеской Почты России, стояло два ближайших магазина; в левом наполовину пустовали прилавки, в правом — прилавки были не интересны, но в обоих одинаково стоял полумрак.
Дети стали выбирать, встав у подножья. В паре метров от лестницы в магазины на сырой земле сидел старик, подперев щёку рукой, он уткнулся в согнутые колени. Говорили, он работал на семью фермеров, разводящих скот — гнал их стадо от скотного двора до холмов, изредка прямо через «Центр».
Его имя было Павел. Густая седая борода, лохмотья волос — он сидел в тёмном джинсе, сверху до низу. Старик вовсе не походил на пастуха или на принадлежащего кому-то слугу. А ещё он никогда не обижал коров. Лишь стукал концом пастушьей палки об асфальт и шёл дальше. Дома его колотили хозяева, а ждал возвращения его один лишь пакет с вещами, который он закопал в земле под оградой хозяйского дома.
Затуманенным взором старик смотрел в землю. Не голоса привлекли его внимание, но близость множества пар ног друг к другу.
— И как будто старая Россия всё же жива, — внезапно произнёс он уставшим, но неожиданно громким голосом. — Воздух спёрт плевой угнетения, царь жив, а социалистический дух воспарит над страной через год только, а может быть, и никогда. Но сейчас же из-за угла появится барская повозка, сравняется с крестьянином, не поведёт и глазом. Где-то в Петрограде прозвучит «Призвать Пушкина сюда!», а над страной повиснет угроза, без имени пока, которая бултыхается в простом человеческом, пахнущем травой и сеном, не названном; когда и учёные мужи внезапно маются в зное знания, равные с людом рабским общей обездвиженностью застывшего в груди крика. И один Бог для народа, да и его уж нет. Как мираж, он вьётся над головами в час красный, а потом уплывает, будто бы сердце придумало его в скорби.
Дети вздрогнули, напуганные бессвязностью неслыханных до сегодня слов. Бывало, поравняется с Павлом ребёнок, да что и говорить — любой взрослый — и силится не смотреть, потому что если посмотришь — он смотрит в ответ, будто бы готовясь заранее встретиться с человеком взглядами; а в глазах его нечто — неприятная субстанция невысказанных слов. Иногда человеку нужен лишь союзник — даже для того, что не обернуть в слова. Потому что тогда кажется, что ты готов воспрянуть ото сна, идти вперёд с верой, проданной когда-то давно. Таким был Павел.
Он пришёл пару лет назад из другой глубинки России, совсем как Горьковский Рыбин, не зная, что повсюду другая глубина. «Ассимиляция наоборот!» — бывало шутил старик. Разве приходят искать правду русскую в чужеродный край родины?
— А у правды нет рода! И нации нет! — резко воскликнул Павел, вскинув руку, заставляя отступить кого-то из детей. — А она как есть, без одежд и лица — так и есть. Это вы её переодеваете и раскрашиваете. Но я знаю. Там, в сердце своём, она одинаковая для всех. От того-то и больно мне, милая, — Павел нашёл за спинами мальчиков лицо Ирины и схватился за голову. — Душа ж её живёт в каждом, но все мы одинокие, живём сами по себе на свете: сами родились, сами и помрём. А собраться нам всем, посмотреть друг на друга, заплакать! Поняли бы мы всё, всё бы поняли, почувствовали, как я чувствую!
Павел спрятал лицо в рукаве джинсовки, глубже прячась в прижатые к груди колени. Одноклассники переглянулись. Из-за их спин вышла Ирина, подошла ближе на пару шагов к вздрагивающей на земле фигуре старика.
— Стой, ты куда?.. — Таймураз прошипел сквозь зубы.
— Дедушка, с вами всё хорошо? — тихо произнесла она.
Почти шёпот. Тайное сочувствие. Павел поднимает заплаканное лицо, будто бы пробуждённый от тревожного сна, лицо его преображается.
— Дедушка, говоришь?..
Ирина стоит, словно лишённая тела, думая, что он похож на Смерть. А щёки Павла влажнеют, улыбаются; кажется, до того не дышащий, Павел задышал легко и радостно, и всё вокруг заискрилось жизнью, ритмом вздымающейся груди старика.
— Ты, милая, поди сюда.
Ирина не сдвигается с места — так ей кажется. А ноги идут ближе, слушаются.
— Не поверишь ты мне, но видел я Пушкина. Всё это рассказал ему! Больше не мог молчать, не смог! Я думал, утешит он меня, как Христос, омоет горечь мою бесконечную, поцелует по-братски. А он — покраснел сначала, потом побледнел, а потом вдруг задрожал весь и залился слезами. И горечь моя была его горечью. Ты думаешь, почему это все так любили Пушкина, а? Это всё потому что душа его вся — как две капли душа правды, но нагая, честная — для народа. И он не смог сказать, чему названья нет — а когда слышали его, видели — понимал народ, что на одном дыхании они все вместе, на последнем издыхании. От того, что доброта его была большая, от того, что излилась душа его вдоль и поперёк, казалось тогда — божеская это сила то, и ширина души тоже божеская. Ан нет! Человек-то он был, как все! Моя в нём кровь была, твоя. От того-то меня всегда в слёзы вело, читая его. Такая нежность брата к брату, чем бы не молвил он.
Говорящий тихий медленный голос прерывается. Смотрит пристально, молчит. Нет страха больше в глаза напротив.
— Я будто внучку обрёл, деточка. Здесь ладони черствеют от работы и у детей. Только у исключительных детей, — доверительно шепчет Павел, наклонившись ближе. — Другие детки тяжести поднимают только для того, чтобы в соседа бросить. Тут такое место: яма с муравьями-переростками. Мне вот часто снится, что эта яма горит. Она разверзнута катаклизмом; так сильно расколота земля, что и небо дрожит. Я вот диву даюсь — никто и не видит, что ли, кроме меня? Но уж больно важно заметить: кто-то поднимает ветку чтобы убрать, а кто-то — чтобы ударить. А кто-то — третий. Но не будем об этом… А четвёртые-то! Как же. Ни коровьего засохшего не видят, ни запаха здешней водицы не чуют. Иногда случается: ударь их, а они палку поднимут, обернутся, а у них и вовсе три!
— Три? — переспрашивает Ирина.
— Эх вы… Люди. Не видите, что в мире творится?
— Что ты здесь забыл? Иди отсюда, я тебе сказала! — раздался высокий писк из приоткрытой дверцы магазина. — Одну вонь разносишь! Иди работай, не продам я тебе водку, и так мне деньги должен! И не сиди здесь, не жди!
— Эх вы, люди… Нелепые обиды. А вдруг не станет меня завтра, жалеть не будешь? — Павел встаёт с земли, ухватившись за стену за собой.
— Ну и пусть, кому какое дело, станет или не станет? Пошёл вон!
— Правильно, и дела ей нет, — улыбается Павел, подмигнув Ирине. — Ну, спасибо, детка, послушала дедушку. Ну, ступай, поздно уже.
— А вы что тут столпились, урок уже десять минут назад как начался! Быстро в школу! — вскрикивает женщина.
Дети срываются с места, позвякивая карманами. Асик — позади всех.
Глава 4
День подходит к концу кое-как. За стенами школы — тишина опустевших кабинетов, нарушаемая лишь редкими шагами задержавшихся случайно учеников. Дверь в школу распахнута, залы и коридоры, продуваемые насквозь, обеспокоены лишь вознёй уборщиц, когда воздух спёрт запахом стирального порошка, замешиваемого в воду для мытья полов, а покой раздаётся шумом движущейся взад и вперёд швабры. В подсобке библиотеки поправляют спадающие с плеч платки женщины, пыль книг оседает на их переносицы, раскрытые в смехе рты, а ближе к двум часам пробуждается актовый зал: в нём кричит полная женщина с глянцевыми белоснежными волосами и обвисшим подбородком; она размахивает руки, заведуя гитарами, балалайками, шахматами и, кажется, жизнями — мифическое животное с пастью в сорока клыках — за ней вьётся длинная юбка коричневых цветов и маленькая подручная помощница пятидесяти лет — с ласковым голосом и лукавыми глазами, она учит играть на балалайках, гитарах, шахматах, а когда дети плачут, поздно спохватившись об украденном — секретно шепчет: «Она полная дура!».
В этом царстве обитает учительница музыки, имеющая длинный бурдюк смазанных гелем кудрей, уходящих в потолок. Преподаватель осетинских танцев, известный хореограф из соседнего посёлка, вечно одевающийся в чёрный. Все свидетели, безмолвные статуи прошлого, потерявшие имена.
Асик шёл в ряду со Скифом и Таймуразом — четверо творческих звёзд стояли в раскрытых дверях актового зала. Меховой платок, высокая копна волос, чёрная водолазка, коричневый подол юбки — и не взгляда в сторону.
Асик заслужил идти рядом с одноклассниками — это умение, отточенное временем. Прогоняемый, обруганный грубостью, насмешкой, Асик научился наглости не двигаться с места, а после — следовать подле, почитая это за честь; на его лице проскальзывала горделивая улыбка. Ему было позволено смотреть футбольный матч на мобильнике Таймураза, но только чтобы не наклоняться слишком близко к экрану — это было важное условие. В мгновения, подобные этим, он чувствовал себя частью чего-то большего и был почти счастлив.
Трое школьников вышли за распахнутые двери школы и спустились с короткой ступенчатой лестницы под деревья близлежащей рощи, в которой был спрятан могучий дуб-старик, и каменистое здание спортивной секции с решётками на окнах. Под ногами хрустел гравий, пахло вазелином; двое друзей обсуждали Лионеля Месси, Асик плёлся рядом — пока гул птичьих голосов не сменился гулом переговаривающихся между собой борцов, стоящих в очередях к редким тренажёрам, прижатым к правой стене — на матах сцепились двое спортсменов.
— Кого я вижу!— раздались приветствия вошедшим.
Все участники спортивной секции были старше них в два раза. Таймураз и Скиф не были частыми гостями здешних мест — не доросли, Асик — подавно. В тот день он вошёл в новый дивный мир, закрытый для него навечно с самого начала. Щуплый, хилый ученик шестого класса. И чуть менее щуплые и хилые — его одноклассники.
— Что вы тут забыли, заблудились? — оскалился сидящий на тренажёре ученик девятого класса Алан.
Мальчики неловко посмеялись. Присутствующие обменялись рукопожатиями.
— Ну что, будете сегодня работать или позевать пришли опять?
— Не, мы больше по футболу, — откликается Таймураз.
— А что вы сюда приперлись тогда, футбольное поле тут рядом?
— Поздороваться зашли.
— А, поздороваться, — хмыкает Алан, поднимаясь с тренажёра. — А обезьяну зачем привели?
— Мы его не приводили, он сам за нами шёл, — взбудоражился Скиф, нахмурив брови.
— Ты что, пацан, зачем за людьми ходишь? Устали они от тебя, посмотри какие недовольные.
— Да он наш одноклассник, — пытается посмеяться Таймураз.
— Ты их одноклассник, что ли? В школе учишься? Да… Я помню, видел, скачешь по коридорам. Поди сюда.
Асик не понимает, но подчиняется. Одноклассники остаются позади, а он встаёт перед Аланом. Он чувствует запах чужого тела, наблюдает холодный взгляд сощуренных глаз и каплю пота, скатывающуюся по белой шее.
— Так, я знаю что делать. Пошли-ка за мной, и вы двое тоже, он же с вами.
В огромном зале спортивной секции стоят арки в неустроенные помещения, оставленные под ремонт много лет назад. В заваленных мусором строительных материалов, сигаретного пепла и скомканных остатков фольги, еле освещённых, в них хранилась ненужная школе мебель и темнота голых стен и сырого пола, с проглядываемой кое-где голой землёй.
За Аланом следуют друзья, оставив свои дела; Асику не страшно. Таковы правила дивных миров. Нужно пройти испытание, чтобы заслужить честь быть рядом.
Компания входит в дальнее помещение, лишённое окон, завернув налево — комната полнится сигаретным дымом и парой парней, сидящих на двух отломанных друг от друга частях бывшего кресла. Таймураз и Скиф поздоровались с сидящими, не видевшиеся пожали друг другу руки. Движущиеся головы освещала мелкая лампочка под потолком, лица — огонь вспыхивающих зажигалок.
Асику рук не жмут. Алан затягивается, обращённый ко всем спиной — он говорит с приятелем, кажется, совсем позабыв, зачем пришёл. Асик видит всех по очереди заново, не в силах разглядеть лишь сидящего в слабо освещённом углу помещения человека. Ему знакома лишь одна сторона его лица, нечаянно попадающая в свет от покрытой грязью лампочки. В ней он видит вора. В то мгновение мальчик пугается, судорожно осматриваясь по сторонам, и понимает, что стоит в самом центре комнаты.
Алан бросает сигарету на землю и хлопает в ладоши.
— Так. Чтобы было понятно — нельзя пускать в наш второй дом кого попало. Так говорит тренер — сегодня его нет, поэтому на мне, как на самом старшем, лежит ответственность.
— Мальчик, — Алан подходит к Асику и кладёт ладонь на его плечо, — сейчас я буду тебя бить, а ты будешь отбиваться. Или не будешь — на твоё усмотрение, — скалящийся девятиклассник сплёвывает. — А вы прекратите дымить, кто-нибудь может прийти.
Компания разошлась, встав в удобный для удерживания и наблюдения круг. Скиф, самый короткий ростом, потирает руки в нетерпении.
— Да бросьте, он же нездоровый, что с него взять? — раздаётся голос Таймураза.
— Значит, пришло время выздоравливать, — Алан снимает с себя мастерку и встаёт в стойку, — Иди сюда, покажи насколько ты мужчина.
Руки Асика вольно висят по бокам. Никто не гасит сигарет. Часто в любимых фильмах папы стоят также победители и побеждённые — до того, как упасть, до того, как напасть — а вокруг них сетки, не выпускающие наружу, и люди, свободные от боёв.
— Ну что же такое, — бормочет кто-то за спиной Асика.
Он чувствует пальцы, толкающие его вперёд, и летит прямо на соперника. Алан заносит руку для удара, но промахивается, не успевая попасть по падающему на землю мальчику. Его нос ударяется о правый кроссовок Алана. На шнурке, завязанном бантиком, остаётся капля крови. Алан раздаётся хохотом.
— Ты что, стоять разучился? Вставай, я так драться не умею.
Асика поднимают за руки. Ставят на место. Губы его краснеют кровью, глаза закатываются за веки. Лица, скрытые за баррикадами безразличия, ровны и тихи.
— Что ж с тобой делать? — вздыхает Алан.
Скула уже кровоточащего бойца ранится выпадом пощёчины. Падающий в темноте закрытых глаз, Асик упирается ладонями во влажную землю.
Дети собираются на уроке математики. По кабинету снуют мальчишки из класса постарше — с ними часто приходилось сталкиваться, когда не хотелось, потому что они были почти одногодками. Классы часто ставили на один и тот же урок — поэтому всем пришлось рано познакомиться.
Мадлена вытирала доску с горделивой осанкой, пока подле неё сновал влюблённый мальчишка чужого класса. Девочка не вела и бровью, скрывая еле заметную радостную улыбку.
В тот день Асик стоял неподалёку от Мадлены — его пиджак был заляпан мелом. Может быть, он держал тряпки, которые нужно отмыть от грязи, а может быть, просто оказался не в том месте и не в то время.
Влюблённый мальчишка бросил цепкий взгляд на хилого птенца и раскрыл пасть.
Судьба была такой, скажет иной человек. Оттого Асик попадал в круги чужого ожесточения. Он метался как загнанный зверь, прекрасно зная теперь, что значит эта человеческая улыбка.
В тот день на глазах мальчика выступили слёзы. Сжав кулаки, красный от гнева, он впервые дал отпор противнику, отобравшему его воздух. Противник смеялся, удивлённо переглядываясь с друзьями.
Мадлена проводила своего поклонника кротостью, любой другой — спокойно занялся собственными делами. Лишь у одного человека в тот день дрогнуло сердце. Оно дрожит и сейчас.
— Что вы здесь устроили? — во тьме арки раздаётся бас мужского голоса, — А тренироваться кто будет?
Тренер не глядит на опавшее на пол тельце, на кровь, засыхающую и бордовую, на сигареты, спрятанные за спинами. Алан тяжело дышит, уперевшись влажными ладонями в колени, смотрит на тренера исподлобья, ничего не говорит. Толпа шевелится, бросает сигареты за спины, наступает на выходе из комнаты, не поднимая глаз на тренера.
— Уберитесь тут, и чтобы на матах были через пять минут.
В комнате остаётся вор, Таймураз, Скиф и Алан. Последний направляется к выходу, не скрывая ни утомленности, ни скуки. Прежде чем скрыться, он говорит:
— Мне кажется, он выздоровел.
Таймураз переглядывается со Скифом, и они молча идут следом за победителем.
На языке Асика чернота земли. Вокруг — ни травинки. Щека упирается во влажное, почти мягкое и неотступно близкое. Заснуть бы, чтобы разбудили быстрые шаги мамы, вернувшейся домой. И папа дёрнется под щекой, загудит, перевернётся. Его глаза закрыты.
Слышатся шаги встающего за спиной. Не разобрать лица вора, неподвижного и безучастного. Его звали Марат.
Марат остановился перед лежащим на одно мгновение, в котором застывшая тишина, чужой взгляд, запах могил под носом. Когда оно заканчивается, вор уходит вслед за остальными.
Вечереет кое-как. Со второго этажа школы доносится музыка актового зала. Дуб гремит словами, затерявшимися в безлюдье.
Глава 5
Наступает февраль. Дедушка Асика заболевает невыговариваемой болезнью. Нередко по возвращению из школы мальчика отправляли составить ему компанию и помочь по дому, который находится совсем неподалеку от школы. Дедушка был бывшим механиком и учил Асика всем названиям инструментов, которые знал. Асик запоминал каждое.
В тот день он сидит во дворике дома, на потерявшей свою выкрашенность скамейке. Его большое тёплое тело укутано в короткую куртку, спина сгорблена, а брови сведены в единую полосу сосредоточенности. Дедушка очень старый. А ещё у него поседели ресницы. На левом зрачке его белое пятно, а борода длинная, как в сказке. Все называли его «Заронд Сатурн». И Асик мечтал однажды заслужить прозвище. Асик любил деда. Он подарил ему кнопочный телефон. В нём были игры. Очень мало, но и это неплохо.
Когда Асик садится подле него, от старика пахнет рыбой и отсыревшей одеждой.
— Что нового в школе?
— Ничего такого.
— А выучил что-нибудь?
— Сегодня нет, деду.
— Это нехорошо. Принеси-ка свою книгу.
Мальчик уходит в крошечную переднюю, достает из чёрного целлофана банку, нагретую молоком, оставленную лежать на табуретке вместе с книжкой, принесённой из дома.
Асик бежит обратно со стаканом налитого молока в объятиях обеих ладоней и с книжкой под мышкой. На землю опадает мелкий снег.
— Спасибо.
Старые ладони красные и в морщинах, под первым и четвёртым ногтями левой руки — засохшая грязь. Он отпивает из стакана с хлюпающим звуком, отложив инструменты лежать на скамейке.
«Я чувствую себя белым листом бумаги. Я покоюсь на сухой жёлтой траве, а в воздухе пахнет неведомым присутствием и копотью нажитых ошибок. Мне хочется стать травой, хочется стать сухостью под стопой прохожего, проходящего сквозь меня. Я никогда не знал стихов, мне не понять ни строфы. Я не знал дружбы. Я — обнажившийся провод, создающий неудобства и опасность. Однажды девочка улыбнулась мне. Однажды она перестала улыбаться мне. Я не знаю ни отмщения, ни справедливости, ни нежности рук. Поцелуй меня, мама. Я ангел твоего тела, ты — мой создатель. Где же ты? Мне так одиноко».
— Возьми книгу и почитай вместе со мной.
Зарон Сатурн не знал и слова русского языка. Поэтому, каждый раз приходя к дедушке, Асик берёт с собой учебник по русской литературе. Ему не хочется разочаровывать дедушку. И в тот день он кладёт книжку на колени, поднимает глаза на старика — видит след глины на его запястье, дым из кружки, белое пятно полуприкрытого глаза и тончайшую струю крови, текущей из его носа, и надеется, что читать не придётся. Капля падает в молоко. Взгляд Сатурна устремлён вперёд в прошлое.
— Деду…Деда…
— Читай.
— Ты придёшь на школьное собрание вместо мамы?
— Почему не идёт твоя мать?
— Не хочет.
Дедушка слегла посмеивается, отставляет стакан, тянется в карман за сигаретой.
— Я не приду, мой мальчик, там нужна твоя мама, а какой толк с меня? Недолго мне осталось.
— Не говори так.
— Не бойся!— Сатурн затягивается дымом, — Смерть — ничто. Жизнь страшнее смерти. Ты хороший ребёнок, поэтому не бойся. Жизнь каждого рассудит.
Дома очень шумно. Асик возвращается в шестом часу — на кухне горит свет, раздаётся хор мужских голосов, среди них и папин. Брат с сестрой дерутся на запылённом полу, к ладошке сестры прилип расплющенный таракан. Лапка его шевелится, сестра смеётся.
Мама торчит из кухни скрежетом ложки, снующей по дну сковороды. Друзья папы громкие, как паровозы. Размозжённые сигареты, сжатые кулаки по столу, вечереющий мир.
Стоящий в проёме, глядящий исподтишка, робкой уязвлённостью сына, скучающего по нежности. Как обнимает кость, кожа, твёрдость её руки эту ложку, как долго держит её, касается — будто бы она необходима ей, чтобы дышать. Я люблю тебя. Я люблю тебя, люблю…
Мама поднимает взгляд, не меняясь ничуть, точно также — исподтишка. Её взгляд ровен, пуст, словно было когда в этих глаза нечто такое, что никому и не снилось. Похищенное сокровище или тень мифического бога, замеченного мамой давно в молодости. Разожми ладонь.
Медленно наступает ночь. А вскоре — новый день. Туман утра одурманивает пейзаж обыденной картины жизни. Свет меркнет, чёрствые молчаливые фигуры бродят мрачно и холодно, смотрят под ноги, не спешат. Мерещится сон. Приближение к крыше школы рассеивает сомнения. Он не спит. Речка жизни течет необратимостью. Лишь знакомая пасть памятника прошлого глядела на Асика, и взгляд этот походил на печальную торжественность кладбищенского стража.
Незримый, Асик глядел в окно весь день. Роща, футбольное поле, погрязшее в росе и белеющей туманностью тьме сокрытого от глаз солнца.
По окончании дня он выходит из школы один. Сквозь тьму прорывается знакомая фигура, недавно выходящая из массивных дверей спортивного зала. Асик больше не следовал за одноклассниками. Фигура принадлежит вору. Тот идёт сам по себе, глядит под ноги, жуёт щеку. И подмечает Асика, медленно продвигающегося к выходу из школьного двора. Вор свистит и вприпрыжку подходит к остановившемуся младшекласснику.
— Домой идёшь?
— О… Да…
Марат прищуривается.
— Ты покупаешь сигареты для своего отца?
—Покупаю.
— Очень хорошо. Идём-ка со мной…
Когда идёшь сквозь холод, чувствуешь плоть его зябкой природы: это чистота и вечная память замёрзшего льда. Так преданна память холода природе.
Марат стоял у магазина, потирая руки друг о друга в жалких попытках согреться. Денёк выдался необычайно морозным. Звенит колокольчик открывающейся двери. Асик выходит из магазина и подходит к Марату. Тот выжидающе глядит на смущённое лицо мальчишки. В красную руку Марата ложится согретая красная пачка сигарет. Марат улыбается.
— Спасибо. Теперь ты кое что заслужил.
Небо сумрачно и грустно, когда двое ребят перелезают через забор, огораживающий территорию школы и прилегающий к спортивному залу. По мере приближения к укромному уголку в роще стал виднеться дым и запах подожжённой древесины. Трещат ветки, в воздухе витают голоса и приближающиеся к ним шаги. Это место — слепая зона, не прослеживающаяся ни с окон школы, ни с главной дороги. Присутствующие сидели у костра, подсунув под себя дощечки.
Асик замечает знакомые лица, когда входит в круг света. Все здесь когда-то смотрели, как он падает на землю. Все здесь забыли о том, кто он такой. Кроме Алана. Когда все опомнились от приветственных ритуалов при пришествии Марата, Алан, сидящий с бутылкой пива, осмотрительно спросил:
— Ты головой ударился? Зачем ты его привёл?
— Шкет заслужил.
Подмигнув стоящему за его спиной Асику, Марат достаёт из кармана две пачки сигарет и бросает Алану под ноги. Раздаются восторженные завывания. Алан прищуривается, достаёт сигарету и говорит:
— Если что, отвечаешь ты.
Смеркается. Асик сидит на влажном от непогоды брёвнышке, напрасно пытаясь согреть околевшие пальцы в рукавах куртки. Осторожно идёт снег. Школьные окна гаснут, поглощённые опустошённостью и проникшей снаружи темнотой скорой ночи. Бесстрашные школьники перекрикивают друг друга. Кто-то достаёт из-за пазухи пластиковую бутыль, которая вскоре станет дымиться. Асик замечает, что Марат вдыхает дым бутылки, а потом заливается смехом. А вскоре замечает, что за ним наблюдают.
— Подойди.
Асик соскальзывает с брёвнышка и подсаживается к загадочному вору.
— Мы так играем, — начинает речь Марат.
Его ладонь дружелюбно ложится на плечо Асика.
— Кто больше вдохнет дыма, тот и выиграл. Но это секретная игра, про неё нельзя никому говорить. Ты понял меня?
— Я никому не расскажу.
— Молодец.
Алан, недоверчиво следящий за разговором, подаёт голос:
— Раз уж мы играем, пусть наш выздоровевший играет вместе с нами.
Марат коротко переглядывается с другом и кивает. Асику в ладони всучают бутылку нагревшегося пластика. Костёр потухает. Школьники остаются под слабым светом, доносящимся из центра. Никто не расходится. Хлопья снега ложатся на землю, бесшумно тая. Внезапная полутьма советует говорить вполголоса. Товарищи стихают.
Асик никого не слышит. Выиграл ли он? Дым просачивается в его глаза, под кожу; стучит в виске. И поднимается вверх по горлу. На ватных ногах мальчик поднимается и выскальзывает из слепой зоны. Стоит у решётки забора; лицо его было обречено, объято решёткой, а молчание звучало совсем как безмолвие российской жизни — там, на другой стороне земли, все эти взрослые дети смеялись как вольные птицы, тогда как он стоял на виду; они прятались от чужого взгляда, словно уже тогда их судьба была предрешена решёткой.
Он идёт на свет. Линия фонарных столбов, идущая вдоль улицы Ленина, выводит его на главную дорогу, которая абсолютно пуста. Ему осталось идти вверх, к знакомой тропе, чтобы попасть домой. Но в безлюдье Асик видит отблеск силуэта, тени, которую он знает лучше прочих. Силуэт стоит посреди дороги. Безликость его не пугает Асика — он не может бояться, молчание его не смущает, Асик не ждёт оклика. Всё клокочет в нём, удушливо дрожит. Но в силах его лишь стоять и ждать чего-то — что будет или нет. Так он ждёт до тех пор, пока силуэт не превращается в сугроб людей.
В самой середине центра развёртывается яма обнажённых мужчин, почти бесполых, очищенных неизведанным от своей принадлежности к роду мужскому, человеческому. Мрак отступает пред тем, что породил он же — на лице толпы говорило мление, рождённое плотью — страсть… Бесконечные тела тянутся ввысь, к чему-то над собой. Безликие чудовища, смердящие, они касались друг друга нечаянно, вожделенно стремясь найти Её.
Асик делает шаг назад. Вверх, вслед за чужими руками, он разыскивает конечность видения. Тошнота подступает незаметно. Он видит её. Такую белую, словно мрамор, нетронутую, казалось, ни чернотой ночи, ни чернотой желания.
Мама была спокойной. Лишь тревожно вздёрнутая тонкая линия бровей и хмурящийся подбородок выдавал нечто иное от спокойствия, совершенно иное. Ни ссадин, ни одной тонкой линии сшитой тканью красноты, ни единой лиловости кости. Съеденные морщины, неприступная белизна — далёкая, молодая, без надреза живота. Мама прикрывалась ладонями, пока взгляд её холодных, словно февральская ночь, глаз был устремлён далеко вперёд.
«Я бы обязательно побежал к ней, если бы мог. Спас её от плена чуждых ей рук, тел, вздохов. Но почему она не смотрит на меня в ответ? Почему не оттолкнёт, не сбежит, не закричит о помощи? Почему вокруг больше никого?».
Он помнил плохо. Куда испарились тела, все эти люди, плохо помнил дорогу домой и сам дом. Что он помнил хорошо — так это лицо матери, стоящей на кухне по его приходу, и тепло своих прикрытых век. Тогда она выглядела как обычная мама, одетая в бордовый халат, на котором стразами обрисовали цветок. Пояс халата свисал до пола. Облокотившись о кухонную тумбу, она держала в кулаке зелёное яблоко, а глаза её не моргали. Перед ней за столом сидел папа и его друзья. Но почему, вспоминая это, Асик видел, что она стоит совсем одна?
Асик не спрашивал себя, почему она оказалась дома раньше него, почему на её шее томится царапина, а на запястье виднеется лиловое пятно, почему меж бровей залегла постоянная складка, а кожа серая, как гадкое небо раннего облачного утра.
Мир был мутной рекой, не желающей остановиться. Блик за бликом, волна за волной — и ты слеп, безропотен, невелик. В отражении — все кривые, безликие, фантастические. А постель холодна, лишена прикосновения. Прежде чем заснуть, Асик слышит хохот мамы почти так же чётко, как собственное дыхание.
Глава 6
Приходит весна. Мартовские сутки мало отличаются от февральских. Пейзаж оголённых проводов-ветвей, искрящихся в темноте признаком безжизненности, болезненная синева, желтизна, болотная слякоть, и всё ещё мрачнеющий день с самого рассвета до заката. По пути в школу пахнет протекающим газом, готовым подпалить встречного проходящего — в частности же Асика, озирающегося по сторонам в пустоту. Время движется быстрее обычного.
Мрачность свежеет с приходом апреля. Пряность воздуха наполняет сердце радостью, где кровь становится нетерпеливой к теплу солнцестояния. Зеленеет плод, сохнет редеющая слякоть. В пейзаже насущности появляется место для виднеющихся тут и там набухающих почек, ждущих часа цветения.
Близится, мчится встречно жар приближающегося лета, и там, где виднеется конец учебного года, наступает май. Виноградная лоза мечтает распуститься вереницей замысловатых закорючек, устрашая схватить и погрузить в неизведанную пучину неизвестных мест и площадей под кровом земли. Крик птицы раздаётся над ухом, над головой — в роще звучных, непрерывных шуршанием листвы деревьев, где путаются не ноги, но взгляды, небесные светила, крылья, тайны… Пахнет неспелым абрикосом, растущим вдоль главной улицы, до самого школьного двора; войдёшь в мае за железо дверцы-карусели, ветер ластится к щеке, а нога ступает по залитому солнцем асфальту школы, окна классов распахнуты тут и там. Они глядят на небольшую игровую площадку, богатую грушевыми деревьями.
Большая перемена длится пятнадцать минут. Дети стекаются на игровую площадку. Земля покрыта спелыми фруктами — разбитые, истекающие соком, они раскинуты повсюду так, что сложно ступить. Дети запускают в оставшиеся плоды на деревьях палки, камни; забираются ввысь, трясут ветви — проходящие мимо прикрываются учебниками, ладонями, портфелями, осторожно обходя препятствия.
Знакомые лица разбросаны тут и там по площадке. Вот Мадлена и Ирина сидят на качелях. К ним подбегает одноклассница Зара. Впереди, за песочницей, Таймураз и Скиф бросаются палками ввысь. А около забитых лавочек стоит Асик. На лавочке перед ним сидит Марат, оживлённо рассказывающий рядом сидящим истории из своей жизни.
Асик находил Марата на переменах, после школы, на выходных. Марат Асика не находил, потому что не искал. Неуловимо что-то переменилось. Словно жизнь стала полниться воздухом, а радость закоротила в близком отдалении. Асик улыбался.
Буквы всё плавали, мама пропадала за воротами дома, а папа — в телевизионных шумах. Детские голоса резали тишину обыденности. А Асик всё улыбался.
Цветущая сирень душила ароматом нежности. Мама пахла так. Так пахло детство. Розовость заплаканных глаз, влажные ресницы, пятно горчичного фонаря, кровь на коленке. Соседский цветочный куст, след от шин у просёлочной дороги, одновременность всего. Стоя в прихожей своего дома, там, где когда-то он делал уроки за переносным столиком, Асик впервые замечает, что обои зелёные. Пустые зелёные обои с нарисованным розовым фломастером человечком. Что меняется?
Мадлена насторожённо смотрит на мелькающие в тени деревьев фигуры, находя спину Асика. Ирина оборачивается вслед за взглядом подруги. Марат стоял вблизи мальчика, хлопал его по спине. Раздался девичий шёпот. Родима Вольдемаровна нередко говорила:
— Этот начал шастать с главным хулиганом школы, вдруг от него научится чему хорошему, да?.. Как будто бы до этого было чем похвастаться. Нашли друг друга.
Руки одноклассниц непреклонно скрещены. Казалось, воздух был задушен чувствами, спёртый и личный для каждого. Пахло фруктами. И стыдом.
В этом возрасте фантастично сложно понять, откуда этот стыд пришёл и чего хочет. Позже можно догадаться, назвать его «стыдом совершенного и несовершенного» — его часто испытывают дети, поджидая мгновенье, когда можно остаться наедине с собой — рыхлый, въевшийся в кожу, словно могильный червь. Так пахло всё.
Спелая груша падает к ногам Мадлены. На её ладони виднелось пятно засохшего сока. Марат, стоявший неподалеку, в два прыжка оказывается у чёрной туфельки девочки. Ничуть не пострадавший фрукт размером с взрослый мужской кулак ложится в руку вора. Мадлена, нахмуренная осуждённым взглядом, отодвигается на дощечке качели. Приподняв голову, Марат щурится от яркого света солнца и смотрит на Асика, подошедшего к нему с робкой улыбкой и неловко скрещенными руками, как водилось теперь всегда. Ирина пристально наблюдала за хулиганом — чем-то напоминала его улыбка улыбку людей преступных зарисовок. Готовая защитить подругу, она обводит взглядом подошедшего одноклассника. Тёмная туча нисходит на её сердце. Такой доверчивый взгляд она видела лишь у себя.
Марат не отходит далеко, громко надкусывая фрукт.
— Добрый день, девушки. Прошу прощения! Моя груша упала сюда, — его взгляд падает на стоящего рядом Асика. Вор подбегает к нему и ведёт за плечо, подтаскивая к девочкам. — Знаете его? Это мой брат! Очень хороший человек! С хорошими людьми нужно дружить.
Он почти чувствует чужой пульс, стучащий через его плечо. Влажность глаз высохла, а нежность детства покинула воспоминания — весь он, как сухая земля, где засуха длится не одну жизнь. Он знает эту руку. А прикосновение всё так же важно, как и в первый раз. Всё ещё.
Перемена подходит к концу. Повсюду детский визг. Тогда, в почти летний тёплый час, облепленный отовсюду грушевым соком и молчанием, адресованным лишь ему, он стоял под солнцем, восходящем в своем безразличии — почти материнском — и чувствовал, что стоит под дождём.
У Асика уже есть брат. Но он не такой. Он не касается его. С братом он связан лишь кровью. А с Маратом — чем-то большим — чёрствой ладонью. Когда кто-нибудь кроме Марата касался его? Мама, папа, друг? Это было очень давно. А теперь Асик знает, что такое дружба. Это когда улыбаются, когда касаются, когда любят.
И это похоже на беспричинный дождь в чистой синеве майского неба. Когда все бегут под крышу: «В школу! В школу!», повсюду детский визг и танцующие на бегу рубашки, раскрасневшиеся лица. И мы дышим. Раздаётся звонок на урок.
«Теперь у меня есть друг. У вас есть друг? Так жарко на солнце. Как хорошо, что пошёл дождь. Наконец-то… Мама, ты меня слышишь? Мама… ты такая красивая. Никогда не грусти».
***
«Как описать для вас чувство, окутывающее душу, когда появляется впервые за жизнь существо, не боящееся дотронуться до тебя? Не глядящее на тебя, как на скверну, которую нужно обходить стороной? Когда тебя замечают, с тобой смеются, тебя не прогоняют? Я не знаю, как».
9 мая — это праздник для всех. Актовый зал наполняется людьми. Шестой класс дружно садится неподалёку от сцены. В первом ряду — приглашённые гости и маленькие дети, пришедшие из садика вместе с воспитательницей. Чёрный бурдюк кудрей возвышается у фортепиано. За сценой готовятся избранные: стихотворения выучены назубок, а песни отпеты на репетициях.
Два старика садятся под сценой, против публики, на приготовленных заранее стульях. Иссохшиеся, печальные, бессмертные. Дети из детского сада, пристыженные за неугомонность, неловко теребят праздничные наряды, боязливо вглядываясь в дедушек, так хрупко опирающихся на трости. На чёрных костюмах дедушек висят звёзды.
Рядом с ними — высокий дядя, одетый обычно. В его руках микрофон. Наполовину заполненный актовый зал обёрнут к нему лицом. У входа возвышается директор — женщина тридцати лет, взволнованно прижимающая к сердцу ежедневник. Её улыбка — это добро и тепло детства. Однажды она оплатит Асику билет в цирк, время от времени приезжающий в городок Х.
На задних ряда Марат переговаривается с друзьями. Асик замечает его, когда ищет взглядом. Когда директор входит в зал, прикрывая за собой дверь, Марат машет Асику рукой, подзывая к себе. Почти на носочках тайно пробираясь сквозь полупустые ряды, Асик слышит речь мужчины с микрофоном:
— Эта война закончилась относительно недавно, её раны так же свежи, как раны, оставленные Великой Отечественной войной. Сколько хороших людей осталось там, столько моих товарищей не вернулось. Они бились за свою родину, за вас. — Он смотрит на дошколят. — И вы родились для того, чтобы заменить их.
Две фигуры выскальзывают из зала. Лишь едва уловимый свет из приоткрытой двери, исчезнувший так же быстро, как и возник, выдал отсутствие двоих учеников, провожаемых взглядом директора.
В молчании шёл Асик подле своего друга. Он думал об уроке русского языка, который закончился пару часов назад.
— Читай, Асик. Что-нибудь прочитай, одну строчку хотя бы.
Асик, согнутый над страницей, вглядывался в суть веточек и точек. Они были такими же, что обычно: расплывались по всему листу, пока глаза Асика бегали за ними, стараясь ухватить. Но было в них нечто особенное. Внезапно они стали добрее. Они шептали ему на ухо слова. Осторожно, совсем тихо, незаметно для всех.
— М-а-а-ша х-х-ход-и-ла на с-с-с-к-р-р-ип-ку.
Родима Вольдемаровна удивлённо переглядывалась с присутствующими.
— Молодец, Асик! Молодец! Господи…
Учительница складывает скрещённые ладони у приоткрытых губ, вглядываясь в Асика. Сегодня его плечи расправятся в мимолётной свободе от страха.
— Ма-ша л-л-люб-б-бит… скк-р-ип-ку.
— Сегодня вы наблюдали чудо. Боюсь, такого больше никогда не повторится. Типун мне на язык!
Бывший дом пионеров глядел на поднимающихся вверх по улице мальчиков беспристрастно. От Марата пахло как от папы — сигаретами. «Может быть, зайдём туда?» — бросает он. Они входят внутрь.
Безразличие его прикосновений были сродни нежности. Как удар или сжатая кость рукопожатия, но ниже позвоночника. Как было просто спутать. Ведь только это он и знал. Всё, что он помнил как исключение — давно смыло время.
Твёрдость его колен впивалась в гравий мелких камней и обломков черепицы. Это он помнил. Там не осталось шрамов. А там, куда не доставал взор, не было ничего, кроме воспоминаний о горячей красной жиже. И её он помнил. Так пахла дорога домой.
Часто дети пробуют кровь на вкус, когда нечаянно поцарапаются пальцем. А чем мы царапались в детстве? Неужто и я забыла, кем была раньше?..
Асик никогда так не делал. Он не знал вкуса крови. Дедушка говорил, что кровь пьют демоны, лишь им нравится её вкус.
Раз кровь идёт, значит, она остановится. Рано или поздно. Зачем меняться в лице? Так ему говорили, так он стал считать в детстве. Но не тогда. Его лицо покрылось морщинами, и осталось лишь долгое-долгое мгновение. Может быть, оно останется навсегда.
Когда Марат остановился, ничего не было. Воздух не стал чище, земля — мягче, а боль — милосерднее. По правде сказать, Асик бы не смог ответить, в какой момент Марат ушёл. Он запомнил лишь, что друг ушёл сквозь дыру в стене. Он не хлопнул его по плечу на прощание, не отряхнул колен от пыли. Остался ли на нём след от произошедшего? Чувствовал ли он его, пока шёл домой? Смыл ли сразу по приходу, или сел к матери на диван?
Когда земля стала чёрной, Асик понял, что солнце давно село. За стенами было тихо. Здание стояло так же, как и до их прихода, не вздрогнув ничем. Асик вышел в пустынный Центр. Он запомнил, что было пустынно. И что было ветрено. Свет горел в линии фонарных столбов и в одиноком окне магазина. Это был тот вечерний миг, когда становилось ещё недостаточно темно, чтобы не разобрать дороги впереди себя, но уже так сумрачно, что не разглядеть лица на перекрестке. А почти сейчас — так недавно, что почти уже не больно — небо было голубое-голубое, совсем как глаза его сестры.
Его фигура скрывается с главной дороги под меркнущим светом городка. За ним остаются следы. Его ноги знали этот путь. Но не он: он не знал ни троп, ни имён, ни лиц. Тогда остались только ноги, несущие вперёд. Или, быть может, так только казалось. Ведь когда наступает смертельная тишина, оглушающим звоном, темноту озаряют не они, а беззвучный вопль.
Пусто, как ночью. Бывает, ночи наступают раньше, когда случается особая жестокость. В такие ночи не бывает звёзд, и, будто одной жестокости мало, наступает другой вид абсолютной тишины, где крика не слышно. Но ошибкой в то мгновение было всё, потому что Асик не кричал вовсе. В такой час принято говорить про рёв раненого животного. В действительности как часто вам доводилось слышать такой рёв? А доводилось ли вам слышать рёв маленького человека? Похоже звучал Асик.
Он шёл, хватаясь за встречные калитки. Он был тихим. Каждый шаг занимал почти жизнь. Дорога, выученная за детство — без рук, без глаз. А людей сколько! И все они в домах. Никого. Лишь ветер. И мальчик. И дорога.
***
На автобусной остановке, погружаясь в сумрачность только прибывшего автобуса, спустя много лет после окончания школы, я видела Асика, идущего к бывшему дому пионеров. Я слышала, теперь это мечеть. Здание подлатали, покрасили внешнюю стену, поставили новую дверь, но оставили кое-где зияющие дыры. На его голове была надета такия, шаг был спокоен, а взгляд опущен. Я села у окна, на самом последнем ряду. Спустя столько лет было страшно увидеть знакомую спину. Я боялась, что он обернётся. И он обернулся. Я спряталась за штору.
Асик вошёл в мечеть. Преклонил колени. Послышался азан. Автобус тронулся с места. Я не обернулась.
***
Ему снится городок Х. Он стоит на самом высоком холме. Вокруг все зелено, вдалеке слышатся азан — почему он не там? Мгновение позже — он дома. Идёт дождь, совсем как тогда. Во дворе виднеется сорвавшаяся с деревьев листва. Двери дома распахнуты, порог лишён обуви. Он оборачивается: ворота на улицу остались раскрыты, около них его ждёт велосипед. Но пока он зайдёт домой. Его ждут. Он знает.
На кухне что-то грохочет. Она здесь. Совсем одна — продуваемая ветром раскрытых окон. Скатерть стола опрокинута ветром, вокруг витают перья — под её руками зарезанная курица.
На маме надет фартук поверх белого платья из твёрдой ткани, а волосы заколоты на затылке — небрежная, такая знакомая, она стояла на том же самом месте, что и тысячу раз до. Но сегодня она отличалась. Она видит его сразу, как будто бы знает звучание его шага. И улыбается.
— Асик! Дай-ка мне ножик, нигде его не вижу.
Он находит его на стуле, задвинутом под стол. Её руки влажные от крови, но тёплые, будто родные солнцу. Но всё же она улыбается…
— Мама, у тебя волосы в перьях.
Её губы красные, совсем как она любит. А улыбка напоминает о колыбельной песне: сейчас он ляжет в постель, а она споёт ему что-нибудь, что он никогда не слышал.
— Ну так убери их, глупый, у меня руки в крови!
Её волосы мягкие, как пух. Асик вынимает пёрышки одно за другим — они крошечные, как и он. Как он успел снова стать таким маленьким? Мама давно не возвышалась над ним. Ему приходится стоять на стуле, чтобы дотянуться до волос. Она продолжает раздевать курицу от перьев. Они витают вокруг, возвращаются к ней, покидают погружённую в сумрак комнату, уносясь прочь навстречу серости вечернего неба.
— Спасибо, дальше я сама.
Асик стоит рядом с ней, чувствует как к его щеке прилипло мокрое пёрышко. А сумрачность кухни разливается чем-то молочным, нечеловеческим, неземным — такие цвета создаёт только небо. Кажется, серость нарушена, разбита, снова освещённая просветом после долгого дождя, длившегося, должно быть, всю жизнь.
Она замечает его растерянность, эту обезоруженность ребёнка, не находящего слов. Сквозь алость помады просвечивает тонкая линия чувств. Она кладёт нож рядом с тушей и поворачивается к нему, опускаясь на колени — он спускается со стула. Её ладони всё ещё в крови, всё ещё тёплые, как долгий на коже снег. Она кладёт их на локти мальчика. Если бы она попросила, он бы смыл кровь с её рук, обтёр собой, если бы она попросила. Но она не просит. Она касается его век — лишь на мгновение. Будто стирая что-то, ведомое лишь ей одной.
Кухня залита светом прошедших туч, в маминых волосах ветер.
— Мой милый мальчик, мне так жаль. Послушай меня, только тихо. Я обещаю заботиться о тебе. Я обещаю вставать на его пути. Я обещаю дорожить тобой. Я обещаю учиться. Я обещаю быть терпеливой, быть рядом, когда ты чего-то не понимаешь. Обещаю не спать, не оставлять тебя одного. Я обещаю любить тебя. А теперь иди. Тебе пора бежать. Береги себя.
Когда Асик выходит на улицу и садится на свой велосипед, небо совсем как молоко, в которое бросили гроздь сирени. Где-то за холмом поднимается пар облаков. И он крутит педали, едет вперёд по каменистой дорожке. Вокруг так тихо, спокойно, будто утром. И он едет дальше.
Голосование:
Суммарный балл: 50
Проголосовало пользователей: 5
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 5
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
|
Оставлен:
|
Tornado107
|
|
Оставлен:
Хорошо пишете! Профессионально и грамотно! Редко встретишь сейчас книгу без ошибок в грамматике и пунктуации, да еще и стилистика хромает. У Вас же - образец грамотного написания и изложения. Прочёл Вашу повесть в три приёма, проникся, но придётся еще вникать.
|
Brys3
|
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор