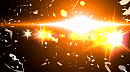-- : --
Зарегистрировано — 123 375Зрителей: 66 466
Авторов: 56 909
On-line — 22 471Зрителей: 4448
Авторов: 18023
Загружено работ — 2 122 289
«Неизвестный Гений»
Петрарка рыл могилу
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |

***
Петрарка рыл могилу,
выкидывая комья на поверхность,
веселый и высокий, смуглый и широкоплечий.
Шуршали осыпи, работа шла, лопата
о корни бамкала, напрягшиеся руки
сверкали бицепсами потными;
с волос венок лавровый скинул,
которым увенчали некогда его
при ликованье толп на Капитолии,
и просто рыл могилу – так, на всякий случай
(хоть бы и для меня),
поскольку гуманистом был великим
и не любил, чтоб кто-то
оставался без могилы или дома
(что есть одно и то же, по-хорошему),
и на латыни напевал шкодливые куплеты.
Нет-нет, шучу – Вергилия Марона.
Тут подползло такое существо
и встало на краю глубокой ямы:
членистоножка с обликом красивым:
волнистые власы и губы пухлые,
в зубах дымящаяся папироса,
представилось: «Оскар Уайльд».
И завязалась
беседа утонченная настолько,
что позабыл лопату возрожденец
(а это зря – вещь нужная навеки),
и даже не заметил, как в его
сапог проник презренный червь без зренья.
Уже раздались крики, потому что
без криков нет беседы задушевной,
уже Уайльд заспорил насчет тела,
которое и в роговой облатке
способно красотою отличаться,
а ноги… чем их больше, тем прекрасней
их шевеленье под холодным брюхом.
Петрарка отключился, замечтался
и собеседника задел лопатой,
а тот пустил струю вонючую за бруствер,
обдавши будущие поколенья…
Как скучно, господа, неинтересно,
как бесполезно, глупо, сколько скунсов
и там и здесь,
как высыхают черви –
в земле ли, в книге,
как непониманье
честней и выше
всяческих попыток
создать какое-то подобье башни
из домино до звездных эмпиреев,
где якобы в охотку квасят боги,
что будут рады каждому, кто сможет
по лестнице веревочной подняться
и подбородком встать на подоконник,
чтобы промолвить сдавленно: «Приветик»!
Или, что, несомненно, вероятней,
взмыть на жуке навозном, как то было
в комедии Аристофана, прямо
в то место, где находимся теперь мы:
евроремонт, жара, стульчак и бомба.
15.11.2019.
Петрарка рыл могилу,
выкидывая комья на поверхность,
веселый и высокий, смуглый и широкоплечий.
Шуршали осыпи, работа шла, лопата
о корни бамкала, напрягшиеся руки
сверкали бицепсами потными;
с волос венок лавровый скинул,
которым увенчали некогда его
при ликованье толп на Капитолии,
и просто рыл могилу – так, на всякий случай
(хоть бы и для меня),
поскольку гуманистом был великим
и не любил, чтоб кто-то
оставался без могилы или дома
(что есть одно и то же, по-хорошему),
и на латыни напевал шкодливые куплеты.
Нет-нет, шучу – Вергилия Марона.
Тут подползло такое существо
и встало на краю глубокой ямы:
членистоножка с обликом красивым:
волнистые власы и губы пухлые,
в зубах дымящаяся папироса,
представилось: «Оскар Уайльд».
И завязалась
беседа утонченная настолько,
что позабыл лопату возрожденец
(а это зря – вещь нужная навеки),
и даже не заметил, как в его
сапог проник презренный червь без зренья.
Уже раздались крики, потому что
без криков нет беседы задушевной,
уже Уайльд заспорил насчет тела,
которое и в роговой облатке
способно красотою отличаться,
а ноги… чем их больше, тем прекрасней
их шевеленье под холодным брюхом.
Петрарка отключился, замечтался
и собеседника задел лопатой,
а тот пустил струю вонючую за бруствер,
обдавши будущие поколенья…
Как скучно, господа, неинтересно,
как бесполезно, глупо, сколько скунсов
и там и здесь,
как высыхают черви –
в земле ли, в книге,
как непониманье
честней и выше
всяческих попыток
создать какое-то подобье башни
из домино до звездных эмпиреев,
где якобы в охотку квасят боги,
что будут рады каждому, кто сможет
по лестнице веревочной подняться
и подбородком встать на подоконник,
чтобы промолвить сдавленно: «Приветик»!
Или, что, несомненно, вероятней,
взмыть на жуке навозном, как то было
в комедии Аристофана, прямо
в то место, где находимся теперь мы:
евроремонт, жара, стульчак и бомба.
15.11.2019.
Голосование:
Суммарный балл: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
|
Оставлен:
Повеселили!
|
Gen-Zhel_482
|
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор
Интересные подборки: