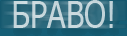-- : --
Зарегистрировано — 124 119Зрителей: 67 163
Авторов: 56 956
On-line — 16 374Зрителей: 3208
Авторов: 13166
Загружено работ — 2 135 062
«Неизвестный Гений»
Единые — в три сердца восковые...
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |
Добавлено в закладки: 1

Мир полупризрачный, жизнь — об ином.
Покуда дни накатывают валуном,
перетекая из сердец пространствам.
А мы врастаем духом Божьим Царствам,
Питая порослью. — И ты в иных руках.
И срок настал. — И ты в иных Устах.
Как агнец чистый в Божией ладье-ладони,
и прорастают, замирая в небо, корни.
И уж сочатся ветви винограда
одной крови, а там — Небесным градом.
Уж гроздья зрелые одной грудинной клети,
и птицы райские их пьют уже — и дети.
А среди них — о, волоокие, и — больше рая —
глаза ребенка — ангела того земного края,
где прорастали и ступали мы, босые,
единые — в три сердца восковые.
Текли артериею виноградною, лозою
до Длани в полумесяце. И ангелом покоя
явь оборачивалась. И мы проступали
светло друг в друге. Лозами играли
не ангел — мальчик крутолюбый в Длани.
Тот, волоокий — тихо пьющий ланью
жизнь от источника, струящего колодца.
И уж он трогает иное небо и иное солнце.
Он пьет зрачком иной рассвет. Дыханьем
троих сердец в груди перемыканьем
или то — крови ход пуская вспять.
И потому — на той земле и мы ...
Встаем опять...
А виноградину, жемчужно налитую,
берет он детским ртом. И ветвь витую
лозы, тот большеглазый, пробует на взмах.
А там — стожарые и о шести крылах…
Уж над ребенком крутолобым наклонясь,
листают будущность…
— Светло и не дивясь.
Они читают как-бы в наших книгах близких,
где мы сроднились и проснулись в списках
живых и сущих. Там переродились.
А после уж и нам открылось,
какому небу от подножий проступали.
И, сухожильями переплетясь, врастали
сердцами треснувшими, надсеченным духом —
бутоном, лопнувшим вселенною. И слухом —
как зреньем осязали, что сокрыто,
давно над головами — уж «водой пролито»…
Покуда дни накатывают валуном,
перетекая из сердец пространствам.
А мы врастаем духом Божьим Царствам,
Питая порослью. — И ты в иных руках.
И срок настал. — И ты в иных Устах.
Как агнец чистый в Божией ладье-ладони,
и прорастают, замирая в небо, корни.
И уж сочатся ветви винограда
одной крови, а там — Небесным градом.
Уж гроздья зрелые одной грудинной клети,
и птицы райские их пьют уже — и дети.
А среди них — о, волоокие, и — больше рая —
глаза ребенка — ангела того земного края,
где прорастали и ступали мы, босые,
единые — в три сердца восковые.
Текли артериею виноградною, лозою
до Длани в полумесяце. И ангелом покоя
явь оборачивалась. И мы проступали
светло друг в друге. Лозами играли
не ангел — мальчик крутолюбый в Длани.
Тот, волоокий — тихо пьющий ланью
жизнь от источника, струящего колодца.
И уж он трогает иное небо и иное солнце.
Он пьет зрачком иной рассвет. Дыханьем
троих сердец в груди перемыканьем
или то — крови ход пуская вспять.
И потому — на той земле и мы ...
Встаем опять...
А виноградину, жемчужно налитую,
берет он детским ртом. И ветвь витую
лозы, тот большеглазый, пробует на взмах.
А там — стожарые и о шести крылах…
Уж над ребенком крутолобым наклонясь,
листают будущность…
— Светло и не дивясь.
Они читают как-бы в наших книгах близких,
где мы сроднились и проснулись в списках
живых и сущих. Там переродились.
А после уж и нам открылось,
какому небу от подножий проступали.
И, сухожильями переплетясь, врастали
сердцами треснувшими, надсеченным духом —
бутоном, лопнувшим вселенною. И слухом —
как зреньем осязали, что сокрыто,
давно над головами — уж «водой пролито»…
Голосование:
Суммарный балл: 75
Проголосовало пользователей: 8
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 8
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
|
Оставлен:
Интересная, многозначная работа! Очень самобытная манера изложения!
|
nana_d44
|
|
Оставлен:
Интересно было почитать,врастаем духом Божьим,наверно,это так!УДАЧИ
 |
raduzka41
|
|
Оставлен:
Очень необычный стиль и ритм стиха, тема философская.!Удачи вам и новых работ!
|
valyu6a15
|
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор
Интересные подборки: