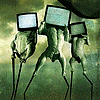-- : --
Зарегистрировано — 122 770Зрителей: 65 890
Авторов: 56 880
On-line — 18 199Зрителей: 3604
Авторов: 14595
Загружено работ — 2 115 325
«Неизвестный Гений»
Конец месяца вандемьера во Владивостоке. рассказ
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |

«....Из новостей прошлой недели:
1 июля 2006 года Министерство финансов выпустило в обращение 5000-рублевую купюру. На ней – скульптурное изображение графа Муравьева-Амурского, дипломата, собирателя русских дальневосточных земель. Купюра защищена от подделок…»
Было – в эпоху «Сильмариллиона».
Нет, вру. В эпоху той первой толстой книжки.
Где все три вместе, и хранители, и башни, и король. И рисунок, такая картинка: горы и синее-синее полдневное небо. На берегу какой-то воды обломок колонны с непонятными знаками-клинышками. А вода интересная, вода тут самое интересное: небо в ней отражается – черное, ночное, со звездами.
1008 страниц, боже! Мы друг у друга ее рвали. Утаскивали. Умыкали. Приду из института, Анжелика на диване с томом в обнимку. И смотрит, прижмурила один глаз: опоздал, парень!
Только лежа на животе можно было читать этот кирпич. Положив его перед собой.
Октябрь? Да, октябрь, начало октября. Книгу мне Андрей прислал из Москвы, гудевшей как потревоженный улей.
А здесь был покой и осеннее солнце в окна.
На работе, одеваясь, прикидывал: сегодня буду первый! Мчался, падал на диван, чашку чая и чего-нибудь пожевать, и владел этой странной собственностью до Анжеликиного прихода. А потом отдавал, книжку я ведь подарил.
Один шелестел листками. Второй ходил, как лунатик. Как там? – Класс!! Какая глава? Ты ту дочитала? Что там дальше? Гришка, скажу, ведь неинтересно будет! Ладно, всё! – садился что-нибудь делать. Ждал: захочет есть и отправится придумывать ужин. А когда придет из кухни со сковородкой и нарезанным хлебом в тарелке, соскользну с нагретого ее животом места, книжка будет опять развернута на той же странице…
Дел было много. Двигался поближе к дивану. Линейка, карандаш. Планшетик с листком ватмана. Текст должен поместиться на этом небольшом поле. Муравьев-Амурский, Николай Николаевич. Генерал-губернатор Восточной Сибири. Даты. Косил глазом – на диван. Голая маленькая ступня торчит из-под одеяла. Волосы отвела. Пальцем потрогала кончик носа. Генерал-губернатор. Даты… Надпись надо сделать к пятнице. Чтобы отдать рабочим, чтобы выбили на камне.
Лампа стояла на колченогом столе посредине между нами. Желтый кружок света – ей на книгу и мне на лист. Муравьев-Амурский… 1809… 1881…
Вовка заявился. Увидел две шальные физиономии. Поискал глазами причину, взял в руки книгу-кирпич. Да-а, – сказал. Да-а, ребята, вам будто не по тридцать лет.
Вовка! Улыбнись! – отозвалась Анжелика. – Ты чего! Ты сказки не любишь?
Он смотрел стеклянно и непонимающе. Так смотреть мог только русский взрослый человек в октябре серьезнейшего 1991 года. Какие, к черту, сказки! Ему хотелось кричать о войне и победе. Мир, мир царил здесь, в захолустье. Вовка махнул рукой. К полкам пошел. Там стояло столько серьезных и нужных книг. Полистал волкогоновского «Сталина». Поднял, показал мне: вот вещь, а ты чем занят.
Да. Его темницы разрушились, и крыши с них были сорваны. И доблести не нашлось в нем. Его извергли через врата ночи за стены мира. А железную корону обратили в ошейник, выломав из нее два чистых алмаза. И с тех пор они сияли, незапятнанные, под небесами. Так, да.
Вовка покрутил пальцем у виска...
Ночь. Дождь. Мокрое, требовательное, бесконечное пам-пам-пам в подоконники. Анжелика зевнула, прикрыла ладошкой рот.
Еще часик, не спишь? Улыбаюсь. Что смеешься? Не работается. Книжку сильно хочешь? Читай, читай, не хочу, работа. Чертов шрифт и слишком много текста. Не хочешь?!.. М-м, слушай, а ты мыться пойдешь? А ты? А давай ты первая, пока теплая вода. И в туалет, что, не пойдешь?
Смотрит. Прижмуривает хитрый глаз. Ц-ц-ц! Не надейся! В туалет – с книжкой.
Ладно, читай! Я цепляю и тяну с полки «Французскую революцию» Карлейля. Вот моя забытая давняя закладка – на безумном календаре, придуманном конвентом.
Да-а. Счет времени революция вела самовлюбленно. Не от рождества Христова, а с 22 сентября 1792 года, от начала самой себя, от провозглашения республики.
Фрюктидор – месяц созревания плодов. Это август.
Прериаль – месяц лугов. Май.
Жерминаль – месяц прорастания. Март.
Фример, ноябрь, – заморозки.
А у Анжелики строились войска для последней битвы, звучали гордые слова эльфов, и Фродо Бэггинс, придуманный странным писателем-профессором, метался по камням и холмам пустых обителей зла.
Фример – морозный. Это конец ноября – декабрь.
Вантоз – ветреный.
Вандемьер – виноградный...
Ночь и дождь за окном. С книжкой-сказкой в руках мы падали в осень. Кляклую темную осень, когда отключали свет по районам. С обедом – надоевшей серенькой вермишелью, с пустым чаем на завтрак и супом из сайры на ужин. И совсем не виноградную. Это, может, у них в Провансе… Осень здесь другая. Наши две тени на потолке, тусклая лампа, гоблины, драконы и всякая нечисть, и маленькое печальное воинство добра, сверкавшее серебром доспехов на равнине сказочного Минас-Тирита.
Ночь, канун пятницы. Муравьев-Амурский, лукавый вельможа николаевских времен, мирный победитель китайцев, присоединитель Дальнего Востока к империи, едет из французских виноградных краев в поезде. Едет в виде горстки земли в мраморной шкатулке.
Я рисую ему эскиз надгробной плиты.
Эта шкатулка будет опущена в землю здесь, в городе.
Плита будет сверху.
В конце месяца вандемьера всё произойдет.
В середине Третьей эпохи Джона Р.Р. Толкина, приблизительно у 700-х страниц «Кольца», еще до сильмарилей, пока не изданных. В самом начале времен золотых волос, васильковых Анжеликиных глаз, нагретого места на диване возле книги.
Анжелика сказала: пойдем?
В центре мы попали в людской водоворот. Ехали и шли, ехали, шли, выбирались из троллейбусов и машин. Цепочками, ручейками, реками стекались на Светланскую. Я до сих пор не понял, как им это виделось со стороны: траур или праздник? Вроде бы похороны. Но вид у всех был шарахнутый и совсем не печальный.
Где-то у дома офицеров, не видный нам, стоял бронетранспортер. С пушкой, на ее лафете повезут графские останки. Пойдут по городу буквой «П», свернут на Океанский, забираясь всё выше вверх, оттуда обратно, но теперь по холму, к площади позади драматического театра. Там – широкий вид на город, на воду, до самого Русского острова.
Я знал подробности церемонии, у краеведов я был свой, я им делал кое-что на общественных началах.
Кашу с генерал-адьютантом заварил Борис Алексеевич Дьяченко. Его давно нет, инфаркт, – а был такой шумный светлоглазый дядька, коллекционер, член географического общества, знаток местных реликвий.
Б.А. был грубоватый романтик. Слышь? Смотри! – хватал меня за рукав. Здесь досочку повесим мемориальную Арсеньеву. С морденью! А вон там Казакевичу и Корсакову. Тоже с морденями! Из бронзочки! Нарисуешь мне? С морденями вряд ли, Б.А., говорил я, тут нужен скульптор. Рисуй так! – махал рукой. Я рисовал что-то.
Я дружил с краеведами лет десять, с глухих пор. Когда просили – рисовал то памятный камень, то эскизик для реставрации. Им некому было помогать, дела с историей были темны и небезопасны. Какие к черту Корсаков, Маневский или барон Корф, оттуда торчали золотые погоны чужой идеологии! Сказка. Но я не знал, что Б.А. мечтает о сказке вообще немыслимой. Не просто оставить на стенах улиц память о комендантах порта, городских руководителях и начальниках флотилий. О прахе великого сиятельного Муравьева мечтал Б.А.! Что когда-нибудь он его привезет из Франции сюда. Не более сбыточно, чем царский памятник воздвигнуть у нас на площади.
А потом стало можно больше, еще больше, наконец – всё, и мне наскучило. Да и недостатка не было в помощниках теперь. Плита Муравьеву последнее, что я сотворил на том поприще.
Борис Алексеевич дерзнул. Написал французам и в МИД, и протекли незаметно дни, и урна с муравьевской землей прибыла хабаровским скорым.
Теперь у графа начнется странная потусторонняя жизнь: на две могилы.
Шествие двинулось.
Погода – синь, солнце. И холод до озноба в тени. Я мерз и вертелся, подставляя солнечному теплу щеки, нос. Нудно дул оркестр, впереди вообще одни постные лица, а тут, в толпе, мы перешучивались с казаком в капитанских погонах. Всё равно за головами ни черта не видно. Кругом знакомые-незнакомые. Здрасьте! – Привет! Погодка, да? – Как на заказ погодка!
Вовка вынырнул из толпы. Чего это ты не в первых рядах? – спросил ехидно. – Ты ж там типа самый главный!
Сзади, сказал я, комфортней. Анжелика, горячая, маленькая – свирепый полурослик! – прижималась сбоку под плечо. Вовка! – Что?.. – Аккалабет тэлперион аурэ браголлах!
Когда поворачивали на Океанский, стал виден и лафет с урной, и солидный бородатый епископ впереди народа. В бело-золотой ризе, – но от него веяло чем-то угнетающе тяжелым. Потому, что ли, что странно смотрелся он не на месте – не в тесной церковке, во главе тысячной толпы.
Оркестр и караул солдат, опереточные казаки в синих шальварах. Строем шли музейно-культурные дамы. С башнями волос на головах дамы мне что-то напоминали. Что, – я понял, когда увидел дьякона с деревянным крестом в руках. Испания! Дикая Испания, дальняя наша родственница! Там они ходили по узким улицам за крестом в безумно высоких колпаках.
Следом шли казаки – усатые тролли в меховых шапках. Нет, наполеоновский гвардейский полк, еще не видавший своего Ватерлоо.
Шла бывшая красная армия в новых фуражках с лихо, по-пиночетовски, заломленными вверх тульями. И с советскими кокардами на них.
Шел впереди журналист-демократ с невиданной здесь медалью на пиджаке за оборону Белого дома. Шел, и мирно вполголоса беседовал с завотделом культуры, убежденным коммунистом.
И портрет бакенбардистого чиновника Муравьева колыхался там. Это был парадный приглаженный портрет. На снимке, который показал мне как-то Б.А., у графа были странно уложены волосы – множество проборов. Тайский карвинг, зовут это девушки. Не с Востока ли вывез генерал моду?
Я не видел Бориса Алексеевича Дьяченко близко в тот день. Маленький, нахохленный, он утонул в своем счастье – возле изображения человека с фатоватыми бакенбардами, с недобрыми, навыкате, глазами, похожими на глаза его босса, августейшего Николая. Много серьезных людей толпилось вокруг Бориса Алексеевича. В те часы Б.А. создал традицию: чиновники в кабинетах стали вешать на стену писаную красками мордень генерал-адьютанта свиты Его Императорского Величества. Воображаю, какая солянка сейчас на тех стенах: Муравьев с эполетами и Путин без эполет. Губернский мясистый Дарькин с ленинским добрым прищуром. У кого-то и городского Николаева-луну можно найти, наверно.
Новое веселое владивостокское радио орало из окон автомобилей. Что ты видишь на улицах, Сергей? Толпы, толпы, Оксана! Это похоже на… я не знаю… это что-то неописуемое. Крыши домов, окна, отовсюду торчат головы. Много, много голов. На балконах, на тротуарах, везде… Вау, Сергей, вау! Мы слышим гул общественного единения владивостокцев! Сергей! Продолжай информировать нас. Мы ждем сообщений в студии!
Ну? Это лучше, чем ваши сказки? – сказал радостный Вовка. Его пьянил праздник. Он шел с нами и повторял: здорово! Четко! Наследие! Новое государство! Культура! Народное единение! Здорово!
Я думал о странном. О Николаях.
Муравьев – Николай, его венценосный патрон – Николай… В этом имени – какой-то дух времени, империи, силы, всё это так хорошо ложится в него. В нем нет тонкости. И совсем уже нет поэзии. Недаром теперь Кольками почти не называют мальчиков.
Пискнул пароходик в закатно-золотом просторе на выходе из бухты, на середине фарватера, у маяка. Мне вдруг показалось, что там в воде засияют сейчас ночные звезды. Народ разбежался, мы пошли ближе. Могила была заставлена венками. Муравьев-Амурский. Николай Николаевич. Генерал-губернатор. Даты. Вовка пытался фотографировать мою доску, но ее не было видно под ворохами осенних цветов.
А давайте я вас сфотографирую! – сказал Вовка. Вот Вовкин снимок: мы в обнимку, смеемся.
Мы стали прощаться.
Вовка мялся. Ему хотелось праздника еще.
А какое сегодня число? – некстати спросил он.
У вас, здесь? 26 вандемьера 199-го года, – сказал я. – 17 октября 1991, короче.
А у вас что? – удивился Вовка. – Вы с луны прилетели?
Аккалабет тэлперион аурэ браголлах! – сказала, не моргнув, Анжелика. – Да!
Вовка смотрел на нее, на меня.
Мы стояли, прижавшись, и смеялись.
Психи! – сказал он.
Точно, подтвердили мы. Очень. Очень точно.
Что? Читать свой талмуд побежите? – сказал он.
Да! – сказали мы вместе. И еще раз: – Да! Да!
Фример – морозный. Это конец ноября – декабрь.
Вантоз – ветреный.
Вандемьер – виноградный.
Мессидор… забыл.
2006, 2008
1 июля 2006 года Министерство финансов выпустило в обращение 5000-рублевую купюру. На ней – скульптурное изображение графа Муравьева-Амурского, дипломата, собирателя русских дальневосточных земель. Купюра защищена от подделок…»
Было – в эпоху «Сильмариллиона».
Нет, вру. В эпоху той первой толстой книжки.
Где все три вместе, и хранители, и башни, и король. И рисунок, такая картинка: горы и синее-синее полдневное небо. На берегу какой-то воды обломок колонны с непонятными знаками-клинышками. А вода интересная, вода тут самое интересное: небо в ней отражается – черное, ночное, со звездами.
1008 страниц, боже! Мы друг у друга ее рвали. Утаскивали. Умыкали. Приду из института, Анжелика на диване с томом в обнимку. И смотрит, прижмурила один глаз: опоздал, парень!
Только лежа на животе можно было читать этот кирпич. Положив его перед собой.
Октябрь? Да, октябрь, начало октября. Книгу мне Андрей прислал из Москвы, гудевшей как потревоженный улей.
А здесь был покой и осеннее солнце в окна.
На работе, одеваясь, прикидывал: сегодня буду первый! Мчался, падал на диван, чашку чая и чего-нибудь пожевать, и владел этой странной собственностью до Анжеликиного прихода. А потом отдавал, книжку я ведь подарил.
Один шелестел листками. Второй ходил, как лунатик. Как там? – Класс!! Какая глава? Ты ту дочитала? Что там дальше? Гришка, скажу, ведь неинтересно будет! Ладно, всё! – садился что-нибудь делать. Ждал: захочет есть и отправится придумывать ужин. А когда придет из кухни со сковородкой и нарезанным хлебом в тарелке, соскользну с нагретого ее животом места, книжка будет опять развернута на той же странице…
Дел было много. Двигался поближе к дивану. Линейка, карандаш. Планшетик с листком ватмана. Текст должен поместиться на этом небольшом поле. Муравьев-Амурский, Николай Николаевич. Генерал-губернатор Восточной Сибири. Даты. Косил глазом – на диван. Голая маленькая ступня торчит из-под одеяла. Волосы отвела. Пальцем потрогала кончик носа. Генерал-губернатор. Даты… Надпись надо сделать к пятнице. Чтобы отдать рабочим, чтобы выбили на камне.
Лампа стояла на колченогом столе посредине между нами. Желтый кружок света – ей на книгу и мне на лист. Муравьев-Амурский… 1809… 1881…
Вовка заявился. Увидел две шальные физиономии. Поискал глазами причину, взял в руки книгу-кирпич. Да-а, – сказал. Да-а, ребята, вам будто не по тридцать лет.
Вовка! Улыбнись! – отозвалась Анжелика. – Ты чего! Ты сказки не любишь?
Он смотрел стеклянно и непонимающе. Так смотреть мог только русский взрослый человек в октябре серьезнейшего 1991 года. Какие, к черту, сказки! Ему хотелось кричать о войне и победе. Мир, мир царил здесь, в захолустье. Вовка махнул рукой. К полкам пошел. Там стояло столько серьезных и нужных книг. Полистал волкогоновского «Сталина». Поднял, показал мне: вот вещь, а ты чем занят.
Да. Его темницы разрушились, и крыши с них были сорваны. И доблести не нашлось в нем. Его извергли через врата ночи за стены мира. А железную корону обратили в ошейник, выломав из нее два чистых алмаза. И с тех пор они сияли, незапятнанные, под небесами. Так, да.
Вовка покрутил пальцем у виска...
Ночь. Дождь. Мокрое, требовательное, бесконечное пам-пам-пам в подоконники. Анжелика зевнула, прикрыла ладошкой рот.
Еще часик, не спишь? Улыбаюсь. Что смеешься? Не работается. Книжку сильно хочешь? Читай, читай, не хочу, работа. Чертов шрифт и слишком много текста. Не хочешь?!.. М-м, слушай, а ты мыться пойдешь? А ты? А давай ты первая, пока теплая вода. И в туалет, что, не пойдешь?
Смотрит. Прижмуривает хитрый глаз. Ц-ц-ц! Не надейся! В туалет – с книжкой.
Ладно, читай! Я цепляю и тяну с полки «Французскую революцию» Карлейля. Вот моя забытая давняя закладка – на безумном календаре, придуманном конвентом.
Да-а. Счет времени революция вела самовлюбленно. Не от рождества Христова, а с 22 сентября 1792 года, от начала самой себя, от провозглашения республики.
Фрюктидор – месяц созревания плодов. Это август.
Прериаль – месяц лугов. Май.
Жерминаль – месяц прорастания. Март.
Фример, ноябрь, – заморозки.
А у Анжелики строились войска для последней битвы, звучали гордые слова эльфов, и Фродо Бэггинс, придуманный странным писателем-профессором, метался по камням и холмам пустых обителей зла.
Фример – морозный. Это конец ноября – декабрь.
Вантоз – ветреный.
Вандемьер – виноградный...
Ночь и дождь за окном. С книжкой-сказкой в руках мы падали в осень. Кляклую темную осень, когда отключали свет по районам. С обедом – надоевшей серенькой вермишелью, с пустым чаем на завтрак и супом из сайры на ужин. И совсем не виноградную. Это, может, у них в Провансе… Осень здесь другая. Наши две тени на потолке, тусклая лампа, гоблины, драконы и всякая нечисть, и маленькое печальное воинство добра, сверкавшее серебром доспехов на равнине сказочного Минас-Тирита.
Ночь, канун пятницы. Муравьев-Амурский, лукавый вельможа николаевских времен, мирный победитель китайцев, присоединитель Дальнего Востока к империи, едет из французских виноградных краев в поезде. Едет в виде горстки земли в мраморной шкатулке.
Я рисую ему эскиз надгробной плиты.
Эта шкатулка будет опущена в землю здесь, в городе.
Плита будет сверху.
В конце месяца вандемьера всё произойдет.
В середине Третьей эпохи Джона Р.Р. Толкина, приблизительно у 700-х страниц «Кольца», еще до сильмарилей, пока не изданных. В самом начале времен золотых волос, васильковых Анжеликиных глаз, нагретого места на диване возле книги.
Анжелика сказала: пойдем?
В центре мы попали в людской водоворот. Ехали и шли, ехали, шли, выбирались из троллейбусов и машин. Цепочками, ручейками, реками стекались на Светланскую. Я до сих пор не понял, как им это виделось со стороны: траур или праздник? Вроде бы похороны. Но вид у всех был шарахнутый и совсем не печальный.
Где-то у дома офицеров, не видный нам, стоял бронетранспортер. С пушкой, на ее лафете повезут графские останки. Пойдут по городу буквой «П», свернут на Океанский, забираясь всё выше вверх, оттуда обратно, но теперь по холму, к площади позади драматического театра. Там – широкий вид на город, на воду, до самого Русского острова.
Я знал подробности церемонии, у краеведов я был свой, я им делал кое-что на общественных началах.
Кашу с генерал-адьютантом заварил Борис Алексеевич Дьяченко. Его давно нет, инфаркт, – а был такой шумный светлоглазый дядька, коллекционер, член географического общества, знаток местных реликвий.
Б.А. был грубоватый романтик. Слышь? Смотри! – хватал меня за рукав. Здесь досочку повесим мемориальную Арсеньеву. С морденью! А вон там Казакевичу и Корсакову. Тоже с морденями! Из бронзочки! Нарисуешь мне? С морденями вряд ли, Б.А., говорил я, тут нужен скульптор. Рисуй так! – махал рукой. Я рисовал что-то.
Я дружил с краеведами лет десять, с глухих пор. Когда просили – рисовал то памятный камень, то эскизик для реставрации. Им некому было помогать, дела с историей были темны и небезопасны. Какие к черту Корсаков, Маневский или барон Корф, оттуда торчали золотые погоны чужой идеологии! Сказка. Но я не знал, что Б.А. мечтает о сказке вообще немыслимой. Не просто оставить на стенах улиц память о комендантах порта, городских руководителях и начальниках флотилий. О прахе великого сиятельного Муравьева мечтал Б.А.! Что когда-нибудь он его привезет из Франции сюда. Не более сбыточно, чем царский памятник воздвигнуть у нас на площади.
А потом стало можно больше, еще больше, наконец – всё, и мне наскучило. Да и недостатка не было в помощниках теперь. Плита Муравьеву последнее, что я сотворил на том поприще.
Борис Алексеевич дерзнул. Написал французам и в МИД, и протекли незаметно дни, и урна с муравьевской землей прибыла хабаровским скорым.
Теперь у графа начнется странная потусторонняя жизнь: на две могилы.
Шествие двинулось.
Погода – синь, солнце. И холод до озноба в тени. Я мерз и вертелся, подставляя солнечному теплу щеки, нос. Нудно дул оркестр, впереди вообще одни постные лица, а тут, в толпе, мы перешучивались с казаком в капитанских погонах. Всё равно за головами ни черта не видно. Кругом знакомые-незнакомые. Здрасьте! – Привет! Погодка, да? – Как на заказ погодка!
Вовка вынырнул из толпы. Чего это ты не в первых рядах? – спросил ехидно. – Ты ж там типа самый главный!
Сзади, сказал я, комфортней. Анжелика, горячая, маленькая – свирепый полурослик! – прижималась сбоку под плечо. Вовка! – Что?.. – Аккалабет тэлперион аурэ браголлах!
Когда поворачивали на Океанский, стал виден и лафет с урной, и солидный бородатый епископ впереди народа. В бело-золотой ризе, – но от него веяло чем-то угнетающе тяжелым. Потому, что ли, что странно смотрелся он не на месте – не в тесной церковке, во главе тысячной толпы.
Оркестр и караул солдат, опереточные казаки в синих шальварах. Строем шли музейно-культурные дамы. С башнями волос на головах дамы мне что-то напоминали. Что, – я понял, когда увидел дьякона с деревянным крестом в руках. Испания! Дикая Испания, дальняя наша родственница! Там они ходили по узким улицам за крестом в безумно высоких колпаках.
Следом шли казаки – усатые тролли в меховых шапках. Нет, наполеоновский гвардейский полк, еще не видавший своего Ватерлоо.
Шла бывшая красная армия в новых фуражках с лихо, по-пиночетовски, заломленными вверх тульями. И с советскими кокардами на них.
Шел впереди журналист-демократ с невиданной здесь медалью на пиджаке за оборону Белого дома. Шел, и мирно вполголоса беседовал с завотделом культуры, убежденным коммунистом.
И портрет бакенбардистого чиновника Муравьева колыхался там. Это был парадный приглаженный портрет. На снимке, который показал мне как-то Б.А., у графа были странно уложены волосы – множество проборов. Тайский карвинг, зовут это девушки. Не с Востока ли вывез генерал моду?
Я не видел Бориса Алексеевича Дьяченко близко в тот день. Маленький, нахохленный, он утонул в своем счастье – возле изображения человека с фатоватыми бакенбардами, с недобрыми, навыкате, глазами, похожими на глаза его босса, августейшего Николая. Много серьезных людей толпилось вокруг Бориса Алексеевича. В те часы Б.А. создал традицию: чиновники в кабинетах стали вешать на стену писаную красками мордень генерал-адьютанта свиты Его Императорского Величества. Воображаю, какая солянка сейчас на тех стенах: Муравьев с эполетами и Путин без эполет. Губернский мясистый Дарькин с ленинским добрым прищуром. У кого-то и городского Николаева-луну можно найти, наверно.
Новое веселое владивостокское радио орало из окон автомобилей. Что ты видишь на улицах, Сергей? Толпы, толпы, Оксана! Это похоже на… я не знаю… это что-то неописуемое. Крыши домов, окна, отовсюду торчат головы. Много, много голов. На балконах, на тротуарах, везде… Вау, Сергей, вау! Мы слышим гул общественного единения владивостокцев! Сергей! Продолжай информировать нас. Мы ждем сообщений в студии!
Ну? Это лучше, чем ваши сказки? – сказал радостный Вовка. Его пьянил праздник. Он шел с нами и повторял: здорово! Четко! Наследие! Новое государство! Культура! Народное единение! Здорово!
Я думал о странном. О Николаях.
Муравьев – Николай, его венценосный патрон – Николай… В этом имени – какой-то дух времени, империи, силы, всё это так хорошо ложится в него. В нем нет тонкости. И совсем уже нет поэзии. Недаром теперь Кольками почти не называют мальчиков.
Пискнул пароходик в закатно-золотом просторе на выходе из бухты, на середине фарватера, у маяка. Мне вдруг показалось, что там в воде засияют сейчас ночные звезды. Народ разбежался, мы пошли ближе. Могила была заставлена венками. Муравьев-Амурский. Николай Николаевич. Генерал-губернатор. Даты. Вовка пытался фотографировать мою доску, но ее не было видно под ворохами осенних цветов.
А давайте я вас сфотографирую! – сказал Вовка. Вот Вовкин снимок: мы в обнимку, смеемся.
Мы стали прощаться.
Вовка мялся. Ему хотелось праздника еще.
А какое сегодня число? – некстати спросил он.
У вас, здесь? 26 вандемьера 199-го года, – сказал я. – 17 октября 1991, короче.
А у вас что? – удивился Вовка. – Вы с луны прилетели?
Аккалабет тэлперион аурэ браголлах! – сказала, не моргнув, Анжелика. – Да!
Вовка смотрел на нее, на меня.
Мы стояли, прижавшись, и смеялись.
Психи! – сказал он.
Точно, подтвердили мы. Очень. Очень точно.
Что? Читать свой талмуд побежите? – сказал он.
Да! – сказали мы вместе. И еще раз: – Да! Да!
Фример – морозный. Это конец ноября – декабрь.
Вантоз – ветреный.
Вандемьер – виноградный.
Мессидор… забыл.
2006, 2008
Голосование:
Суммарный балл: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
Нет отзывов
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор