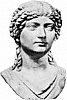-- : --
Зарегистрировано — 123 283Зрителей: 66 383
Авторов: 56 900
On-line — 21 075Зрителей: 4165
Авторов: 16910
Загружено работ — 2 121 119
«Неизвестный Гений»
голуби, привыкшие кормиться на подоконнике
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |

--------------------------------------------------------------------------------
Экскурсия
На пароме, идущем от Искьи на Поццуоли, народу в это утро было немного. Намного больше, казалось, машин, приставленных так плотно друг к другу, что и не пройти между ними. Я мучаюсь от долгого скучного пути, не зная, чем заняться. Мутно - голубой пейзаж далёкой Искьи позади парома, ломающиеся стеклянистые валы за бортом, укачивали меня. Море, какое - то безжизненное, пустое, не тронутое ни стремительной спинкой дельфина, ни чёрными лепёшками скатов, бугрилось лёгким штормом, пластами отходили от борта, поросшего ракушками, волны, будто - бы сальные, синие, тёмно-зелёные, с морским мусором.
- Мусор в водке, мусор в водке...- Шепчу я, сложив локти на деревянную обшивку палубы.- Мусор в водке - к свадьбе.
Волны, с глухим грохотом падали назад, изрезанные и ломкие.
Рядом со мной, стоит розовощёкий Владик, засунув руки в карманы чёрных подштанников. Он подёргивался, слушая плеер, жевал жвачку и, то и дело оглядываясь на своего брата Виталика, улыбался девичьими красными губами. Иногда, когда качка становится сильнее, смешно выбрасывает руки из карманов и хватается за борт, накреняясь вперёд своим длинным, угловатым телом. Я с укоризной поглядываю на его терракотовый от загара затылок, на линию ровно подстриженных волос и на чуть заметную " косичку", идущую вдоль шейного позвонка вниз. Смешной мальчик. Ему девятнадцать. Я моложе на два года, и это моя беда сейчас.
- Что, не боишься?- Перекрикиваю я , расшалившиеся волны, которые обнимают мои ноги в тонких кожаных сандалиях, самыми краешками своих голубых , холодных , медузьих тел.- А как снесёт тебя за борт?- Солёная вода, разбиваясь о паром, осыпает меня брызгами с ног до головы.
Но я стою у самого борта, думая - заметит ли кто-нибудь грозящую мне опасность? Скажет ли что? Например : отойди, сядь рядом...Никто, никогда...Владик отходит, но потом, стесняясь своей несмелости, подходит, и застывает рядом. Паром мягко прыгает, вверх-вниз...
Вместе мы держимся за перила, я - локтями, он - руками, крепко, до белизны пальцев , а море качает, качает, как механическая нянюшка, приставленная к колыбели дорогого младенца.
Почти ничего не слышно, что говорят в пяти метрах от нас моя сестра Лиза и брат Владика, Виталий. Но и мы видим только их спины. Как Лиза смеётся - слышно...Хахаха-ха, хахаха-ха...Её обвил Виталик, за плечи, сильной рукой, сжимает её правое предплечье, а она, смеётся от этого.
Виталик лучше Владика. Он высокий,красивый, русоволосый и розовощёкий, и больше о нём нечего сказать Он просто хорош. Не стоит разбираться, чем он живёт, чем дышит, хочется упасть в его объятия и забыть про весь мир. Такой он. И Лизка падает. Отпрядывает от его розовых, наглых губ, будто случайно тянущихся к её шее, напоминает, что она на десять лет старше, что замужем...
Лизка, роскошь расцветшего возраста, ей чуть за тридцать, но она так хороша в этом, что мне даже равняться страшно с ней. Я гляжу на свою маленькую грудь, чёрные волосы, на нитки и шнурки разобранные ветром, на свои тонкие губы, тонкие руки, и ненавижу всё это с отчаяньем юности. То ли дело- Лизка! Она вся, словно царит над людьми, как будто вышла из пены морской, и тут- ей самое место. Здесь вся эта буйная прелесть Италии так ей к лицу, так красит её! Сама она, как Италия - горячая, полногрудая и длинноногая, со всеми глупостями, милыми и роскошными, со своей самосущей красотой, величественной и дерзкой...
Паром причаливает, и мы сходим на берег. Владик идёт впереди, я плетусь за ним, за нами вальяжно вышагивает Лизка в обнимку с Виталиком, который приобнял её смелей, ворошит её светлые волосы, и они хохочут от счастья...
Под разгорающимся, яростным солнцем мы бредём к автобусу, ноги мои млеют. Лизка с Виталиком отправляют нас в Помпеи, на экскурсию, а сам остаются в Неаполе, бродить по бутикам и ресторанам, обниматься, и, наверное, целовать друг друга...Я иду прыгающей путаной походкой, гляжу на дома, серые, жёлтые и жаркие, с окнами, убранными деревянными жалюзями,на алтарики у дверей, на едва видные Мюратовские фонтаны и тёмные, круглые башни Неаполитанского замка...Вокруг раскопки- колонны вросшие в землю...или...выросшие из земли?
До сих пор я не знаю, пойду ли в Помпеи одна, или Владик со мною увяжется. Ему ни до кого. Он слушает плеер, покачивает маленькой головой на длинной шее и жуёт, да жуёт.
Лизка закидывает голову назад и снова смеётся, как плетью меня охаживает смехом...Виталик глядит на неё жадно, мутно, а я - только поглядываю. На меня так никто никогда не глядел- и глянет ли...Я сминаю билет на паром в трубочку, потом превращаю его в комочек, рву, терзаю на мелкие кусочки, тупо уставившись в плавящийся асфальт.
- Крыся!- Кричит мне Лизка.- В свои Помпеи поедешь с Владиком. Мы тут вас подождём...- Мурлычет она тише.- Ведь подождём - же...в городе...
Крыся! Так она при НЁМ меня называет...а он смеётся над этим, надо мною...
- Прошвырнёмся по магазинам...- Продолжает Лизка.- В кафе посидим...
И она, приближаясь, приобнимает меня влажной рукой, до подмышек пахнущей розовым маслом и кокосовым молоком, донельзя нежной лапкой, ароматной и длинной.
- Фотоаппарат возьму, ладно?- Сухо отвечаю я, чмокая её в шею.
- Да. Меня Виталик поснимает...
Я гляжу на Виталика, с интересом провожающего взглядом двух молодых итальянок в чёрных джинсах. Он, сунув руки в карманы шорт, в полурасстёгнутой рубашке с коротким рукавом, похож на жиголо...на альфонса какого-то...
Через час нас высаживают в Помпеях. В самую жару, в самое пекло. Вдалеке, в вечной дымке, высится Везувий, как голова титана, дышащая паром и дымом. Везувий страшен даже сейчас, когда он далеко...Мне становится жутко, пока группа собирается и покупает сувениры у входа в Старые Помпеи.
- Прикинь, эти придурки тут второй город построили. На месте Старого. Как они не боятся?- Говорит Владик, вытащив один наушник из плеера.
Как ему объяснить...Мы,русские, не знаем ни вулканов, ни стихийных бедствий. У нас что - снег по пояс, да и всё. А тут, яйца в песке пекут, черти. Рыбу в фольгу заворачивают, зарывают и едят через пять минут. И не боятся. И радоваться умеют.
Здесь только одна дорога, ведущая сквозь окаменевшую чёрную лаву, к Неаполю. Несколько лавчонок с дешёвыми сувенирами , отделённые от дороги кустами мирты, тамариска и азалий, и вход в Помпеи...А над всем этим - Везувий. Как Судьба.
Владик, слушая плеер, дёргает головой. Группа идёт вперёд, но мне хочется отстать. В такую жару народа немного. Побыть одной нужно, подальше от тих повальных шортов м белых футболок туристов в шляпах, всех шелудивых от загара, и чтоб они все при мне меньше обнимались, слушая гида.
Редко где в Помпеях встретишь кусочек тени. Камни мостовых, водосточные желобы, следы от повозок, бесконечные закуты, сложенные из травертина. Это остатки жилищ, харчевен, прачечных.
Оглядываюсь - путь за мною безлюден. Справа и слева - стены, стремящиеся ввысь, но обломанные и чёрные. А между ними - опять Везувий...Ветер швыряется сухими оливковыми листьями, легко катает их по камням мощённой дороги.
На стенах ещё различимы надписи агитационной выборной кампании 78 года нашей эры...Они не поблекли, не выцвели...Кого выбирали- квестора, претора? Ветер жарко дышит преисподней, а от камней исходит живое тепло.
Кажется, вечность не потеряна, а мы для неё здесь- корм, пища. Сами пришли в вечность, как в Кносский лабиринт на съедение Минотавру, накормим вечность собой.
Моя группа рассеяно шарит глазами по стенам, слушает гида Альберто, черноволосого, с жирными и курчавыми волосами, зачёсанными назад. Владик, просто бесит своим жеванием. Я натягиваю белую соломенную шляпку ниже, чтоб не видеть никого, потому что Владик ржёт, тыкая пальцем во фреску Приапа. Что-то неприличное говорит, указывая на его голые бёдра, обвитые лозой, и смешно изогнутый фригийский колпак на кудрявой голове.
И мне хочется смеяться тоже, но я стесняюсь. Как только группа снимается с места, я фотографирую Приапа, долго глядя на него, и думаю, сколько же глаз уже подивились мастерству художника за то время, как Помпеи стали освобождать из-под тысячелетнего пепла?
Лупанар, с крепкими стенами, низкими, каменными потолками, с пятью комнатушками- норами, где только и могли уместиться двое, расписан всеми видами продажной любви. На каменных кроватях с каменными-же "подушками", едва ли здесь ляжет современный человек во весь рост. Фрески яркие, живые, словно пособия для начинающих и милое развлечение для опытных. Владик и тут облизывает свои пересохшие губки, и нервничает.
- Маньяк.- Говорю я со смехом, глядя на заинтересованного Владика.
- А почему название такое? Сказали бы просто - бордель.- Спрашивает он у меня.
- Потому что женщин, тут обитающих, называли - лупы, то - есть , волчицы.
- Почему?
- Они ходили по городу и выли по ночам, зазывая клиентов...- Отвечаю я со знанием дела.- Это тебе не русские "бледи", с кольцом во рту и ковриком под мышкой. Тут всё было на уровне...
Владик, удивлённый моими познаниями ещё с полчаса пытает меня по поводу цен и качества услуг. Я указываю ему на граффити.
- Вот, смотри. Тут какая-то, Эвноя, гречанка, стоит два асса. Два асса - кувшин вина. Вот и иди, ищи её. А от меня отстань.
Жарятся на солнце древние камни. Недорезанные капители колонн, брошены мастерами посреди дворов разрушенных вилл. В банях, отлично сохранившихся, не хватает только бликования воды на голубом куполе, прежде, искрящейся в бассейне тепидария. Теплом дышат краски фресок, глаза горгон провожают туристов, глядя с той-же божественной ожесточённостью, что и в те поры, когда здесь прогуливались сенаторы и патриции, приехавшие на отдых к морю.
Теперь, в просторных дворах вилл пускают побеги воскресшие мирты, полыхают цветами гвоздики, и, кажется иногда, что из глубины бывшего здесь когда-то сада, зажурчит фонтан, изливая прохладную воду, приведённую сюда путём акведука. Сладкая пыль липнет к нёбу, и всё так на месте в этом совершенном покое, скорее, обморочном, минутном, старающемся всеми силами двинуться и воскреснуть.
В мою голову вновь приходят мысли о сестре, о Виталике, о том, как вчера мы плавали вдоль побережья Искьи на неаполитанском катере "гозо", как Лизка лежала рядышком с Виталиком на горячей палубе...А потом мы вплыли в грот, наполненный подвижной голубизной отражаемой воды, встали на дно, белое от песка, и там, в гроте, без Лизкиного надзора, он высыпал в мою руку чёрные ракушки, собранные им на камнях. Я улыбалась, глядела на него дурно, отчаянно краснея, потому что никого не было рядом, как он бережно пересыпал чёрные ракушки в мою молочно-белую ладонь и они светились от бликов и игры отражений.
Придя в себя, я оглядываюсь, ища группу. Действительно, отстала, тут толпа немцев, горластых и громких, а мои - уже далеко. Вон он, длинношеий Владик виден ещё... А я стою в тени какой-то обломанной стены, ветер пыхает мне в лицо средиземноморской оливковой духотой от которой сохнут губы и слезятся глаза...
Когда мы уезжали из Помпей, я обернулась назад, с единственной мыслью, что с радостью увидела это всё. Увидела, и нужно это только мне, никому больше. И теперь мне легко, будто я новорождённая, которую, только что макнули с головой в древнюю крестильную купель и прилипли к ней все радости и горести мира, с которым её познакомили против воли...Вот теперь в душе осядет тот самый золотой песок эмоций, который так необходим настоящему человеку...Настоящему? Кому?
Неаполь со смотровой площадки видится огромным осьминогом. Лежит, голубой и зелёный, жаркий и сытый...Вдали ,белыми бугорками ходит море. Сегодня, вечером, наверное, вернувшись на Искью, мы будем лежать на пляже до вечера, кунаться в, совершенно безрыбное у берегов, Тирренское море, а вечером, пойдём в какой-нибудь ресторан, где Лизка напьётся. Всю ночь я проведу возле бассейна отеля, или в холле, а она будет с ним...
Лизка с Виталиком, подходя к нашему автобусу так сверкнули улыбками, что Помпеи пропали и Неаполь поблек. Осталась только мучительная тоска и растерянность. Отчего у меня всё не так? Почему они такие счастливые? Когда я буду такой-же?
ENTER
Ольга уже два часа лежала в родильном боксе на жёсткой кушетке, и никто к ней не шёл. Время подходило к одиннадцати, и роддом засыпал. Только иногда откуда-то доносились отчётливые вопли, которые действовали на нервы всем, кто находился в "родилке". За стеклянной стеной вёлся оживлённый разговор между врачом, "зашивающим" роженицу, и самой роженицей.
- А сколько раз вы с мужем любовью занимаетесь? - Спрашивал хитрый врач.
- О, часто...- Отвечала " пациентка" , принимаясь красочно описывать свою интимную жизнь.
Медсестра, сидящая напротив роженицы , ржала и болтала ногами - она не доставала до пола с высокой кушетки. Любопытной Ольге, иногда прокрадывающейся перед высоким окошком на цыпочках, виден был край её зелёного колпака, сдвинутого набекрень.
- Четвёртый бокс, не шали!- Строго грозил доктор, выглядывая из-за ног разговорчивой собеседницы, видя, как по соседнему стеклянному помещению, словно тень, ползает черноволосая, симпатичная Ольга, то и дело, крася губы гигиенической помадой - единственным предметом, что ей разрешили внести сюда, в другой мир.
Ольга же, услышав подобное в свой адрес, как кошка на охоте, приседала, вызывая новый приступ смеха у медсестры и доктора и послушно пробиралась к своей кушетке. Иногда медсестра приходила поглядеть, как она. Заваливала её на холодное ложе и ощупывала живот, нависая огромным телом над маленькой Ольгой и давя на неё тяжёлой своей грудью, а потом уходила.
- Ну, как, скоро?- Спрашивала Ольга.
- Да дождёшься.- Грубо, но с улыбкой, отвечала медсестра, поворачиваясь к ней задом в зелёных форменных штанах, сбежавшихся между толстенных ляжек в аккуратные складочки.
" Ничего себе, разговорчики у них во время родов": удивлялась Ольга, не зная, что соседняя пациентка под общим наркозом, а уж чего там только не наговоришь.
Ольга бродила, подключенная к капельнице с окситоцином, держа её в руке, для пущей возможности передвижения, лежала, ждала схваток и скучала, слушая, через пять родильных боксов телевизор, по которому передавали фильм " Баязет". " У меня родится воин...Под такой аккомпанемент - только воин ... " А ещё думала, что похожа на какой-то экспонат из мира насекомых, которого сейчас заперли в банку и скоро начнут препарировать...От запаха хлорки её мутило. Хотелось пить - но этого было нельзя, хоть раковина в углу казалась чудесным источником , было запрещено включать воду.
Пришла другая, старая и нелюбезная медсестра и накричала на Ольгу, что той тошнит из- за того, что она ела перед родами. Ушла, ворча и обзываясь спать в коридор. Злая она была потому, наверное, что всё время спала под рожениц, которые своими звуками нарушали её сон во время ночного дежурства. Близилась ночь. С шестого этажа, в огромное окно без штор - был виден весь город, подёрнутый лёгкой белой нетающей кисеёй. Это снег прошёл , освежил, обелил, очистил фонари . И в такую ночь должно было родиться её дитя. Ольге захотелось выключить убийственный "дневной" свет, освободится от капельницы. Через порванную на груди до живота, государственную ночнушку, Ольга чувствовала, как малыш замер в ожидании. Совсем неизвестная боль, незнакомая и странная , стала легонько прорезать спину.
- Давай уже, собирай вещи и вылазь. - Сказала Ольга малышу.- А то доктор Татьяна Александровна уже томится моим обществом. Я тут в роддоме " бабовщину" развожу... Говорю тебе, собирайся, сегодня ты должна родится, иначе я обижусь.
Ольга встала, чтобы размять ноги. Хорошо было видно её отражение в прозрачном зеркале ночного окна. Неделю до родов, она делала причёску, порвав ситцевый платок на папильотки, накручивала волосы, красила губы, жестоко сохнущие. Сегодня в "родилку" она и сумела захватить только помаду - губы сохли так, что слипались. Наверное, это было от волнения.
В окне она видит себя - длинноволосую, с бледно-спокойным лицом, в какой-то немыслимой роддомовской рубашке.
- Кто-то рвал на себе рубашку, от счастья...- Говорит себе Ольга.
Она давно не подходила к зеркалу, а тут- вот она- глядится в последний раз на свой небольшой аккуратный животик, грудь, беломраморно застывшую от небывалого притока молока. Ей пришла в голову мысль - не умрёт ли она во время родов? Ведь такое бывает...Белый мёртвый свет, это страшное кресло с чёрными подножками.... Ещё несколько месяцев назад, когда до неё наконец дошло, что всё, она беременна и у неё будет - ощущение было такое - же, как сейчас. Чудесное. Только сейчас до этого "будет..." осталось уже несколько часов и То, что сейчас с ней, навсегда оторвётся...Не будет двух сердец внутри неё- но зато будет рядом Оно, родное, как никто.
Ей было только обидно, что врачи заставляют ждать. Три недели взаперти после вольных прогулок по лугам и полям, походов по лесу, за грибами, которых в этом году - море! И ещё у неё отняли кошку. А кошка ей очень помогала... Вообще, кошка эта заслуживает особого внимания...
В начале лета, в июле, к Ольге приехал её парень. От него она была беременна. Хотя - вовсе не от него. Получилось всё, как в дешёвом сериале. Три года встречалась она с Максом. Макс - моложе на четыре года и к тому же - он был её " дачным романом". Когда она приезжала с родителями отдохнуть в далёкую деревню к бабушке, совершенно выжившей из ума и требующей присмотра, там обязательно находилось какое-нибудь приключение, вроде этого...Ольга не была оригинальна. Ещё - она была молода и очень хороша собой. Бабушкина деревня Радчино - богата на молодых людей. Неотёсанных, грубых деревенщин...Но Максим не такой. Он из всех выделялся значительно. Учился на пять. Кончил школу с красным дипломом. Медучилище - так- же, с красным...Спутницей его летних ночей оказалась Ольга. А ей, в свою очередь показалось, то ли по неопытности, то ли по жаркому желанию любить - что и Максим её любит.
Максим...Холодный взгляд, уверенная походка. Полная рациональность. Куда бы он ни шёл - везде побеждал. Кого бы ни хотел - всех получал. А её он получи тем проще, чем ей больше хотелось вышеозначенного. Любви ей хотелось, которой никогда не знала, которую в городе столичном добыть трудно.
Чего Максиму было нужно от Ольги - на первый взгляд ясно. Москвы. Перспективы. Оттого он и придерживал её около себя все три года учёбы в медучилище. Чтоб потом легонько перебраться в столицу. Ольга училась на дневном, но всякие каникулы летела к Максу, за 600 вёрст, ради двух- трёх дней бесстрашного и бурного любовного исступления, ради того, чтоб обнять его загорелое тело и заглянуть в его холодные равнодушные глаза.
Его юность делала своё дело - Ольге не верилось, что он просто трахается. И всё. Ей чудились гулянья по Москве, долгие интересные беседы и праздники вместе. Но Макс приходил лишь тогда, когда темнело, чтобы на деревне было меньше разговоров о том, что "москвичка увела" первую радчинскую гордость.Да и к тому же беседовать он не умел. А гулять они могли только по лесу и вдоль речки. Поэтому они каждую ночь занимались любовью. То есть- сексом.
В деревне его не любили за то, что Макс был слишком надменен и спесив. На хромой козе не подъедешь, а если и подъедешь, то он мгновенно ссадит и с хромой козы. У него был конь, на котором Макс проносился по улицам деревни, оставляя за собой пыль и вздохи бабок.
- Сукин сын, какой гордый!- Шептали они, качая головами.
Собственного отца Макс ненавидел, поскольку его змеиноподобная мать выработала в нём пример равнодушия ко всему, что является хуже, чем есть сам Макс.
- Ольга тебе не пара. Ты найдёшь себе ещё миллион таких.- Шипела она, провожая его в ночь.
Макс улыбался. Знал, кто кому пара...На маму не обижался. Отец пил от отчаяния, понимая, что его приемная дочь - старшая сестра Макса Лариска, жена, бабка и даже внучка, Ларискина нагулянная дочь - змеиный клубок, злобный и завистливый.
Но Ольге не верилось, что от осинки не родится апельсинки. Слишком неопытна и влюблена была она в своего Макса.
Летом встречами руководил Макс. Приходил к ужину. Ел он хорошо и много. Потом, когда родители уходили спать , Макс запирал веранду, раздевал Ольгу и предавался с любви. Ольга смотрела на его гордость и надменность, видя в этом единственную возможность остаться благородным в этом чёртовом Радчино, среди спившихся крестьян и их потерянных в блядстве семей. Мужья менялись жёнами, дети пили и курили, все интересы - только секс и самогон. Впрочем, как во многих деревнях, где умер колхоз а ничего нового не родилось.
Ольге казалось, что Макс обязательно выберется из этого болота. Она тянула его отсюда всеми своими женскими силами- и в том числе материально. Возила его в Москву, покупала одежду, давала денег. Макс брал. Гордо, но брал...
Однажды в Ольге шевельнулся разум. Она никогда не слышала, что он её любит. Он молчал. Она молчала. Это была детская игра, глупая игра в ожидание, кто - кого переймёт. Но вместе с тем, ей казалось очень важным- если уж она и потеряла свою гордость перед этим мальчишкой, пусть он скажет ей хотя бы одну фразу, хотя бы одно слово, которое срывается с губ людей в страсти и обожании, во лжи и в страдании, в тоске и похоти. Но это слово - держит всё на этом свете.
Ольга заглядывала в его глаза, чтобы рассмотреть в них это слово. Она прибавляла жара, любя его, чтобы случайно оно выскользнуло у него. Она играла и страдала, но не получила ничего. Железная холодность и стойкость Макса проявилась ещё в начале их отношений. Восемь месяцев он водил её за руку, целовал и обнимал. На исходе шестого месяца они добрались до постели. Но ничего кроме объятий и ласк Ольга не получила. Почти в невменяемом состоянии Макс соизволил докончить начатое. Так он заставил её молчаливо вымаливать поцелуи и извиваться от страсти, как ужа на сковородке.
В семнадцать лет он был опытен в любви, но это сводилось к удовлетворению себя- и не более. В восемнадцать- Макс стал немного обращать внимание на Ольгу. В девятнадцать она ему надоела.
Однажды она поняла, что надоела ему. Но не любовь, а злость стала руководить её действиями. Как же так...и за что? Отчего Макс стал глядеть сквозь неё...Пренебрегать ею... Почему стал приходить реже и чаще показывать характер? Секс стал быстр и груб. Макс моментально вырубался, отвернувшись к стенке, а в шесть утра уходил домой к маме, чтоб прийти к Ольге через два дня , ближе к ночи...
Ольгины родители молча смотрели на её страдания, иногда подливая масла в огонь. Но признать появившуюся нелюбовь Макса- всё равно что предать саму себя- ведь его она любила...Но- затем лишь, чтоб вообще кого-то любить.
Какие прекрасные стихи рождались у неё в этих непрекращающихся страданиях! Какие песни она сочиняла на кухне, под гитару, когда уже уезжала в Москву, разлучаясь с любимым. Никого не видела она- только его образ, идеально чистый. Жёсткий взгляд победителя, неслышный шаг охотника, во всём успешного и удачливого, осторожного, хотя и юного.
Она была совсем не такой! И жила чувствами, ранними и прекрасными. Она ломала себя перед ним, но ломала упоённо и сладко, поддаваясь силе.
- Не любит он тебя.- Твердила мать.
- Не будет он с тобой!- Говорил отец.
Но Ольга ослепла и оглохла.У неё - Любовь. Первая...
Тем не менее, прошло три года. Наступил Новый год. Макс приехал в Москву по делам, и две недели жил у Ольги. Первые три дня было легко, потому что была постель. Потом постель прискучила. Занятий других- не было. Макс ел, Ольга готовила с утра до ночи. Она водила его гулять, Макс радовал её по ночам. Но когда он стал звонить "одноклассницам" , которые учились в Москве и назначать им встречи, Ольга наконец поняла, что он наверняка с кем - нибудь кроме неё спал, там , в другом городе, где учился в медучилище. Что, наверняка изменял ей... Ведь он молод...а она приезжала так редко!
Когда эта мысль посетила её, тут - же сломался весь идеальный образ возлюбленного. Проснувшись рядом с ним, она уже не разглядывала его нежные губы, глаза с длинными ресницами, коротко подстриженные волосы гладить не хотелось, да и он не позволял...Они промучились две недели в заснеженном городе, в лапах небывалых морозов, не имея возможности оставить друг друга хоть на минуту. Родители жили за городом. Чтобы хоть как-то развеяться, она поехали в ним.
Ольга сидела дома с матерью, непрерывно жужжащей ей "правду" на ухо. Макс, помогая отцу по хозяйству, появлялся дома лишь поесть и вечером- поспать. Ольга бесилась, сходила с ума. На улице стояли морозы за тридцать. Год обещал быть урожайным.
В душе у Ольги так - же подмораживало. Макс вообще не глядел на неё, пренебрегая ей во всём. Она ему надоела - это было видно. Сковав её по рукам и ногам узами покорности и превратив в молчаливую исполнительницу ему одному нужной роли- он отнял у ней всякий интерес характера, всю её прирождённую весёлость и радость. Она стала походить на него, но отчего - то, ей всегда хотелось плакать. То ли от отчаяния, то ли от мысли, что она не может быть самой собой рядом с этим жестоким человеком. Но Ольге казалось, что это её выбор - и надо, чтоб БЫЛО ТАК.
Погостив несколько дней у родителей, мучающихся Ольгиными страданиями, они уехали обратно в Москву.
Макс засобирался домой и почти вылетел из дома от Ольги. Он, верно, не мог надышаться свободой... Она не видела, как он убегал по морозной вечерней улице, не обернувшись. Холод его последнего поцелуя оскорбил её, и Ольга долго плакала, усевшись спиной к входной двери от одиночества и непонимания такой любви.
Ей хотелось кончить, уже ставшие нестерпимыми страдания.
- Ничто не повториться...- Шептала она, трясясь от рыданий.- Всё прошло!
Надо было просто понять холодным умом , что этот летний дачный трах ничего не значил для него. Но это означало признать себя грязной...Да, такой же, как был Макс. Гораздо более благородно было бы пережить это как Любовь. Пусть и безответную.
Ольга, теряясь в догадках, как бы присушить одиночество на корню, решилась на последний шаг.
Прошло десять дней после их с Максом последней встречи. Надо было что- то делать.
Помог Интернет. Однажды, Ольга заглянула на случайный сайт, случайно найденный по Яндексу. Случайно нажала кнопку "ENTER" так- же случайно перед ней оказалось милое мальчишеское лицо, обрамлённое золотыми волосами.
Ольга перекинулась с ним только номерами телефонов, единственным сообщением. А на следующий день, вечером, он приехал к ней.
Что это было - Случайность или Судьба- но оба этих понятия тождественны. У подъезда Ольгу ждал высокий девятнадцатилетний парень, с золотыми локонами до плеч, с зелёными искристыми как бенгальские огни, глазами. Весёлый и бесшабашный. Он сразу посадил Ольгу в машину и повёз её по ночному городу.
То, что было после - казалось ей сном. После холода, она вдруг вернулась в тепло посреди зимы. Женька, так звали её нового ухажора, завлёк её в кромешную страсть и нежность.
Она не собиралась ходить с ним за руку. Она сломала компьютер, и когда Женька явился, чтоб его починить, обвила его руками так крепко и туго, что она схватил её на руки и понёс в постель.
- Что мы делаем...- Выдохнула Ольга, однако, сообразив, что данная фраза- штамп.
- Мир сошёл с ума и мы вместе с ним.- Ответил Женька и завалил её на постель.
Так и прошли эти несколько последних ночей января. В глупом и неразумном счастье, где, словно потерявшись, Ольга таяла, как воск, и знала, что огонь её пожирающий - намного честнее, чем, тот, что был до этого.
После пропусков института, угарных долгих ночей с Женькой, после наскоро выпитой водки и весело выкуренной травки, после шаловливых признаний и застенчивых объятий позвонил Макс. Женька был на лекции в своём институте.
- Здравствуй.- Сказал Макс никак.
- Привет.- Дрожа руками, ответила Ольга.
- А я поступил в кадетский корпус.
- Я рада... Значит...ты не приедешь в Москву поступать?- Сохраняя равнодушный тон, поинтересовалась Ольга.
- Очень даже приеду! Я бы тебя увидел...хе...хехе...- и Макс противно засмеялся своим дедовским смехом.
- Понятно. Ладно, у меня всё хорошо, Погода - мороз.
- Ну, скажи мне, что - нибудь...важное.- Вдруг серьёзно попросил Макс.
- А что?- Хихикнула Ольга от неожиданности.
- Что-нибудь, самое главное для тебя.
Ольга замолкла на минуту.
- Ты первый. Сначала ты.
Макс помолчал тоже.
- Хорошо, пока. Надумаешь- скажешь. Давай....
- Пока.- Грустно ответила Ольга и тупо слушая телефонные гудки, смотрела на свадебный портрет сестры и её мужа, стоящий возле телефонной базы. Они оба были такие счастливые и молодые, что у неё молча потекли слёзы. Потом её затрясло.
- Не сломаешь ты меня!- Крикнула Ольга в телефон и бахнула им несколько раз об стену.
В дверь позвонил Женька. Ольга бросилась ему на шею, встретив его с такими зарёванными и безумными глазами, что ему стало не по себе.
- Ты чего! Лёлик!- Вскрикнул он, и пакет с едой из супермаркета, выпал у него из руки.
- Не отдавай меня!- Затараторила Ольга.- Никому, никому не отдавай. Я боюсь. Я не хочу!
- Да кому, да что ты...Да не надо, Лёлик! Девочка моя, не надо, не реви! Никому, никогда...
- Не "никогда" , а не отдавай, просто держи меня...я могу...я могу...
Женька схватил её на руки, разулся и прошёл в спальню. Под утро Ольге приснился сон -как она сидит во дворе, на даче, и вдруг- синяя мохнатая птица падает ей в колени с небес. Она прижимает её к себе- это птица счастья! Открыв глаза Ольга видит золотые локоны Женьки, его спину. Ей так хочется снова заплакать!
Прошёл месяц. Ольга заболела гриппом. Лежала в стельку. Мать приехала ухаживать за ней. Тут же и познакомилась с Женькой, не покидавшим Ольгу. Женька, правда, матери понравился, но был моложе Макса на год. Итого, с Ольгой -пять лет разницы. Конечно, по её девчачьему виду нельзя было сказать, что ей двадцать четыре. Максимум - восемнадцать. Казалось, что и мозги у неё были ещё совсем юные от опеки родителей, от её личной прирождённой осторожности.
Но настроение у Ольги резко ухудшалось. Она стала видеть истинное Женькино лицо, невидимое доселе в порывах первой страсти. Женька приносил только то, что любил сам. Сам приносил - сам съедал. Спал, занимался с полуобморочной Ольгой любовью, которая была бесцветна и жалка, и поутру упархивал на своей красной новенькой "десятке", подаренной мамой - бизнесвуменшей, на учёбу.
Ольга, пребывая в почти бессознательном состоянии , запёкшимися от температуры губами шептала, что не хочет секса, но Женька был неумолим, молод и скор.
Мать Ольги, сообразив вскоре, что дочь идёт на поправку, уехала на дачу. Женька продолжал приезжать - уезжать, есть - спать. Хорошо, что за месяц их знакомства они ходили в кино, гуляли, танцевали по ночным клубам. Это было, да. Забойно. Сейчас Ольга вспоминала, как ей было здорово, на гребне волны...на гребне отходняка от Макса...
- Главное, чтоб меня не прибило к тому же берегу, обратно...- Думала она, ничком лёжа на постели.
Между тем, болезнь отпустила. Но новые мысли, тягостные и неясные томили голову Ольги. Задержка. Три, пять, десять дней. И это уже не болезнь...На грипп не спишешь. Просчитав всё в уме, Ольга догадалась, что беременна. То, что отец- Женька- вне всяких сомнений. Но с Максом ещё не решено. И не порвано.
В марте Женька свозил Ольгу к себе на дачу. Он очищал дорогу перед домом, кидал снег весело и беззаботно. Ольга улыбалась, но, как только по радио начинали крутить душещипательные песни, слёзы лились из глаз. Ей всё время хотелось есть и спать. Не было сил. Наступающая весна возвращалась тяжело, отходя с метелями и вьюгами. На даче у Женьки, в Тучково, они провели два дня, ни разу не включив в доме свет. Поутру решили выползти на улицу и пройтись. Как только отделились от дома, раздался звонок.
- Как твоё ничего?- Спрашивал Макс.
Ольгу передёрнуло.
- Всё хорошо. Наступает весна.
- А я получил зелёный берет.
- Я рада за тебя.
- Я скоро приеду...
- Когда это - скоро?
- Летом...
- До лета ещё дожить надо...
- Хе..хехе...
- Ладно, я в метро захожу, сейчас отключусь.- Говорила Ольга, косо подглядывая за Женькой, откидывающим с машины снег.
- Ну скажи мне что- нибудь...важное...
- Мне нечего тебе сказать.
- Пока.
- Пока.
Женька, увидев переменившееся Ольгино лицо, но, плохо зная смысл подобной перемены, как и её саму, спросил :
- Кто звонил?
- Брат стал кадетом.
-О, родной?
- Нет, двоюродный.
- Круто!
И они, уже молча,гуляли...
Прошло ещё две недели. Ольга погнала Женьку в аптеку за тестом на беременность. Ещё ночь не прошла, как Ольге приснился сон. Бикфордов шнур - а в конце- вспыхивает свеча.
- Я беременна.- Думает Ольга, проснувшись.- Я - есть.
Тест отвечает двойной сплошной.
Несколько дней Ольга не могла прийти в себя. Это было чудо. Действительно, чудо. Конечно, она хотела родить, но это было так далеко- а теперь- вот оно, близко, здесь! Она станет мамой...И всё зафонтанировало галлюциногенно - яркими цветами. Но главное- Женька рад! Рад. Женька.
Он, как дурак, как молодой дурак - рад, что будет отцом. Он строит планы, а её сносит. Ей плохо. У ней адски болит голова. И от боли она сворачивается клубком- потому что нельзя пить обезболивающие. А голова болит каждый день, крышесносительно болит, до припадков.
Это всего - лишь токсикоз, но в нём Ольга страшна.
- Я не люблю тебя! Ты жадный!
Да, Женька страшно жадный. Скупой, глупый, ограниченный.Но она этого не видела ещё недавно на гребне волны...Она любовалась им. Его красотой. Его статью. Его прелестью.
Его мама - огромное, жирное, расплывшееся чудовище под два метра ростом, только и может что жарить сырники без соли и сахара. Она не выпускает мужа из комнаты, она работает - а он сидит дома и " воспитывает сына"
Он воспитал сына...Капризного, эгоистичного, хамовитого. Сына, который с тринадцати лет занимается поддержкой и созданием порносайтов в Интернет. А мама этого сына сделала своё состояние на том, что содержит сеть общественных туалетов. И от неё пахнет синей кабинкой, потому что она от неизмеримой торгашеской жадности сама стоит на холоде, и на входе в свой "райский домик"
Всё это Ольга узнала после. После того, как забеременела, после того, как опустилась на землю. А прошло всего три месяца.
- Уходи. Это не твой ребёнок и замуж я за тебя не выйду.- Однажды, спокойно говорит Ольга.
Женька спокойно уходит, предварительно предложив денег на аборт.
- Пошёл вон!- Кричит ему вслед Ольга.
- Ты ещё приползёшь ко мне!- Отвечает Женька и уезжает.
Весна нежно оперяет клёны и липы. Идёт неспешно и чарующе. Ольге уже легче, потому что отпустила голова.
Мать неожиданно предлагает поехать к бабушке. Ольга вздрагивает.
- Я не верю, что ребёнок Женин. Это Максов ребёнок, и он его примет. Макс благороден.- Говорит мать.
Ольга, как за соломинку хватается за эти слова...Да, её опять прибило к этому берегу...Где взять сил - чтоб оторваться?
Женька пропал. Ольга не звонила, не писала. Но зато позвонил Макс.
После расставания с Женькой, Ольга написала Максу письмо полное намёков, и теперь, первое , что спросил он, было, придумала ли она имя.
Это был рационально продуманный вопрос от которого Ольгу опять возмутительно передёрнуло.
Но она не сказала ничего. А просто поехала к нему.
Встреча их ничем не отличалась от предыдущих. Такой же рассеянно- тревожный взгляд Ольги, измученной токсикозом, такой- же, холодный и чуть улыбчивый вид Макса.
Ничего не изменилось и в том, что он дозировал свидания. И из десяти дней, что Ольга была в деревне, пришёл к ней лишь пять раз. По разу в два дня. На пару часов. Он даже не спросил откуда дитя, не поглядел в её глаза, не признался в своей радости. НИЧЕГО! Это не Женька, который радовался, прыгая и кружа её на руках, который, как быстро загорелся, так и погас...Но он был такой живой, а этот...
Мать Ольги качала головой в недоумении. Снова из Ольги ушёл и цвет, и радость. Осталась одна грусть. И всё это делал Макс.
Поэтому и уехали они, безбольно простившись. Макс обещался приехать поступать в июле...
Как то утром, в конце мая Ольга почувствовала первое шевеление малыша. Он, словно проплыл с левой на правую сторону живота. Ольга улыбнулась и схватилась за чуть округлившийся живот, чтобы поймать это милое ощущение, до того нежное, до того прекрасное! Ничто другое из ощущений не могло сравниться с этим... До июля она избавилась от токсикоза.
Макс приехал рано утром с половиной индюка в сумке. Привёз кое -какие вещи, большинство из которых были подарены Ольгой. Глаза его бегали. Он приехал жениться. Ольга уже не оставалась одна, и мать всё время была рядом.
Макс не притронулся к Ольге, хоть и спал рядом. Хоть и не виделись они полтора месяца. Ольга решила, что это от живота, который уже поднялся на кулачок. Макс иногда смотрел на то, как Ольга суетится, пытаясь приготовить ему что-нибудь вкусное, как её мутит от еды. Но не понимал, что можно и помочь ей в этом.
Он брал её с собой, по страшной жаре , в качестве проводника по институтам, в которые намеревался поступать. Но он везде опоздал, и теперь его ожидала армия. Или работа.
Работать же Макс не хотел. Он боялся, что однообразная жизнь и быт станут на него плохо влиять. По натуре она оказался одиночкой и барином. Ему следовало всё подавать, ухаживать за ним, бесконечно выражать восторг его действиями. Он любил себя похвалить и пофанфарониться. Вот теперь Ольга на всё его безжалостное к ней поведение глядела с тоской. Одна мать устроила Максу головокружительную взбучку, однажды попросив его помочь и услышав в ответ : "Я здесь пока не хозяин!"
- Ах, пока!- Взвизгнула мать, не глядя на Ольгу, глаза которой округлились от ужаса.- И не будешь! Петух щипаный!
Макс, услышав несвойственное ему прозвание покраснел от гнева, сжал кулаки, и замолк. Под скулами его заходили злобные желваки...Ольга увидев это, чуть сознание не потеряла и наорала на мать.
Через неделю, когда они все вместе ехали в поезде в деревню, чтобы Ольга побыла на свежем воздухе, и навестить бабушку, мать опять пропесочила Макса прямо в купе. Тот вскочил и вышел вон.
Ольга побежала за ним. Безжалостный Макс стоял отвернувшись к окну. Он ненавистно вцепился в поручень так, что костяшки на его кулаках побелели. Ольга умоляла не злиться на мать, но он не слышал.
По приезде в деревню, Макс ушёл к себе домой, на другой конец. И больше не приходил.
- Вот вся его любовь! А ты, дура! - Говорила мать Ольге.- Обиделся, испугался! И на ребёнка плевать!
Но Ольга, понимая её слова, всё-таки боялась думать о том, что Макс больше не вернётся.
Это было для Ольги лето полное надежд и разочарований. Но всё - же она не думала ни о ком, кроме малыша, который не давал ей спать по ночам, просыпаясь в два часа ночи и методично стуча ногой в одно и то же место.
- Забивает гвозди...- Думала Ольга, улыбаясь, а на деле ей было не до смеха.
Макс пришёл через неделю после их приезда в деревню. Они жили всего в полутора километрах друг от друга, но Макс выдерживал Ольгины нервы. Он пришёл к вечеру, как всегда, когда она сидела возле дома на скамейке и ждала его. Можно было сказать, что сегодня дождалась...Он явился из леса, по которому шёл, чтобы избежать лишних разговоров, словно тайно. Сел рядом с Ольгой, сухо поздоровавшись, зачем-то достал маленький фотоальбом и стал показывать девушек, разных, но Ольге незнакомых.
- Это моя одноклассница, это моя однокурсница...это...так сказать...хехе, подруга боевая...с курса параллельного.
Ольга смотрела в альбом, иногда взглядывая на Макса. Он так и продолжал её не видеть. Ольга задрожала изнутри, обняла руками живот.
- Ты останешься?- Спросила она тихо.
Он вскинулся.
- После того, что устроила твоя...мать? Нет, не останусь!
-Но нам -же, как-то надо жить...вместе...
- Приходи ко мне.
- Куда? - В ужасе спросила Ольга, вспомнив Максову мать.
- Сестра купила соседний дом. Там пусто. Я там делаю ремонт, там и поживём.
- Но там нет, наверное, ни воды, ни...ничего...
- Да, нету. Но с милым - же рай в шалаше...- Противно ухмыльнулся Макс.
Ольга опустила голову. Макс, вскоре, ушёл, так и не спросив, как она, как мылыш.
Две недели она не видела его. А лето шло своим чередом.В бору Ольга собирала грибы, но каждый поход в лес для неё был мученьем, состоящим из раздумий. Конечно, они ни к чему не могли привести. Вся деревня открыто издевалась над её незавидным положением, что она не увидела сразу, что нужно Максу от неё. А теперь ему нужно было поссорить её с родителями и занять их квартиру в Москве, чтоб претворять в жизнь свои планы. Ольга не могла верить в это, хотелось думать о добром, о малыше, непрестанно стучащемся в животе, о том, как он будет расти и радовать её. Но увы, мысли грустные перекрывали радость. От девчонок - соседок, ходящих на танцы в клуб, Ольга узнала, что и Макс появляется там каждый вечер. Пьёт, гуляет...А жить перешёл в пустой дом...Туда к нему приезжают однокурсники из города и там же они пьют. Сестра Лариса сказала ему- гуляй, ты молодой...И он гуляет, и не навещал её уже давно...
После этого Ольга не могла прийти в себя. Тупо смотрела в землю, шагая босиком по раскалённому песку, укрывавшему дорогу к речному пляжу. Беззащитность её и слабость были очевидны. Веки опухли от бесконечных слёз, а глаза вечно были красны и полузакрыты. Ольга не снимала чёрных очков. Ей было жаль, что она ушла с последнего курса института, что не может работать, что она - никто...Она доводила себя до положения полного ничтожества, да ещё без мужа, без денег, повисшего на шее родителей, но сделала над собой невозможное усилие и однажды, пошла в сторону Макса, под предлогом прогулки. Идти она хотела мимо него, но он, как будто чудом её увидел, выскочил из дому.
Ольга глянула на него полными слёз глазами. Макс, жалкий и отчего-то напуганный, заглядывал под её соломенную шляпку, натянутую по самые глаза, чтоб их никто не видел. Она была в отчаянии. Он был нетрезв, крепко взял её за руку и потащил в дом, где от запаха перегара можно было топор вешать. На пороге им встретилась сестра Лариса, толстая некрасивая и прыщавая полугрузинка, крашенная "Супрой" в белый цвет, с которой когда-то Ольга дружила, когда не была беременна и обещала познакомить её с каким-нибудь московским парнем.
- Привет! Кто явился!- Нахально сказала Лариска обнажив чёрные от "Примы" зубы.
Ольга отвернула голову, Макс цыкнув на сестру, попросил её уйти. Та без удовольствия повиновалась. Но остался Максов друг, к которому Лариска безрезультатно кадрилась. Друг от Максовых слов тоже вышел.
В комнате ничего не было кроме двух кроватей и табурета, на который был настелен щит из сколоченных досок, а на нём стоял самогон в бутылке местного самоназвания типа "Херша" - полтора литра и стаканы обсиженные мухами. Ольга, усевшись на другой табурет, который Макс принёс из сеней, зарыдала, закрыв лицо руками так сильно, что Макс не смог их оторвать. А когда оторвал, принялся глядеть на Ольгины заплаканные красные, бездумно несчастные глаза.
- Не плачь только.- Заплетающимся языком говорил он.
Ольга тряслась, как лист на осенней ветке, руки её дрожали, пережатые по запястьям руками Макса. Но понемногу она пришла в себя.
- Я уеду...через два дня. Мне...мне здесь нече-го де-лать...Зачем я тебе верила...Зачем я тебя слу - шала...Какая я была глупая...- Прерывисто шептала Ольга, глядя в пол.
Макс выпил прямо при ней, занюхал хлебной коркой.
- Так, значит, да?
- Да...так...
- А то что я не могу жить с твоими родителями - это для тебя ничего не значит? - Спросил он злобно.
- Раньше мог...когда я не была...когда не было малыша...Ты ел и пил, спал у нас...
- Они себя ведут так, как мне не нравится.
Ольга попыталась встать, но он грубо её усадил назад.
- Знаешь, подожди, не уезжай...Уедем вместе в конце месяца.
- Нет. Я уеду через два дня.
Он посмотрел на неё давно забытым взглядом. Как смотрел когда-то, очень давно, когда был, наверное, немного влюблён. Он водил глазами по её лицу, отпустил её руки и она немного успокоилась, перестала всхлипывать.
- Ну, хорошо...Ты поезжай. А там мы решим , как будет.
Ольга кивнула. Теперь, о, как - же поздно поняла она это...он её совсем не любил. Горевала она напрасно...Недаром же, сидя одиноко по ночам на веранде и вспоминая прежние годы она уговаривала малыша не толкаться...Говорила ему, что у него не будет папы.
Так получилось, что после той встречи он явился только для того , чтоб проводить её в Москву. Они пошли прогуляться в последний вечер по спящей деревне, бродили по старым местам, где рождался когда - то их роман. Но Ольга слышала от него только его- же интересующие разговоры...
- А теперь я тебя оставлю. Мне надо в соседнюю деревню съездить, сейчас за мной приедут. Слышишь - мотоцикл?
До дома оставался километр- не меньше.В десяти шагах начиналось кладбище.В тёплом и чёрном августовском небе проносились мерцающие метеориты. В траве истошно цвиркали сверчки. Темнота облепляла предметы.
- А...а как я дойду домой? Ты меня сюда привёл, чтобы уехать...
- Ну, по пути...Заодно и прогулялись.- Разумно подтвердил Макс.
- Я боюсь идти. По улице собаки сейчас бегают.
- Ладно, я провожу тебя.- Раздражённо сказал Макс, и они пошли, не держась за руки, по тёмной улице.
Придя к её дому, он постоял, прислушиваясь к далёкому рокоту мотоцикла.
- А что у вас там за дела?- Равнодушно уже, спросила Ольга, поняв всю клиничность ситуации.
- Да так, другу надо помочь...прессануть кое-кого.- Деловито сказал Макс, засовывая руки в карманы .
- А, ясно. Проблемы из-за девушки...
- Да!
-Ну, так иди...
- Правда?- Весело спросил Макс, и потянулся обнять Ольгу на прощание.
- Правда. Дуй, защитник.- Ответила она, оттолкнув его в грудь ладошками.
Макс, нисколько не огорчившийся, ушёл в ночь. Свободный, радостный. Ольга уедет поутру. И он не придёт больше. А ей рожать через месяц. Свободный, радостный Макс.
Когда у неё болел зуб, мать принесла котёнка. Чёрного, гладкого. Котёнок Ольгу успокаивал и забавлял своей игрой. Думали, это мальчик, но развернув ему ноги, Ольга углядела, что нет, девочка. И назвали котёнка Аськой. Аська была подругой Ольги, верной, как никто другой. Топорща уши, заложив их назад и прыгая на криво изогнутых передних лапах, а задними взлягивая, дрожа стоящим от гнева хвостом, Аська накидывалась на растопыренную ладонь Ольги, засыпала, обмякнув, у неё на животе, урча до всхрюкиванья.Сейчас подросшая Аська сидела на крылечке и ждала Ольгу.Увидев её, она лёгким прыжком,опершись на выступающий живот, скакнула ей на плечо и стала тереться мордочкой за ухом.
- Радость ты наша единственная...- Прошептала Ольга, но поймала себя на мысли, что плакать больше не хочет
По кому плакать...По этому конченому придурку? Ей стало стыдно за себя и она ушла спать.
Ольга прикладывала Аську к болящему, до обморока, зубу, и засыпала, чтобы проснуться ночью от ударов малыша в животе. Последний месяц перед родами, она провела на даче с отцом и матерью, в Подмосковье. Забиралась на сенник, с кошкой, под полиэтиленовый тент, клала её на живот и учила малыша понимать кошачий язык, а сама глядела на сентябрьскую морось, на увядающие деревья, на огород, с которого уже всё убрали. Думалось изредка о том, почему эту дикую расправу Судьба свершает с ней именно сейчас, когда в ней- малыш, которого она ни за что не хочет потерять...Ведь теперь это только её малыш.
Макс замолк. Не звонил, не писал. После первого же медосмотра и УЗИ, Ольгу заперли в роддоме, в отделении патологии беременных. Одну в четырёхместной палате.
Мать от расстройства , что с Ольгой может что-нибудь случиться попала в кардиологию. Так они обе и лежали в больницах...Ольга так и не пополнела, как все беременные. Живот у неё был маленький и прятался под одеждой. Наступил октябрь. Ольга в своей палате после синестрола с эфиром уже перетанцевала, перепела и перерисовала всё, что было можно...Она старалась быть весёлой и развлекать себя. Научилась вязать и шить, вышила малышу рубашечки, рисовала пастелью виды за окном. Но это оказывались морские дали и корабли по горизонту. Она нарисовала несколько портретов, до того удачных, что на них сбегались посмотреть санитарки, доктора и медсёстры. Всё равно, Ольге казалось , что её заперли сюда надолго, но выписка пришла неожиданно.
Погуляв на свободе десять дней, Ольга опять попала в роддом. На этот раз её положили на сохранение с подозрением на поздний выкидыш.
И вот наступил день, и вечер, и ночь...И она уже в "родилке"
Бежала сюда почти вприпрыжку, думая, что встреча с малышом близка. Ольга теперь уже знала, что у неё будет дочка и радовалась от этого ещё больше.
Счастье захлёстывало её. Лёжа на своём "прокрустовом ложе", обтянутом клеёнкой, Ольга уже сбила всю простынку, переворачиваясь с боку на бок. Наконец, не в силах лежать, она встала. Всё так же в вене сидела игла капельницы. Ольга думала пройтись по коридору, но капельница не проходила в дверной проём. Ольга, с этим забавным посохом ходила по боксу минут двадцать.
" Воспоминанья слишком давят плечи.
Настанет миг - я слёз не утаю.
Ни здесь, ни там - нигде не надо встречи.
И не для встреч проснёмся мы в Раю..."
Пришли ей в голову именно эти цветаевские строки. Беременные, наверное, бывают сентиментальными. Живот опустился и малышка притихла. Она "собрала вещи".
- Давай уж, порадуй меня, родись сегодня, я уже устала ждать с тобой встречи...Я сгораю от нетерпения увидеть тебя...Собирай вещи...- Приговаривала Ольга, гладя живот и натирая кулачком поясницу.
Схватки были долгими, но несильными. Из - за чувства сбывшейся мечты, невероятной радости, Ольга чуть не пропустила самый интересный момент. Когда в бокс вбежала акушерка, Ольга, улыбнувшись, ответила:
- Я сейчас не успею вскочить на кресло, и вам придётся ловить малышку на полу!
Действительно, утро было сладким и для врачей, и для остального медперсонала. Но слаще всего оно было для Ольги, когда легко разрешившись своей двухкиллограмовой малявочкой, она блаженно улыбалась, трогая её маленькие пальчики, не больше спичек.
- Счастьице моё...- Говорила Ольга неслышно, разглядывая новорождённую, лежащую у неё на груди.- Какая ты маленькая!
- Недоношенная!- Отрезала медсестра-акушерка.
- Неправда! Доношенная. Просто - маленькая...
- Ладно, давайте её в кювез возьмём.
- Почему?- Испуганно спросила Ольга.
- Потому что она недобрала сто грамм веса. Маленькая.- И с этими словами ушла, унося малышку.
Доктор Татьяна Александровна, позёвывая вошла в бокс.
- Ты чего это...Уже? Мне пять минут назад сказали, что у тебя потуги...Родила уже?Вот тебе телефон, звони своим, обрадуй.
Ольга, слабо улыбнувшись, набрала номер сестры и сообщила о рождении малявки, чтоб с матерью от доброй вести не случилось чего.
Доктор зашила разрывы, ещё подрёмывая и не дожидаясь действия ледокаина. Ольга слабо попискивала и предлагала сделать ей ещё один пирсинг. На животе, ушедшем с рождением малышки, красовалась маленькая серёжка.
Татьяна Александровна качала головой и улыбалась настроению Ольги.
- Вы сумасшедшие беременные. Все с заездом. Гормоны что ли так на вас действуют. Не дрыгайся!- Говорила доктор аккуратно работая иглой над Ольгой.
Минут через пятнадцать около пяти утра, все ушли и оставили Ольгу в темноте, укрыв её одеялом и позволив прийти в себя. Но сон даже после этих тяжёлых суток не шёл к ней.
Игла давно прокапанной капельницы так и сидела в руке.
- Вот блин...- Удивилась Ольга, вытаскивая её.- Забыли...
.Два часа она следила за тем, чтобы лёд не растаял на животе, а как только её отвезли в послеродовое отделение, одела на себя халат, и подпоясавшись роддомовской пелёнкой цвета " хаки", пошла в отделение патологии за вещами.
Было время завтрака. Девчонки, соседки по палате, только вернулись и увидели Ольгу.
- А где твой живот?- Вскрикнули они все вместе.
- Живот в кювезе. Он - девочка.
Рассказав свою замечательную историю, Ольга взяла вещи и ушла на второй этаж.
Малышку она могла видеть только в кювезе, в круглое окошко, просовывая руку, чтоб погладить её маленькие ножки.
Ольга разглядела сразу, что малышка похожа на Женькину мать, на самого Женьку, на саму Ольгу, на Ольгину бабку, на всех понемногу. Нежность переполняла её к этому новому человечку, к которому теперь надо было привыкать...Возле кювеза и застал её звонок от Макса.
- Ну, как? Я уже стал папой?- Спросил он обыденно.
- Папой? - Усмехнулась Ольга, поглаживая дочкину пяточку.- Папа- это не тот , кто делает, а тот, кто воспитывает и растит...Может быть, ты когда - нибудь и станешь папой...Для кого- то.
- Всё - таки...
- Я родила девочку. Это всё. Разговаривать не могу.
И Ольга нажала на "завершение вызова".
- Нахрен таких пап...- Шепнула она про себя.
Малышка спала, посасывая нижнюю губку, за окном ложился первый снег.
Касатка
Отец звал её "касаткой" и только в школе она с удивлением поняла, что это страшная акула, которая ест пингвинов, и может даже проглотить и тюленя.
Очень долго не приходило голову почему тогда она - касатка, ведь никого никогда не ела, ни на кого не злилась. И не догадывалась же, что касатка - просто ласточка, как их обычно называют по деревням.
Нет, сравнение со страшной акулой было куда интереснее. Наверное, так же она упрямо цеплялась за малейшую возможность выжить в этом мире, когда осталась совсем одна, а ей помогали люди, простые люди, добрые. Помогали, потому, что в то время ещё хорошо помнили войну, сцепку сердец и единство душ, необходимых для Победы.
Касатка думала тогда о том, что, вот, уже нет войны, и это отлично...хотя, ведь все дети мечтают о ней, и перестать мечтать о войне- значит, совсем вырасти.
Её отец, тоже прошёл войну. И он, двухметровый черноволосый красавец сидел сейчас над ней с бутылкой плохого вина и плакал горько.
А она -то ничего не сделала, только проглотила чемеричную воду, спутав её с материным сладким "Холосасом", и, хотя и могло это плохо кончится, ей повезло.
Мать, забрав брата Петьку, сестру Людку, умчалась как раз три дня назад, когда её, Касатку, увезли в больницу.
Она тогда лежала на заднем cиденье отцова чёрного роскошного "ЗИМа", и он спасал её, вёз в больницу. Мать убежала от него в тот же день, воспользовавшись тем, что они уехали.
Когда касатку Томочку выписали, отец привёз её в пустой дом. Здесь немецкая мебель, трофеи отца, и библиотека, и напольные часы, и зеркало в пол, в котором так любила красоваться мама...
Но сейчас, касатка лежит на постели, на чёрном кожаном диване, совсем жёлтая на лицо, с потухшими мутно- зелёным глазами.
Всё лицо её заострилось, она стала худой, как тростинка, а ведь ей скоро двенадцать лет, когда подростки и так не блещут красотой...
Отец завесил большую круглую лампу с зеленоватым плафоном на мощной ножке в виде двух обнимающихся бронзовых ангелов. Томочка от этого света совсем непонятного цвета. Она молча лежит на спине, под атласным одеялом и слушает отца.
- И никогда- то я не обижал её. Не трогал и пальцем...и не обижал, скажи вот мне, как она так сделать - то могла?
Томочка молчала и только слушала, как часы стучат в пол и иногда бьют. С улицы в окно молотил непереставаемый ноябрьский дождь.
Действительно, он маму не обижал. Но чья в том вина, что мама вышла за него без любви? Он был первый, кто въехал на танке через кирпичную стену лагеря в Хемнице. Он порвал эту распроклятую колючую проволоку, которая окружала их маму, освободил её, увидев в толпе худых прозрачных девчонок. Она глядела на него прозрачно - голубыми русскими глазами, кокетливо поправляя волосы и платье, волнующееся вокруг колен в тот памятный майский вечер, когда русские громили Германию в припадке упоения собственным возмездием.
Маму, которая ему до груди едва доставала, он на руках носил по всему городу, а она заливисто смеялась, уже забыв про лагерь, про голод, про свою несчастную судьбу...И теперь он виноват в чём-то.
Томочка его не просто как отца любила. Он для неё был прежде всего воин, освободитель. Только одна Томочка знала о том, что мама была в лагере. Это случилось так же, нечаянно. На стене висела немецкая картинка времён "Либенсборна", агитка, с обнимающейся парочкой, и на ней - уходя на войну, роди ребёнка, по- немецки было написано. Томочка на эту арийскую карточку глядела с умилением, такие красивые ей казались эсэсовский офицер и юная, светловолосая девушка. И из-за умиления она сняла со стены эту картинку, стала разглядывать и обнаружила, что наклеена она на какую-то фотографию с надписью на обратной стороне - "После пребывания в лагере. Июль45 года"
Почерк был мамин, но на фото сидела, какая-то чужая женщина, круглолицая и темноволосая, в белом берете, с тонкими ногами и костлявыми пальцами правой руки, подпиравшей голову. Левая рука, лежащая на чёрном платье, была оторвана вместе с присохшим клеем. Это была мама. Тогда ещё двадцатилетняя... После того, как мама узнала о Томочкиной проделке, был разговор с отцом.
- Пойми, об этом никто не должен знать. Никто и никогда, слышишь? Это мамина и моя тайна, она может нам стоить жизни, когда мы вернёмся в СССР. Никогда не говори об этом никому. Слышишь, касатка?- Дрожащим голосом вещал отец, посадив её на свои высоченные колени.
Касатка утвердительно кивала, улыбалась, и так никому и не сказала.
Вот теперь она думала об этом чаще, когда они приехали в СССР.
Одного искренне только не понимала, почему разрушенная, растерзанная Германия, где немки нанимались нянями к русским "фрау", где у мамы была своя прислуга, няня у Людхен, Томочкиной сестры, а военнопленные мужчины строили русским дома по всей России, так быстро встала на ноги, отряхнулась и не вспомнила своего поражения, отнюдь, не позорного, а достойного, ибо была поражена великой державой...А великая держава, СССР, всё ещё была наполнена нищетой и голодом, клопами и вшами. Миллионы трупов гнили по лесам и рекам, брошенные воины, у которых погибли семьи, которых некому было прикопать, тянули из земли то руки, то ноги, глядели из блиндажей и землянок, поверх трав и колосьев пустыми глазницами, и коровы, пасясь на лесных выгонах подскальзывались на их черепах...
Это было тогда обычное дело- пойти в лес за грибами а найти с десяток погибших. И Томочка боялась ходить в лес.
Германия встала на ноги, а СССР, со стоном только поднималась из руин, отряхиваясь от грязи и крови, которую сытые "бундесы" сеяли щедрее хлеба на русской земле. И Томочка, и её сестра и брат, откормленные в Германии хорошей едой, розовые и толстые, приехали на отцову родину через одиннадцать лет после войны, когда Сталин не только умер, а когда его уже закопали, перенеся из мавзолея.
Томочка вспоминала с ужасом, как они приехали в Оренбург. Но то были ещё цветочки. Отцова деревня, лежащая у подножия Уральских гор убила её на месте. Сперва её подняла на рога корова, которую Томочка назвала "большой собакой" и собралась погладить. А после и бабушка добавила ещё худших впечатлений.
Бабушка Христина, отцова мать овдовела в двадцать пять лет и осталась с тремя сыновьями на руках.
Мужа её, белого казака, однажды вывели за деревню красные и с тех пор его никто не видел. Говорили, что вниз по течению Сакмары, уже через полгода, нашли бочку, а в ней бабкиного мужа. Вот такой у них царь Гвидон неудавшийся получился...После этого бабка уже больше никогда не сняла траур.
Одевала на свои пять юбок чёрное платье, чёрную кружевную косынку, и, поджав губы, никого не замечала, ни с кем не говорила. Работала только по найму, да вязала пуховые платки.
Так и вырастила сыновей. Томочкин отец был младший, а потому самый любимый.
А ведь любимым хочется всегда хорошей, доброй судьбы...
Нашла ему бабушка Христя и невесту. Добрую девушку, из своей деревни. А он, вернувшись с войны, привёз Аню.
Все Анины дети были для бабки нелюбимыми. Она мгновенно перегородила хату, разделив дом надвое.
- Клята детина! - Кричит она на Томочку, которая приходит к ней попросить соли.
Аня с детьми была вынуждена сажать огород и питаться скудно и голодно, ведь бабка запирала погреб, и иногда маме приходилось воровать у неё картошку, чтобы прокормить детей.
Отец иногда стонал, хватаясь за голову: "Зачем, ну зачем я вас привёз сюда! Ну, какая это родина!"
Мать качала головой и горько кривилась, слыша, как за стеной бабка привечает отцову неудавшуюся невесту, а та, звонко разговаривает, чтобы он слышал...да жалел.
Куда теперь деться Ане- в двадцать пять у неё уже трое детей...Вот и всё.
Томочка вспоминала, как они ,наконец ,съехали от бабки в город Кувандык.
Тут отец устроился лучше. Работает, получил майора, ходит в профилакторий...
Мать только печальна. Она всё грустнее с каждым днём. После Германии она тут плачет чаще. Перед тем, как въехать в новый дом, они две ночи спали на улице, а мать ходила по дому и жгла свечкой клопов, от которых все стены были черны.
Нет. Не думала она, что так будет. Что при трёх детях станет работать в ночной кассе на вокзале, что ей нечего будет есть и она продаст все свои "трофейные" подарки...
А отец стал выпивать. И однажды не пришёл домой.
Потом не пришёл ещё раз, и ещё. Мать молчала. Выясняла с ним отношения вполголоса, шипя. Томочка, подглядывая в щёлку, видела, как мама шипит на отца, чтоб не слышали дети.
- Твоя...паразит...без ножа режешь...- Раздавались обрывки её фраз.
Отец, хмельной, красивый, сидел, закинув ногу на ногу, блестя нашивками на кителе, под алым абажуром, мял папиросу в сложенных крест- накрест руках и кивал головой...Дым уходил вверх. Мама отмахивалась, ходила перед ним и шипела. Так они ругались.
Людхен всегда была сама в себе. Никто её не интересовал, кроме книг, которые она глотала просто. Томочку она всегда подковыривала. Обижала, потому что была старшей. Петюнчик, по крайней подлости характера никогда Томочке другом не был. Он мог запросто предать, оговорить, наябедничать...Нет, дурным он был человеком...
Но как- то раз и этот дурной человек пригодился.
В городе, Томочка, в одиннадцать лет, уже ориентировалась спокойно. Все его пыльнющие грязные улицы она знала. Знала лазейки и переулки, тупики и подворотни. Справа живут татары, у них дом здоровенный, помещицкий. Томочка была в гостях у одноклассника, который из их семьи. Там вообще мебели нет. Весь дом пустой! Только в одной комнате матрацы сложены в кучу.Они их ночью стелят, а днём убирают! И бабы там моются на улице из серебряного кувшина. И писают там же, среди двора...
Слева живёт отцов водитель Небейбаба.Да, и жена у него- Небейбаба.Вот сегодня Небейбабина жена у мамы. Они хохочут и стригутся на терасске, грея чайник на примусе. Томочка слышит их смех, примус и топотанье маминых каблучков, глухое, по доскам, за стеклом веранды.
Летний день зноен. От мух спасу нет, они лезут в глаза, присасываются к ногам. Петюнчик, толстый, пыхтящий, таскается за вёрткой тоненькой Томочкой, которая тоже изнывает от жары в плотном фланелевом платье, чулках и чёрных башмаках. Что ж, выбирать не приходится.
Они идут к профилакторию, где уже два дня находится отец.
Профилакторий в двух кварталах от них. Аккуратно выкрашенное белое двухэтажное здание за зелёным штакетником, и окна, все распахнуты в сиреневую поросль. Это должен быть рай для военных. На крыльце, тоже выбеленном ,стоят две весёлые медсестрички и курят.
Томочка вытягивается на на носках, заглядывая через тын штакетника.
- А позовите папу!- Тянет она.
Медсестрички не видят, курят, болтают.
- Тётиньки,- Повторяет Томочка.- Папу позовите!!!
Медсестрички улавливают взглядами и сопящего Петюна за её спиной.
- А кто твой папа, девочка?
- Майор Николай Гречанов. - Отвечает она с гордостью.
Медсестрички шепчутся, снова не замечая Томочку.
- Папу позовите.- Настойчиво повторяет она.
- Нету его сегодня.- Получает ответ.
Томочка слезает с нижней перекладины штакетника, смотрит в землю, на Петюна.
- Пошли домой.- Пыхтит он, раздувая щёки.- Жарень -то какая.
- Пошли. Нет, пошли кругом. Пройдёмся.
И они уныло бредут, друг за другом, свесив головы, а Петюн ещё и пыль загребает.
Дом за домом, двор за двором. Вдруг...папин смех. И ещё чей-то, женский.
Томочка и Петюн, в непонимании , переглядываются и, будто сговорившись, сигают в заросли лопуха на обочине.
Они ползут друг за другом, как два щенка. Ползут молча до того места, откуда смех слышен отчётливее, и откуда, наконец, виден отец, стоящий на крылечке старого одноэтажного деревянного дома.
Из открытых окошек дома тихонько звучит Утёсов. Вытягиваются ветром голубые лёгкие занавески.
На крылечке отец и женщина беседуют возле приоткрытой двери, а женщина держится за дверную ручку, а отец держит её двумя ладонями за другую руку. Ужас. Они улыбаются, и вот отец приклоняясь к ней, такой же маленькой и темноволосой ,как мама, целует её в губы, три раза... А потом, отец, гремя каблуками сапог,поправляя китель, бежит по ступенькам, идёт на дорогу и мимо Томочки и Петюна, наблюдающих эту картину. В профилакторий идёт!
Заросли лопуха играют, как морские волны в шторм. Там Петюн зажал Томочке рот, и навалившись ей на живот, держит её, чтобы она не вырвалась и не побежала следом за отцом.
- Сколько жить бу...буду...не забуду...предатель...гад, гад...- Шепчет Петюн Томочке в лицо, а сам плачет ей на щёки, трясётся.
Неизвестная женщина запирает дверь, закрывает окошки, подпевая Утёсову...
Петюн отпускает Томочку.
У неё спина вся в пыли, косички, заплетённые чёрными лентами, распушились. Петюн, приходит в себя, сидит, бросив руки между ног, и плачет.
- Бу...ду жи...жить...не за...буду ни...никогда...- Шепчет он толстыми губами.- Бедная мамка, мамка то...
Томочка спокойна. Она сжимает тонкие губки, как бабка Христя. Она сильнее Петюна, но только он помешал ей выскочить из лопухов и молотить отца кулачками...так она хотела...
Вернулись домой они уже вечером, когда стало свежо. На берегу ближнего пожарного пруда Петюн оттёр пыль с платья Томочки, поправил ей косички. Они уговорились ничего не говорить...
Мама суетилась на кухне и слушала, как Людхен читает по-немецки Гейне. Томочка прямо с порога спросила:
- А где папа?- Петюн резко повернув голову, полоснул её предостерегающим взглядом.
Мать, кашлянув, продолжала возиться с подливой для жаркого.
- В профилактории...В профилактории...- Сказала она, не поворачивась, и голос её подрагивал.- Завтра уже придёт. А вы где были так долго.
- Гуляли. Есть хотим. Когда ужин?- Спрашивает Петюн грубо.
Людхен ухмыляется, сидит над книжкой, в очках, грызёт яблоко. Ей плевать на всё.
- Нагуляются где-то и есть потом просят. Вот где гуляете там и ешьте.- Визгливо говорит она своим противным голосом, показывая клыки, которые торчат у неё изо рта, как у молодой бабы -яги.
Томочка, не теряя лица, знает, как в ответ куснуть Людхен.
- Крыса. Фашистка.- Говорит она спокойно и показывает сестре язык.
Людхен вспыхивает и визжит.
- Ма-ама! Она обзывается. Мам!
Мама, обернувшись, обводит их прозрачно - голубыми глазами, и видит только Томочка то глубокое горе, что стоит в них, как вода в колодце.
- А ну, тихо...мыть руки и есть...быстренько. - Говорит она, вытирая руки.
На другой день Томочка знает, где его искать. Теперь он ей враг. Теперь его надо ненавидеть, но она не может, и не хочет. Но надо. Небо затянуто тучами и в душе её так же. И идёт она не к однокласснику Кольке, а к "той тётке".
Вот оно, то место, где вчера они сидели с Петюном. День. Окошки плотно закрыты. Утёсова не слышно. Но ведь и в профилактории папы нет. Сегодня он должен прийти домой, сегодня...
Томочка сидит на корточках, копает пальцами землю, не сводя с окошек и крыльца взгляд. Вчера Петюн помешал, но сегодня ей никто не помешает, пусть ему будет стыдно, за маму, за всех нас!
Вот движение в доме, еле слышный звук шагов. Они подходят к дверям. Он обувается. Тихий хохоток. Шорох.
Томочка чувствует, как внизу живота что-то неприятно зачесалось, внутри, в ногах бегут огненные мурашки. "Не могу, не могу, не могу": шепчет она самой себе.
Вот отец вышел на крыльцо, на дорогу.
Но Томочка вылетает из лопуха быстрее. Бежит, шумно дыша, с повизгиваньем, не видит ничего от слёз, мутящих взгляд. Бежит к дому, от него.
Отец замечает её. То ли от удивления, то ли от ужаса, кричит ей:
- Касатка! Ты что здесь!
Томочка, повернув голову, трясясь от рыданий,скулит, и замечает, что отец тоже бежит за ней, спешит, старается нагнать.
- Убъёт...мама...убъёт ведь...- Думает Томочка и поворачивает голову, чтобы ускорить бег.
Но, словно отец оказался впереди и дал ей в лоб...день потух.
Что-то её качало. Вверх-вниз, вверх- вниз. Дрожащими качками. Руки качали. И не мамины. Мама так никогда...Нос болел, кто-то всхлипывал.
Томочка разлепила веки, и увидела совсем близко отцовы глаза. Большие, чёрные, в густющих ресницах...и со слезами... Она молча глядела в них, подняв брови и улыбаясь.
- Ты ж моё счастье, счастье моё...Что ж ты со столбами-то целуешься. Касатка...Чуть не убилась.
И так ей тогда хотелось лежать на его руках всю жизнь, на пыльной дороге, чтоб так он качал её, сидя на голой земле, прижимая к себе...гад...гад.
Ласточка в окне
Дому уже сто двадцать лет, он стоит на прекрасном зелёном холме, над слиянием двух рек. Перед его дворовыми окнами, две огромные липы, видимо, свидетельницы тех времён, когда в доме ещё текла нужная, правильная жизнь.
Теперь его обрекли на этот неживой сквозняк одиночества. Фасад наполовину окрашен, наполовину - покрыт древней краской, видно, ещё тридцатилетней давности. Мезонин глядит выбитым окном, а крыша облеплена новым сверкающим железом именно в том месте, куда перенесли почту. Правда, почтовому отделению тоже досталось. Много лет оно соседствовало с библиотекой, где от недостатка отопления прели книги, которые сейчас стало некому читать, но, несмотря на это, почта бок - о - бок с библиотекой грелась как-нибудь. А когда последнюю закрыли, да, вдобавок закрыли школу, располагавшуюся в Доме, почта переехала туда.
И вот, весною, Дом принял новую жилицу - полулысую "почтарьку", которая давным - давно не носит почту в другие деревеньки, потому что боится собак, да и ноги неходкие стали. У неё, конечно, нет на почте Интернета, а только телефон, по которому в наше счастливое время не нужно заказывать переговоры. У всех есть мобильники.
Да и письма уже никто не пишет, потому что : е - мейлы.
И почтарька мучительно перебирает газеты, открытки, наполняет полочки дешёвым и популярным , на деревенской почте, товаром, фломастерами, туалетной бумагой, тройным одеколоном...Зачем ей это новоселье, если приходит только дебил Шурик, который раньше разносил документы ЕИРЦ по домам, и снимал показания счётчика, а теперь сядет в угол, запахнётся телогреем и мычит, читая "Спид-инфо"...
Шурик по весне пропал опять. Пьёт где-нибудь, наверное.
Нюра с Мусей идут по берегу реки...Они идут на почту.
Нюре двадцать семь лет, и она здесь по случаю. Живёт в деревне, сдаёт квартиру в Москве, и растит Мусю, которой шесть лет стукнуло только месяц назад. Гражданский муж приезжает летом нечасто, на работе завал, а, когда приезжает, то Нюра снабжает его газонокосилкой, лопатой, на десерт - удочкой. Тёща, Нюрина мама наговаривает про него гадости, и приезжает он всё реже...На то он и "гражданский" . Поэтому, только с Мусей можно сходить в лес, на почту, в магазин.
Сегодня Нюра с Мусей решили прогуляться до соседней деревни. До единственного реального пункта назначения - Почты. А весна в самом разгаре, и нигде она не чувствуется живей и чище, чем здесь, за городом.
Обнажилась от снега свалка за деревней, берега Таруски, закиданные кое-где, пластиковыми бутылками и пакетами от чипсов. Муся ноет чипсы.
- Мааам. Ну, купи... Ну, купи мне чипсы, а?
- Не куплю это химия. От неё дети мрут.
- Что значит мрут?
- Значит - умирают.
- Ну, мам...
- Ну, Мусь, дядю, который их придумал в тюрьму посадили за вредительство. И расстреляли.- Говорит Нюра, как ей кажется, самым ужасным голосом.
Муся ненадолго замолкает.
- Что, насовсем расстреляли, что, чипсов больше вообще никак не будет? - В голосе её слышно отчаяние. Уголки губ начинают трястись.
-Неа. - Говорит Нюра, косясь на Мусино кислое лицо.- Гляди, гляди, бобёр поплыл!
Муся тут же вскидывает бровки, распахивает глаза, рот, раздувает ноздри и вытягивается на носочках, шаря взглядом по берегу.
- Где, где бобёр. Мама, где бобёр?- Кричит она зычно, и, наконец, приметив дерево, отформованное бобром в остро заточенный карандаш, ещё больше кричит, и ладошка её, потная и мягкая. Вырывается из руки Нюры.
- Я вижу бобёра!
Нюра качает головой.
- Слушай, бобёр уплыл, но домик его, как раз вот. Где красная стружка на воде, видишь?
- Ага.
- Давай тут на берегу посидим, подождём. Он скоро приплывёт.
- Ага, давай. Только...
- Чего?
- Только пойдём сначала купим чипсы и будем тут сидеть, есть и любоваться, а?
Нюра улыбается. Её лицо не умеет сердится.
- Ах ты безобразница, а... Пойдём. Мечты детей должны сбываться.
Муся забыла про бобра, и они скорым шагом пошли к почте.
- И ещё, когда место себе на берегу будешь примечивать...- Сказала нравоучительно Муся.
- Примечать.
- Да, примечать...Ты...- Тут она залилась смехом, прыгающим и забавным.- Не сядь в гавно. Вон сколько травы- а ты обязательно не на траву, а в гавно сядешь, как в том году...И умудрило же тебя в коз...в козиня...в козячье...
- В козлёночье...
- Ага! В козлёночье...
Муся и Нюра рассмеялись на весь луг.
Проходя мимо Дома, Нюра остановилась.
- Мусик, представь себе, он помнит ещё графов-князей...Тут всё было по- другому.
Муся, открыв рот, глядит на яблоню, по которой скачут две белки. Трясёт Нюру за руку и орёт.
- Белки! Мама, белки! Вспомни, мамочкуя, мамочкуя же!!! Деревья отрыгивают белками!- И Муся начинает хохотать, закидывая голову и оттягивая Нюрину руку.
- О, белки, точно! Гляди, гляди, они, их две...Муся, это брат и сестра!
- Нет, это муж и жена! Это жена заблудилась в деревне, а муж её спасает. О...
Мам...убежали, мама...
- Ура, он спас её!!
- Урра!Он спас её!!!И они побегли к детям.
- Не побегли, а побежали.
Цветёт весна вдоль дороги сиреневыми старыми кустами. Коротко, но так, словно обжигает. Кипит сирень от ветра, налетающего на неё, оживляя её пышную стену. На яблонях розовеет цвет, трава свежа и мягка. Одуванчики сплошь вызолотили берега обеих речушек.
Муся бросается то к сирени, то в одуванчики. Они с Нюрой любят кататься по одуванчикам, а потом лежать в них, чувствовать через одежду прохладную свежесть молодой травы, и видеть над собою синее небо, облепленное свинцовыми белилами облаков.
- Как поверженные воины в поле...- Говорит Нюра.
Муся и Нюра лежат голова к голове.
- Ага, вот лошадь бы сейчас...- Шепчет Муся.
- И по одуванчикам...
- Мам. Знаешь, кажется, я слышу их плач...
- Кого? Воинов?
Муся закатывается.
- Чипсов!
Они снова идут по отчаянно зелёной траве, бьют под подбородки жёлтые цветы, сминают их, и глазеют по сторонам, чтобы лучше запомнить начало лета. Возле почты они останавливаются, Нюра поправляет Мусе косички, утирает её разрумяненные, словно всегда надутые толстые щёки, заглядывает под нос, чтобы почтарька ненароком не увидела, как неаккуратна Муся, втряхивает её в полурасстёгнутое пальто, присев на корточки.
- Муся, не болтай лишнего. Я знаю, ты это любишь.- Говорит Нюра нравоучительно, заглядывая дочке в глаза.
Муся, вскинув удивлённые и своевольные брови, поджав губы, плаксиво и капризно отвечает:
- Это ещё почему?
- Это потому, что никому не нужны твои рассказы.
- Как это не нужны?
- Очень просто, козлёночек мой. Не нужны и всё. Вот помнишь, как ты на первое мая всем цветы в Москве дарила?
- Ну, помню, мам.
- Это им тоже было не нужно. Ладно. Пойдём.
И Нюра поднявшись, взяла Мусю за руку и изредка поглядывала на её розовую шапочку с двумя висюльками на макушке. Поглядывала и горько улыбалась, вспоминая, как малявка набрала букет мать-и-мачехи и дарила по цветочку всем, кого встречала. Кто-то выбрасывал, кто-то совал в карман, кто-то, задумавшись, нюхал. Все улыбались, когда Муся, сделав своим упитанным телом неуклюжий реверанс говорила : "Пжалста, это вам!", останавливая мимо идущих прохожих, вручала по цветку в руки. Все брали. А Нюре потом было больно объяснять, почему Муськины цветы устилают их обратную дорогу.
- Мам! Они неловко потеряли мои цветы!- Кричала наивная Муся, трясясь от сожаления.
Не объяснить же ей, что людям этого не надо...
На почте было прохладно и пахло старой пылью, как во всех доисторических домах. Нюра вошла в холл этого необыкновенного дома, огляделась на стены, крашенные тёмно-зелёной краской. Муська уже стояла на цыпочках перед почтарькой, положив локти на прилавок.
- Какая ты стала большая...- Умильно морщилась почтарька.
- Да, раньше я была, как бэби-бон по размеру. А теперь большая.И ноги у меня не двадцать семь процентов от тела, а уже до полтела доросли.
- Да? В школу скоро пойдёшь?
- Конечно!- С ударением произнесла Муся.- И в школу балета. Я буду балериной, давить слабых балерунов, ну, тех, кто меня не сможет поднять.
Почтарька смеётся, прикрывая рот. Нюра, сотый раз слушая рассказ про балет, уже даже и не реагирует.
- Здрасьте.- Говорит она, снимаю шапку. - Вас, переселили наконец из вашего клоповника?
- Да...Здрасьте...Ну, а толку-то...Школу закрыли ведь.
- Зато теперь здесь места больше...-Говорит Нюра, оглядывая потолки с лепниной и подаёт платёжки.
- Наша бабушка не любит нашего нового папу. Она всё делает, чтоб разлучить его с мамой. Потому что он ей не нравится. А их нельзя разлучать они друг друга возлюбят. Они возлюбленные.- Выпаливает вдруг Муся.
- Маша!- Вскрикивает Нюра и, краснея, одёргивает дочь за плечо.
- Вот, вот так всё и выложит...ох, дети, дети,- вздыхает смущённая почтарька,- вы пойдите, поглядите, тут библиотека в левом крыле, пока я начислю...
Нюра, кивая головой, грубо утаскивает Мусю за собою. В коридоре она трясёт её за плечи.
- Муся, я тебе говорю , не болтай, глупышка!
- А чего я сказала? - Удивлённо ноет Муся.
- Говорила, предупреждала...
- А чего я сказала - то...сказала что вас...
- Муся!
- Ну ладно, ладно...- Покровительственно отвечает Муся, махнув рукой.- Буду держать язык за зубами...а то эта длинношеяя почтариха...
- Муся, молчи, пойдём, поглядим дом...
- Лысая...
- Муся, замолкни!
- Как бог черепаху изуродовал, так и её, этот же бог изуродовал...ха...ха...ха...
Нюра утаскивает за собой Мусю в прохладные переходы левого крыла дома. Потолки здесь огромные, через высокие окна льётся солнечный свет. Эркеры в три окна по обе стороны комнаты освещают шведскую стенку и стёртый до досок деревянный пол.
Муся, расстегнувшись и развязав шапку, выпрастывает две длиннющих косы и кружится по комнате, припевая.
- У них тут спортзал был. Видишь. окна за решётками...
- Зачем решётки ...мы вольные птицы...- Поёт Муся, кружась с шарфом и шапкой в руках.
- Лапушка, чтоб не выбить стёкла.
- Ну и нафиг эти стёкла...можно и выбить...мы вольные птицы...ля-ля...
- Муся, не ругайся!
- А я не ругаюсь!- И Муся танцует на цыпочках, обвивая шею косами и раскручивая их назад, переступая в своих розовых резиновых сапожках по истёртому полу.
- Розовые сапоги - я тебе купила? Какая пошлость...пойдём в библиотеку. Новеллу Матвееву возьмём... Помнишь, я тебе читала, про мышонка Тарасика...
- Не помню я никаких мышат!- Капризно отвечает Муся.
- Хорош крутиться, пойдём.
На выходе из "спортзала" , Нюра останавливается, оглядывая потолок, кое- где уже перерезанный трещинами и протечками. Лепнина в виде львиных голов и цветочных розеток пожелтела вокруг старой лампы дневного света.
- Порнография какая-то... - Фыркает Нюра.
Муся с уговорами покидает зал. Заглянув в библиотеку, со старыми и нечитаемыми ныне никем книжками, Нюра и Муся идут на почту. Почтарька уходит с ними, привешивая на двери своего дорогого ведомства амбарный замок. Нюра улыбается от умиления, берёт мягкую ладошку дочки и провожает старуху до выхода из палисадника, окружающего дом-школу. Но Муся не хочет уходить так скоро. Она решила пробежаться вокруг дома, позаглядывать в окна, увидеть с холма заднего двора, две реки, сплетающиеся в один серо-красноватый витой и блестящий шнур, бегущий сквозь море одуванчиков.
Муся заходит назад дома, где, между двух древних лип, обросших древесными грибами и наростами, на розово-жёлтой стене дома, висит кружевная кованая чаша балкона, вероятно, ещё начала века. Балкона, украшенного ампирными цветами и розами, вьющимися проволочными стеблями и переплетающимися сабельками изогнутых листьев.
Муся, обнаружив под балконом ещё один эркер, подпрыгивает, чтобы заглянуть в окно. Нюра тоже, поражённая заброшенности и нетронутости заднего двора, зачарованно обводит глазами вид, открывающийся с холма. Наверное те, кто жил здесь, были очень счастливы...Но теперь, окна цокольного этажа, наполовину скрытые землёй, где, видимо, была кухня и подсобки, смотрят обиженно и одиноко. Сам Дом, отвесив чёрную сетчатую губу балкона, будто удивлён и озабочен поведением людей.
- Мама! - Вскрикивает Муся вдруг, замирая, только руки её прыгают вверх-вниз, пальчики растопыриваются и глаза открываются широко и ужасно.
- Камушек прыгает!
Нюра, подойдя к среднему окну эркера, замечает едва заметное шевеление чего-то серого, в разбитом изнутри окне.
Над ними пролетают ошалело пищащие стрижи, чуть не задевая головы.
Окно разбито далеко вверху, на трёхметровой высоте. Там - маленькое отверстие от брошенного куска кирпича. А между стёкол - ласточка. Она прыгает, пытаясь подняться, кровавит грудку о разбитые, и упавшие между окон осколки, скальными изломами торчащие вверх. Конечно, ей не вылететь, она в этом прозрачном плену, а за окошком- весна, май, и друзья...
- Мам, что это? Оно двигается, оно там скачет, это пых, наверное...Пых, пойдём отсюда!
- Нет, это ласточка , она туда влетела случайно и застряла...
- Как? - В ужасе кричит Муся.- Достанем её оттуда! Она умрёт!
- Конечно, умрёт. Если её завтра не спасёт почтарька.
- Пойдём за ней!
- Ну, что ты, Мусенька, она уже уехала...она далеко живёт...Да, я и не знаю где.
- Мама!- Вскрикивает Муся и переходит на рёв.- Но ласточка же умрёт!
Нюра понимает, что сглупила, пытается отвести Мусю от окна.
- Пойдём.
- Не пойдём!- Вопит упрямая Муся.- Достань её.
- Я не могу!
- Что значит- не могу? Ласточка умрёт!!!
Нюра подёргивает плечами.
- Все умирают, Мусь...если попадают в такие ситуации.
- Нет, достань её!- Требует Муся и начинает топать ногами.
- Я не могу.- Твёрдо отвечает Нюра.- Пойдём, я приду вечером и выручу её. Тут нужно разбивать окно, нести стремянку, лезть через стекло...потом доставать ласточку.
Ласточка, увидев, видимо, движение и голоса, забилась в окне, стараясь изо всех сил подняться повыше, но снова безрезультатно упала выше уровня Нюриных глаз, в межоконный проём.
- Ты, правда, придёшь?
- Приду. А ещё быстрее откроется почта и её найдут и выпустят.
- Клянись, что так и будет!- Кричит Муся, хватая мамины руки.
- Клянусь. Так и будет. Пойдём в магазин, я тебе чипсы куплю.
Муся, опустив голову, всхлипывает.
- И чипсов перехотелось. Жалко...ласточку. Ну, ладно, её спасут, а ты всё равно купи мне чипсы, на потом. У меня изменится настроение и я их съем с улыбкой.
Нюра, внимательно глядит на дочку и уводит её из палисадника в магазин. Назад они идут грустнее, не глядя на золотой луг, полный цветов.
- Ты только бабушке не говори про то, что мы видели...- Просит Нюра.
- Почему?
- Ну, так...она начнёт своё говорить ...что я тебя вожу по задворкам...по стёклам...не надо.
- Ладно. Ладно, не буду...Гляди, птички летят, это наверное, возвращаются домой...
- Да, уже все вернулись с севера...
Муся всхлипывает, глазки её подёргиваются слезами и краснеют.
- Все, Да не все...Кого-то , всё равно не будет хватать. Кого-то всегда не хватает.- Говорит она.
Стрижи, двойками и тройками летают над лугом. Облака белы и крупны. К вечеру они затянут всё небо, пахнет дождём, а позади - Дом, розово-жёлтый, обиженный, обездоленный и пустой, глядит с холма побитыми окнами на слияние двух счастливых весенних рек...
Михалко
Скучно ему было одному на хуторе. До ребят идти с полчаса, а сейчас, перед школой все такие занятые - облитые, что и поиграть не идут.
Слоняется Михалко вдоль железнодорожного полотна, даже не прислушиваясь - идёт ли поезд. А осыпь на откосах краснеет листьями полуницы, которая, к досаде, уже отошла давно.
Не прошло и двух месяцев, как ребята здесь паслись и ели крупные, возросшие на припёке ягоды, с белыми рябинками на ярко-розовых щеках. И росли кругом свежие цветы июля, жарило ярое солнце.
Михалко вздохнул и свернул на тропинку, ведущую к дому. Заложив руки в карманы синих изношенных, вдрызг, брючек, загребая босыми ногами белый песок,и повесив голову на грудь, от тоски, добрался он до дома, залез на грецкий орех, росший возле двора, сел верхом на самую толстую ветку и стал, болтая чумазыми ногами, рвать орехи, которые росли и справа, и слева, и со всех сторон.
Из хаты разносилось сипловатое пение матери, хлопочущей над опарой. Отец бранился на прирезке на троих буро - белых коров. Воробьи с диким писком штурмовали кусты дочиста обнесённой, и без того, черноплодки.
Думал Михалко о том, что здесь он, на хуторе , теперь хозяин, и прислушивался к звукам вокруг себя,но, ничего чужого не слыхал, и не видал с высоты ореха. Дальний гудок паровоза, хлысты пастухов, выстрелы в дальнем лесу. Видно, лося гнали.
А орехи всё падали в траву под висящим Михалкой, сыпались чудесными зелёными градинами в высокую траву.
Мать поёт про гусей, и от этого даже отец перестаёт браниться, подходит, садиться возле двора и закуривает. Всё это видно Михалке. Видно, и как вокруг отца собираются молодые цыплята, больше половины из которых- петухи, и они начинают вставать парами друг напротив друга, и, как по команде топорщут перья, нос к носу приближаются, и, будто пляшут.
На то отец глядит долго, пускает неторопливо папиросный дым, а потом, шугает цыплят, страшно ругаясь. Но те снова сбегаются к его ногам, потому что отец Михалкин - их своими руками кормит, и они его почитают за хозяина. Снова начинается петушиный бой.
- А ну, пошли, ссукины де-ти! - Кричит на них отец и не зная, что в них запустить, вынает изо рта вставную челюсть и кидает в самую гущу петушиных сражений.
Михалко трясётся от смеха на своём дереве, подняв плечи, но тихо, чтоб отец не услыхал.
Мать высовывается из дверей, вытирая руки рушником.
- Чого ты богуешь, старый, иди в хату, с жары...
Михалкина мать уже старая баба. Родила она его ни с того, ним с сего, на пятидесятом году, и оттого он у них с отцом- отрада. Всё ему позволено. Старшие давно разлетелись. У некоторых уже свои семьи и даже, свои дети, а он, Михалко, тут теперь один.
Матушка с детства хроменькая, неграмотная, носит под правой туфлей деревянную плашку, в два пальца толщиной. Но красотой была не обделена в молодости. Настоящей красотой, природной, чёрными бровями, волнистыми косами, лицом смешливым и вечно удивлённым, что панам, на которых она работала ещё до революции, казалось, будто она их всегда на смех поднимает.
И ничему-то она не научилась- только шить, да родила четверых детей.Отец Михалки взял её хромую замуж, оттого и терпела она всё от него, но это было перед тем, как родился их последний сынок. Теперь мать, уставив руки в боки и грозно поведя бровями могла на отца так рявкнуть, что у того шкура на загривке заворачивалась и он убегал "выпить с горя" к сестре, которая, вообще, мужа называла только : "оно" и никак иначе.
Словом, возвращался отец всегда добрый.
А вот теперь Михалке семь лет. И пора ему в школу. Ездили они в город на базар, и купили там - неслыханное дело - ранец жёлтый, кожаный. Отец работал на заводе, слесарем, ездил на велосипеде через лес, каждое утро по двадцать километров, десять на работу - десять с работы, но он уж не поскупился. И новенькая форма, и фуражка синяя, и башмачки, и всё - превсё купили они на базаре, снарядили, значит, сынка в школу.
Только сыночек характером дурён изрядно. Беззаветно верит он людям, сколь дик он, столь и чист душою, наивен и доверчив, и страдает вечно от грубых и порою нечестных помыслов других людей.
Это потом Михалко вырастет, станет сильным, красивым, в моряки пойдёт, и будут его звать даже в телохранитель к генсеку, и поглядит он на сопки и вулканы Камчатки, и будет морским пограничником на самом Тихом океане, он, что сейчас свистит себе дыркой в зубе и ест орехи, мараясь и болтая ногами.
Но то будет после, а нынче Михалко от скуки млеет, злится, что знобит уже вода в озере, что росы по утрам холодны, что травы постарели, да перестал козодой кричать. Через неделю ему в школу.
Эх, и боится же он! Людей новых, "училок" с пуками седых волос на голове, да в очках, а сквозь очки - уф, ужас, змеючные взгляды! Глядит недоверчиво Михалка на стопку тетрадок, приготовленных к школе, открывает их с ужасом, что, неужели сможет тут, на полотне этом чистом, накаракулить буквы, наставить знаки всякие арифметические...
Страшно ему и перед чернильницей в кожаном мешочке - непроливайке, и перед серебристыми перьями на длинных красных черенках, и перед учебниками, что выдали в школьной библиотеке...
Недоверчиво он поглядывает на форму, висящую на спинке стула в спальне родителей. Слюну глотает, чуя, как будет хорош, одевая башмачки с полулунными пряжками по бокам, а пуговки на пиджачке блестят, как на офицерском кителе!!!
Всё это школьное богатство перенюхал, перелистал, переболел каждым учебником Михалка, прощаясь с детством. И не раз прошибала его слеза от трусости, что не одюжит он всю эту науку...
Но до школы ещё неделя, а он устал думать, про будущее загадывать. Устал мозгами ворочать, кому из ребят первому в нос дать, чтоб уважали.
Вернулась к нему ненадолго шалость прежняя, детская...
Мать решила нынче пироги печь. Михалка с отцом толкли ей сушку, мак в ступке. Михалка побежал перья искать в птичнике , чтоб пироги огладить маслом, чтоб порумяней были, покрасивше. Отец натолк мака и ушёл в лес за вишеньем, чтоб рубить к вечеру гуску, посмолить его над соломой и вишнёвым дымом , отметить Первое Сентября, завтра, торжественно.
Мать снова поёт, Михалка тесто сырое крадёт из - под её рук и ест.
- Чяго тебе угомона нет! Вот кишка с кишкой слепится, придётся тебя вниз головой подвесить и трясти.- Кричит на него мать. - Лучше иди, поиграй.
Михалко выплёвывает довольно большой кусок теста, глядит на мать изумлённо-ужасным взглядом , обтирает рот от муки, и идёт в дом.
В доме всегда чисто, светло. На кроватях пирамиды из подушек и подушечек. Подзоры свешиваются. Кругом разложены вышитые салфеточки, телевизор тоже покрыт огромным цветастым полотенцем.
Тканые тряпичные дорожки, как взлётная полоса тянутся от самых дальних комнат, до порожка кухни. Слева у входа печь, справа - комнаты из коридора. Их три, самая большая - зал, он как холл, открыт и соединён с кухней.
Михалко, чтоб слышать мать и не скучать, зажав язык между зубами, закатывается под кровать, в уютный уголок, на красно-зелёный рубероид, которым покрыт деревянный пол. На этой кровати только гости спят, да иногда отец, она здоровенная, железная, с шарами, с сеткой, на которой никому никогда не дают прыгать, как назло. При каждом движении на этой кровати раздаётся такой истошный скрип, что, кажется, снаряды летят, особо, среди ночи.
Тут у Михалки свой тайный штаб. Над ним, высоко, деревянная рама матраса , с набитой на неё тканью, проложенный не то соломой, не то паклей, не то конским волосом, древний, словом, матрас. А когда пальцем ткнёшь между секторами сетки, матрас мягко перемнётся, шуршнёт чем-то неведомым. А поверх возлежит огромная перина , такая полукруглая, возвышается прямо на полметра над кроватью, словно, в самой кровати кого-то зарыли и сверху прикрыли одеялами и покрывалом ещё. Михалку бранят, если он мнёт перину.
Зато здесь его никто не видит и не слышит. Он часами курлыкает себе под кроватью, привязывает кошку на верёвку за шею, и она становится его сторожевой собакой. Михалко сюда ещё весной притащил транзистор, и теперь тот лежит аккуратно по винтикам и шпунтикам разобран.
Кое какие шестерёнки и кнопочки висят на сетке, болтаются, а Михалко с недавних пор новую забаву себе нашёл. Берёт, тихо, спички у отца, и поджигает пыль под кроватью - там её тьма, как в Кощеевом царстве. Царевну он сделал из кукурузного початка, прилепил сверху кукурузные -же "волосы" и в самый дальний угол, за скелет разобранного транзистора спрятал. Теперь, когда мать слышит вой из-под кровати, она уже знает, что там Михалко с Кощеем воюет, царевну освобождает.
А уж паутины-то сколько! Михалко, выложив зубы на нижнюю губу, с усердием зажигает спички и делает "зачистку местности". Вот теперь он устроит паукам и кощеям и всем бабаям, будут знать, как царевен похищать! Жжёт клубы пыли, жжёт паутину, то там, то тут, а эти клубы и заросли вспыхивают красно-жёлтыми искорками, пыхают, и, мгновенно гаснут.
Но матрас, скрывающий Михалку от глаз родителей, вдруг , под спичками стал расходится, и мальчик увидел опилки, спутанную паклю, и ещё долго бы так в удивлении смотрел, как растёт пятно, расширяется, тлеет, и запах жжённых перьев и пакли наполняет подкроватное убежище.
Михалко вылезает из под-кровати, с круглыми глазами. Он бежит к матери, которая уже вышла во двор кормить цыплят, а потом поворачивает сразу назад, поглядеть, как там матрас. Потом снова к матер, мнётся, теребит курточку.
- Мам! Маманя...- Пытается сказать он.
- Шо? Цып-цып...- Отвечает мать, призывая цыплят.
- Маманя, это, там, там это...матрас.
Мать занята цыплятами. Михалко бежит снова в дом, глядит, что в хате дым, и, уже не жалея своего зада кричит с порожка:
- Маманя, тут горит чо-то!
Мать сразу выпрямляется и видя Михалку в дыму поднимает визгливый крик.
- А! Рятуйте! Хата горит!
В это самое время отец идёт из лесу, неся за спиной связку хвороста. Михалко и мать бегают со двора и ищут ведро, чтоб залить пожар. Отец бросает хворост, прыгает через забор и несётся во весь опор в дом. Кровать уже пылает, на ней пылает пирамида подушек и подушечек, тлеет подзор, а железные шары цветут апельсинами в огневом зареве.
- Клята детина!- Орёт отец, и, схватив кровать, отрывает её от своего извечного места, и с силой выталкивает прямо на двор. Кровать со страшным грохотом дребезжит по ступенькам и влетает в самую гущу цыплят. Отец начинает гасить тлеющий коврик с красной шапочкой, что занялся от перины. Потом, выходит во двор, откашливаясь от дыма.
Михалко среди двора глядит, как дотлевает матрас и всё снаряжение. Мать, нависая над ним, уперев руки в колени, кричит так, что яблоки с деревьев падают, но только лишь замечает отца, как выпрямляется, оправляет фартук и закладывает руку за руку.
- Ну, пёсья травина, чортово семя, шоб тебя гриц взял, давай штаны скидай.- Говорит отец Михалке, шлёпая себя по ладоням сложенным вдвое ремнём.
Отцовы штаны медленно съезжают, Михалко молча расстёгивает свои, надувает губы и ревёт.
- Я те дам, я те щас задницу-то распишу почище твоего чистописания, завтра пойдёшь с готовою домашней работой, пусть тебе пятёрку поставят.
Михалко ревёт всё громче, мать тоже начинает подвывать, сложа ладошку лодочкой и закрыв рот. Но отец бьёт несильно, а как всегда, больше, чтоб стыдно, да неповадно было.
Спали на сеннике все вместе, дома нечем было дышать из-за смрадного духа горелого пера. Михалко проснулся ещё затемно, побежал в родительскую спальню, вынес оттуда школьную форму, и до солнца разглядывал её стоя, ходя, пытаясь, конечно, присесть, что было невозможно в его теперешнем положении. Хотел и её поджечь, чтоб в школу не идти, боязно было ему, страшно...Но потом передумал, вернул форму назад и пошёл досыпать обратно, до положенного времени.
Серый Свет.
Казалось тогда, что нет никого счастливее в деревне. Но только сами виновники это скрывали, и о том было известно им одним. Да, наверное,так и было бы правильнее, чтоб оградить себя от лишних разговоров и сплетен. Светка приехала из Питера на лето, Серёжка вообще сюда случайно попал, но, как бы то ни было, они встретились. И , оказалось, не напрасно.
Никто и не думал, что вообще это возможно, что приедут в эту глухомань на это озеро, залётные питерцы, купят дом, и даже останутся жить. Светка полагала, что и она останется...Но уж родители - точно. От постоянной городской влажности они часто болели, а когда приехали сюда, в бор, на озеро, стали веселее и озабоченнее. Дом был куплен старый, его нужно было до ума доводить, печь новую выкладывать, обивать его вагонкой. В деревне народу, тогда, жило ещё, довольно много, и самым поразительным было то, что в ней был дом-интернат для душевнобольных и инвалидов детства.
Все деревенские кормились с этого, пользуясь тем, что есть работа и место где можно безнаказанно брать и брать. Директор интерната развёл вокруг себя целый гарем из санитарок и поварих, и всех их кормил, периодически меняя своих фавориток. Сколько было боёв и страданий из - за любви директора, которого называли "Зина", по фамилии. Но тот был не промах, и просто красавец - громадный, лысоватый, с начинающимся животиком с большим носом и добрыми, голубыми, всегда мутными от самогона глазами, глядящими цепко и соблазнительно. Девки , да и просто бабы, млели от Зины.
Светкин отец, будучи человеком коммуникабельным и ловким, моментально с ним подружился. Мать часто кормила пьяного Зину и отца только что пойманной в озере рыбой. Они вместе ходили на охоту, вместе бражничали, вместе чинили машины и трактора. Родители Светки быстро нашли себе компанию, правда, оставаясь при этом интеллигентами, не пия и не куря помногу, но всё услышанное , мотая на ус.
А вот Светка пугалась местной молодёжи - грубой и неотёсанной, вечно пьяной и обкуренной. Она ходила, сначала одна, и недалеко от дома, потом, нашла себе подругу Таньку Зелёнку, соседку. Толстую, румяную девку, весёлую и вечно хохочущую.
С ней никто не дружил, как казалось Светке, только она не знала, почему, а сама Танька ей не говорила. Да и что там говорить - Танька была самой заядлой местной шлюшкой, только Светке же она не признается в этом... Лишь спустя какое-то время Светка узнала, что к соседке всё время кто-то ездит, что её всё время куда-то возят, а потом привозят, или приводят.
Светка думала, что это общение уронит тень на её репутацию среди деревенских, но всё таки, старалась не обижать Таньку и однажды случайно познакомилась у неё с братом и сестрой, с Мариной и Сергеем.
Она с детства любила природу , и, как только выбиралась с родителями за город, тут же уходила одна подслушивать и подглядывать за другой жизнью. Она видела красоту внешнего так же ясно, как и красоту внутреннего, тонко и чутко относясь ко всем звукам и отзвукам, к цветам и оттенкам. Из - за этого ей никогда не везло с друзьями, видно, она была полна сама собой и тем самым не растрачивала собственную красоту, которая от неё во все стороны исходила, как сияние от солнца. Даже будучи не очень привлекательной в юности, теперь, к двадцати годам Светка набрала такое лучезарное цветение, что идущие мимо люди заглядывались на неё невольно. Парни боялись подойти к ней, к гордой, высокой, осанистой, быстрой. Она повелительски глядела на них, думая, что этим не испугать, но напрасно...Сильных попадалось мало, а тех, кто хотел бы её любить- и вообще не находилось. Потому что она была слишком яркой и недоступной, как далёкая звезда на чёрном небе.
От этого одиночества в себе, Светка истомилась. Но её весёлый и лёгкий характер, словоохотливость и воспитание, помогало ей в любой обстановке найтись и зарекомендоваться. Свои яркие рыжие косы до пояса, она убирала под панамку, скручивая их жгутами, на зелёные пронзительные глаза одевала солнцезащитные очки. На крепкие и удивительно стройные ноги набрасывала длиннющую, в пол, юбку, и старалась ходить босиком. Чтобы не особо отличаться от деревенских и среди них быть в своей тарелке.
Конечно, после этого, сравняясь с целым миром и растворяясь в нём, можно было и желать общения. И она его нашла.
Марине едва исполнилось четырнадцать. Сергей - ровесник Светки. Они стали её друзьями ближе к маю...На Марине лежала обязанность приглядывать за пятилетним братом Славиком от второго материного брака, и она несла эту обязанность как истый крест. Славик был нервный, худой, вечно голодный, как, впрочем, и вся их семья. Их фамилия была- Вороны, и они сами были подобны стайке ворон.
Мать Элла, прежде красавица, родом из Одессы, приехала сюда по объявлению, выходить замуж, с двумя детьми. Как оказалось, будущий муж- инвалид из интерната, а денег на обратную дорогу уже не было. Элла устроилась работать санитаркой в этот печально знаменитый "дурдом", да так и завязла. Замуж, правда, не вышла, Зина пожалел её, дал комнатку для неё и детей. А Элла, будучи городской и расфуфыренной, вскоре нашла другого мужа, скотника Славу. Слава вскоре забрал её из интерната к себе в дом. Серёжка, заканчивал тогда седьмой класс, бросил школу, чтоб работать в наймах. Маринка протянула до шестого класса. Больше её никто держать не стал.
Дядя Слава оказался страшным тираном, но уже не воротишься назад- оплёванной и жалкой. Элла родила, высохла, потеряла свою красоту, и стала в тридцать семь мет старухой, с палкой. Она горько глядела на людей, вздыхала и думала, на что уехала из Одессы, шалого и горячего города, в эти страшные места...Конечно, она понимала, что загубила жизнь не только себе, но и детям...Но судьба есть судьба.
Серёжке нужно было как то кормить себя, сестру и мать. Он с тринадцати лет отчаянно работал где бы то ни было - на лесоповале, на скотном дворе, летами- пастухом, резником на ферме. Копал, пилил, таскал, нанимался. За любую работу брался, никогда никому не отказывал. А когда разжимал дома чёрный кулак и глядел на то, что ему заплатили, плакать было уже поздно, расстраиваться- бессмысленно, а новое утро начиналось с упрёков дяди Славы и рёва побитой матери.
Как только Сергею исполнилось восемнадцать, дядя Слава перестал на него замахиваться, приутих. Понял, что перед ним уже не безответное дитя, а настоящий взрослый парень, жилистый и сильный. Несмотря ни на что, ни Марина, ни Сергей никогда не ругали мать. Такова была её воля- вот и получили по полной.
Светка же, накануне покупки дома, закончила театральную студию. Получилось всё гнусно из-за распри между режиссёрами, которые состояли в браке. Студия развалилась за месяц, и все чаяния, связанные с этим, потухли, пропали как то резко. Будто, выключили свет и вместе с ним- всё. Светка осталась в темноте. Не знала, что делать. Помощи просить, продаваться - не её дело. И она решила подумать в тишине, найти альтернативу. Воскреснуть.
Она с удовольствием помогала родителям доделывать дом, потом, они купили лодку, и Светка быстро справилась с вёслами, стала пропадать на озере, уплывая далеко - далеко. Озеро, посреди которого лежал поросший кустарником и небольшими деревцами остров, стал её любимым местом. Порою, она сидела в лодке, возле берега его, глядя на распускающиеся белые лилии, словно, восковые над чёрной водой...И тяжёлый плеск рыб, и пролетевший прямо над ней аист -черногуз так забавляли её, столько восторга вселяли в сердце!
Ешё она вспоминала своих однокурсников, которые все поступили в театральный институт. Свою первую влюблённость, друзей и подруг, которых теперь уже не достать. И с горьким вздохом, притрагивалась к вёслам, толкалась от берега и уплывала в деревню. Всё, прошла юность. Но впереди - ещё целая жизнь!
В мае, у Таньки, она впервые увидела Сергея. Отмечали Танькин день рожденья, все были пьяны. Двор стоял нараспашку - заходи кто хочешь. Светка и зашла. В доме, украшенном только железными кроватями, да самоткаными половичками, был накурено. За столом сидела Танькина мать, брат Андрей и отец. Сама виновница торжества спала на кровати тут - же, по-детски, подложив под толстую щёку ладошку.
- Ой, прямо - лялечка спит!- Сказала Светка, войдя.
Тут же, её взял конфуз,из-за того, что все вокруг чуть ли не мычали с перепоя, и она повернулась, чтоб уйти. Андрей, здоровенный бугай, красный на лицо, легонько остановил Светку за плечо.
- Выпей, Свет. Давай, выпей. Сейчас Вороны придут, всё выпьют.
Родители загоготали. Светка мотнула головой.
- Нет, я ж не пью. Я пойду. Мне надо.
Андрей что-то говорил вслед ей, что-то печальное, но Светка уже подошла к воротам и столкнулась с Сергеем.
Сергей почти бежал, он был в майке, а ростом - одного со Светкой. Поэтому она сразу же, ни во что- нибудь упёрлась взглядом, а в его глаза, отчаянные и такие же зелёные, как и у неё самой. Они потоптались, уступая друг другу место, чтоб пройти, Сергей, будучи уже нетрезв, протяжно сказал "Оооо" и словно делая реверанс, обогнул Светку и побежал к распахнутому дому Таньки. А Светка пошла домой как-то обиженно и грязно чувствуя себя...
Вечером, в окно веранды, где спала Светка, постучала Танька. Она была совсем пьяна и висела на чуть менее пьяном Сергее.
- А мы решили паженится...Вот. Мать против, конечно...но я - за...- Сказала она, помаргивая глазами.
- Поздравляю.- Ответила Светка скрипучим со сна голосом и захлопнула окно.
До утра она уже не заснула. Предчувствие мучало её. Странное, нехорошее.
Утро следующего дня выдалось мутным и холодным. По дороге прогнали коров, Сергей, нащёлкивая своей громогласной пугой, пронёсся на молодом жеребце под её окнами. Он свистел, хлопал, конь фыркал и топотал. Коровы натужно мычали, ускорялись под щелчками. Сергей, крикнув : "Геть, геть,но..." пролетел по улице. Светка подпрыгнула на кровати, едва не задавив спящего в ногах кота.
Мать с отцом уже были на огороде, а она в это время всегда ещё спала.
Лениво поднявшись, Светка заплелась, оделась, включила магнитофон и пошла искать завтрак. Мать уже приготовила , на плите стояла еда, горячая, масло плавало в манной каше.
Светка поела. Ради приличия, заглянула на огород, спросив, не понадобится ли её помощь, и возрадовавшись, что нет, ушла в лес. Одна, как всегда. Но Танька нагнала её.
После вчерашнего она была страшна до безобразия.
- А мы так надрались...Незнаю, как Серёга на работу- то пошёл.- Говорила Танька, повисая на Светкиной руке.
- Да уж ,вроде проехал. Я слышала.
- Прикинь, замуж предлагал...А мать моя говорит - у тебя, говорит, одни портки, кому ты замуж предлагаешь?
- Может , он любит тебя...причём же здесь портки?
- Любит!- Заржала Танька.
- Незнаю, мне кажется, замуж нужно только так, по - любви.
- Ох ты и малохольная!- Взвизгнула Танька.
Тогда Светке захотелось впервые нахамить, но она сдержалась.
- Мне кажется, Сергей хороший. Выходи за него, вы будете счастливы.- Сказала она серьёзно.
Но Танька снова засмеялась...
Лето выдалось жаркое и влажное. Утром, до обеда, жара нестерпимая. После обеда короткий дождь, а к вечеру- снова жара. Светка маялась. Сергей ходил мимо её дома, к Таньке, руки в карманы, приподняв воротничок олимпийки. Его совершенно золотые волосы, хулиганская походка, вечная сигарка во рту так возбуждали Светкино любопытство, что она, взяв кота на руки, тёплыми вечерами стала выходить из дома, садиться возле палисадника и ждать Серёжкиного возвращения. Она сидела, он, проходя мимо, коротко говорил: "Привет, Свет" и шёл дальше. Она отвечало масляно - Привет - и провожала его взглядом. Руки в карманах, сапожки на ногах, стройная его фигурка на зелёном фоне лесной улицы...
Однажды, Светка, всё так же, с котом, держа его на руках и гладя, дошла до последнего дома на улице, который стоял почти в лесу. Из двора выскочила Маринка, тонконогая, улыбчивая, стала виться вокруг Светки.
- Ой, какой котик, какой котик! А Серёжка тут косит! Пойдём, тут никого, тут малина, смородина, пойдём!
И она увлекла Светку на двор. Светка, ходила по двору, искоса поглядывая на Серёжку, который был до пояса раздет, а голова прикрыта банданой. Он только так укладывал ручку за ручкой своей сереброзубой косой- литовкой. Спина его лоснилась от пота, он через плечо, пускал дым сигарки и поглядывая на Светку улыбался так лукаво, что ей становилось не по себе. Вдруг, Сергей бросил косу и отошёл в густые кусты смородины.
Мошка столпами вилась в вечернем воздухе. Лучи солнца пронизывали облака на западе. Комары, как сбесились. Кот Светкин давно убежал, а она, сидя на корточках с Маринкой, ковыряла прутом кротовью нору посреди двора. Хозяева уехали, а Сергей часто тут протапливал зимами печь и косил двор. За это они ему платили.
Вдруг, солнце зашло, хотя, это просто Сергей, выйдя из куста, подошёл к девчонкам. Светка встала. Опять её глаза оказались на уровне его нахальных глаз. Чиркнув взглядом, она успела разглядеть его черты лица- тонкие и благородные, чёткие губы, ровный ряд белоснежных зубов, ещё молодых. Сергей протянул ей руку, на которой лежали крупные смородиновые ягоды. Пальцы у Сергея были длинные и хваткие, смородина в ладошке - чёрная...
- На, это тебе.- Сказал он.
У Светки зачесалось в животе. Кровь ударила в голову. Она подошла и стала губами собирать с его руки смородину. Сергей на это смотрел, не отрываясь. До того, что когда смородина кончилась, он бросил руку, словно, она занемела, и почти побежал к брошенной косе. Минут пять он её оглаживал оселком, не поворачиваясь к Светке, которая буравила глазами его голую спину. А потом, когда он осмелился повернуться, увидел только косы, упавшие вдоль её спины. Она сняла свою дурацкую белую панаму и шла прочь...
Утром, проснувшись, как обычно, около одиннадцати, Светка увидела, что по огороду скачет Сергей и отец. Они полят картофельные гряды. Светка растерянно спросила мать в чём дело.
- Сергея наняли, пусть поможет. -Ответила мать.
- Зачем ?- Испуганно спросила Светка.
- Больше ж некому.- Язвительно заметила мать.
Вечером, когда они закончили и вернулись во двор, Сергея посадили за стол, вместе с отцом, есть борщ. И Светка старалась есть, но её кусок не лез в горло. Она глядела, как их новый работник уплетает, как посверкивает своим русальим взглядом из под ресниц...А сидеть рядом надо было, чтоб...не заподозрили...
За Сергеем следовало запереть калитку и послали Светку. Они молча дошли до калитки, он вышел, помял в руках край футболки.
- А...это, давай завтра в лес сходим...я тебе белок покажу.
Светка глянула на него быстро, покраснела.
- Давай, сходим. Белок- так белок.
На другой день, в обед, когда родители спали, они ушли в лес. Так, чтоб никто не видел и никто бы не мог распустить сплетни. Лес был пуст.Они шли рядом, боясь дотронутся друг до друга, но когда нужно было переходить через огромные лужи на песчаной дороге, Серёжка легко хватал Светку и переносил её. Чуть осмелев, они бросались друг в друга листьями, прятались за деревьями, валились на мох, и так лежали молча, не трогая друг друга.
Тогда они и не думали больше ни ком. Каждый день ходили в лес и весь лес слышал их смех .Оба босые, не боясь ни змей, ни клещей, ни комаров, они купались в тепле проходящего лета. Однажды, возвращавшийся на велосипеде из посёлка Танькин отец, увидев их вместе крикнул - о, у вас любовь что ли, - и Светка ужаснулась.
Или было озвучено то страшное, что есть на самом деле, а страшно оно тем, что...несбыточно. Зачем, зачем он так сказал...
Неделю они не виделись с Сергеем после того, а как встретились снова ,уже пришёл июль.
Первую неделю лили дожди. Приходя купаться на озеро с Танькой, Светка осторожничала. Но тут же, откуда ни возьмись, прилетал Сергей, на своём карем жеребце, влетал в воду, рассыпая её стеклянистыми брызгами, кружил вокруг них, и купал коня, а потом, вскочив на него, без всякого седла, босыми пятками гнал его на пастбище, оставляя Светку в смятении. А сердце её тосковало.
Все, а особенно Элла, уже были в курсе того, что Сергей влюбился в Светку. Он не умел этого скрыть. Если она могла - то он никак. Он ни дня не мог прожить, чтобы с гиканьем и хлопаньем пуги не пролететь мимо её дома и не забросить через забор огромный букет цветов. Каждый день родители удивлённо перемигивались, когда Сергей приходил к ним работать с цветами "для Светика" и она едва держалась от своих тяжёлых мыслей, понимая всю глупость и несвоевременность происходящего.
В середине июля приехала погостить сестра с мужем. Та, была красивая, пышная девица. С мужем они вместе десять лет, всё у них славно, только детей нет. И, увидев Светку однажды в плохом настроении, сестра наехала, выругала её. Светка, не стерпев, огрызнулась.
- Да что ты вообще о жизни знаешь, если тебе уже двадцать - а ты старая дева!
Светка задохнулась о гнева, упала в подушки и заревела. И зачем она так сказала- неясно, кусать так больно, так обидно...
Вечером, когда подпитый сестрин муж устроил литературные чтения во дворе, Светка, одев отцову телогрейку вышла в палисадник. Стучали слова в голове, родители и сестра смеялись над Швейком, а Светке было не до смеха. Стемнело и пришёл Сергей. Пришёл- зачем? Ведь не звала...Пришёл, тоже, в телогрейке, ибо- ветер поднялся сильнейший.
Заглянув во двор, Светка сказала матери, что она пойдёт погулять с Сергеем. Ненадолго. Мать позволила. Они ушли. Ушли, а как только осталась позади деревня, он взял её за руку и повёл на берег.
Ветер рвал деревья во все стороны...Они стонали и гнулись, особенно над озером, где, казалось всё рычит ,от какой-то дикой свистопляски. Небо было густо и тяжело, нависая, будто, над самыми головами. Волны озера, летели барашками прочь от берега. Обнажая низкую песчаную отмель. Сергей держал Светку за руку так крепко, словно боялся, что и её оторвёт. Огонёк его сигарки раздувался ветром и гас, и снова горел красноватым глазком возле его сомкнутых губ. Светка едва могла различить его хитро сощуренные глаза, когда он брал докуренную донельзя сигарету двумя пальцами- большим и указательным, выпускал назад дым, но так и не поворачивал к ней головы, глядел только на озеро.
- Пойдём, где-нибудь посидим от ветра.- Сказала робко Светка, перебирая рукав Сергея обеими руками. - Я тут боюсь.
Сергей, так же молча, повернулся к лесу и пошёл, ведя её за собою, а скорее- увлекая. Так скоро он шёл. Но лес был ещё страшней, ещё сумрачней. Весь шумел жутко и глухо, всеми соснами и ёлками, всеми деревьями сразу.
Они шли по дороге, которая делила лес на участки против пожаров, и ноги Светки утопали в мягком песке. Вдруг, темнота стала разреживаться, растекаться, и из-за клочковатых облаков, белых и серых, показалась яркая луна. Она осветила всё кругом металлическим светом. Серым светом, похожим на призрачный дымок, проникающий всюду. Сергей остановился на другом краю озера, пройдя лесом. Слева белел карьер с судорожно вцепившимися в песок соснами, падающими то и дело вниз, в тридцатиметровую круглую чашу самого карьера. Справа- лес вострился чёрными елями, а впереди лежало, уже, несколько спокойное ,озеро. И луна убегала по нему зыбкой и мельтешащей дорожкой. Где была деревня, где был дом, люди,мама - Светка уже не знала.
Сергей развел костёр от сигареты, хвоя пыхнула, лёгкое пламишко, как белая бабочка, заметалось над кучкой хвороста, которая откуда ни возьмись взялась в костре. Сергей, метнувшись в сторону, принёс дров и палок, наломал их и насыпал в разгорающийся костёр. И ветер, словно, сломленный этим неожиданным огнём затих и смялся. Тишина охватила лес. Луна ярко встала над озером. Серый свет её разлился, жаждая затопить всё кругом.
Светка сидела под молодым дубком на Серёжкиной телогрейке, глядела на озеро, на луну, на самого Сергея, который деловито хлопотал над костерком, прикуривал от горящей головешки. Светкины косы были закручены в два жгута и лежали вокруг головы коронкой, клетчатая рубашка, заправленная в джинсы, и телогрейка накинутая на плечи казались возле костра совсем ненужными. Светка встала и пошла к воде, оставив Сергея одного на берегу. Потрогав озёрную воду, уже успокоившуюся, она улыбнулась, зачерпнула ладошками и плеснула на лицо. Сергей глядел на неё, а о чём он думал- нельзя было предположить. Возможно, тем моментом он просто жил и наслаждался, не думая совсем о том, что будет дальше. Вёл он себя, во всяком случае, как неразумный юноша, а не взрослый мужчина, каким хотел бы казаться для Светки.
- -Пойдём, купаться?- Предложила она коротко.
- Нет...
- Почему?
- Ты замёрзнешь потом...
- Думаю, что нет...
- Лучше иди к костру.
И Светка подошла. Потом, села рядом с ним, а он зашёл за её спину и стал возиться с заколками и шпильками, над её косами. Мурашки побежали между лопаток у Светки, особенно, когда обе косы уже упали на спину, расплетённые и какие-то беззащитные.
- Ты красивая. Ты даже, наверное, не знаешь, какая...- Сказал Сергей, садясь напротив неё.
- Почему- знаю. Мне говорили.
Сергей смутился.
- Я - не говорил.
И поглядел на неё смутно и горячо, что только дым не пошёл из глаз его.
Светка вдруг поднялась, стала подходить к нему, расстёгивая рубашку, джинсы. Откидывая назад завитые в косах волосы, которые в свете огня стали красными.
- А ты готов? - Спросила она. Ложась прямо на тёплую хвою и шишки, обвивая его шею белой рукой.- Ведь ты первый у меня, знай это.
Сергей ничего не сказал. Он только молча стиснул Светку в каком-то совсем отчаянном объятии, которое она не смогла разорвать.
Два дня он не приходил, а потом появился к вечеру. В глазах у Светки был какой-то страх, и любовь...Она тоже была...Они пошли в тот дом, где Сергей топил печь по зимам, а там было холодно. И воздух был сыр и пах пылью, старой пылью изо всех углов. Судорожно обнимаясь, они несколько раз падали на пол, вставали, и снова падали, целуя друг друга больно и горячо, Светка впивалась ногтями в Сергеевы плечи, оставляла красные дорожки на его спине, и ночь прошла, и началось утро, а они всё жалели расставаться.
- Что же мы делаем?- Спрашивала она, но не его, а кого-то, кто был сейчас над ними.
- Я тебя никому не отдам, никому...девочка моя, родная...- Говорил он глухо, зарываясь в её волосы лицом.
И всё-таки приходилось скрывать всё. От начала до конца. Для других - они просто дружили, ходили в лес, плавали по озеру в лодке. В лесу - прятались в ложбинках от грибников, и там, подолгу сидела Светка на коленях Сергея, гладя его губы пальцами, глядя в его зелёные изумрудистые глаза, глаза маленького принца, заброшенного в этот мир откуда-то с другого света.
- Когда-нибудь ты вспомнишь, что я любила тебя просто. Как человека...Как голого, без имени и места, без печатей и росписей...- Говорила она про себя, глядя на него.
- А я тебя буду любить всегда.- Отвечал он вслух.
И лес подставлял все свои пески и хвои для их объятий, а озеро качало их на волнах, когда они обнимались в лодке, бросив её у острова без вёсел, забыв, что подглядят цапли в камыша и лилии, уже начавшие темнеть в студенеющей к осени воде.
Неумолимо катилось к закату лето. Светку вызвали в Питер. Надо было поступать в институт.И правда, лучше немного позже, чем никогда. Она наскоро собралась, и с Сергеем прощалась скупо и жёстко.
- Возвращайся скорее, моя милая девочка. Мы поедем в Толпино, я пойду работать в колхоз, нам дадут дом, и ещё...у нас будут дети...- Говорил Сергей шёпотом, пересыпая её волосы.
- Да...я тоже тебя люблю.- Шептала она, ковыряя ногтями обивку дивана, за его спиной, обнимая его.
-Только не забывай меня там...Не надо...-Умолял он, казалось, чуть не плача.
- Не забуду никогда.- Только это и было правдой.
Уезжая, она махнула ему из поезда и тут же задвинула шторку на окне. Жёлтую шторку с синей эмблемой "РЖД" . Вернуться- она вернётся...но- какой?
Хватило всего трёх недель, чтобы город захватил Светку, как осьминог свою жертву. Первым делом она остриглась в салоне, и её взяла под опеку сестра. Мать с отцом пока ещё оставались в деревне, они хотели попробовать перезимовать там. Светка погрузилась в городскую жизнь, закружилась в институте, с новыми друзьями и знакомыми...И только ночью, уставшая и вымотанная, тупо уставившись в потолок припоминала, что где-то там, кто-то ждёт...Там- озеро с белыми лилиями и тихий шелест вёсел по воде, там лес, солнечный, пахнущий хвоей, там стонущие под ветром деревья и молодые дубки, её дубки, в том месте. Где она оставила что-то дорогое. Навсегда оставила.
****
- Ты напиши ему что- нибудь, а то он ждёт. Мне кажется, он пока ждёт, будет жив. А ты, всё-таки, напиши.
- Я напишу. Только вообще, не вижу смысла в этом.
- А ты без смысла напиши.
- Ладно. Я напишу.
Это Маринка из деревни звонила Светке. Вот уже и десять лет прошло. Он лежит сейчас в своём старом, бедном, синем доме и умирает.
" Дорогой мой Кузнечик, мне стыдно за всё. Но не за то стыдно, что ты был в моей жизни, а за то, что я так неразумно отдавалось после тебя всяким уёбкам, недостойным даже части той любви, которую я на них тратила, и которой пожалела тебе. Но ты был моим, а я была твоей. И не были мы кем-то, а просто людьми, парнем и девушкой, которые были нужны друг другу до задыхания...Прости, ведь мы так и не нашли того, о чём нам мечталось"
- И добавь ещё - умри с миром...- Горько улыбнулась Светка.
Зашла дочка Маша, высокая первоклассница с толстенной косой.
- Мам, ты не плачешь?
- Неа...ты же знаешь, я уже давным - давно не умею.
- Бедная ты моя...
- Наверное, так...- Ответила Светка, сминая письмо и бросая его в мусорную корзинку под столом.- Юристы ведь тоже иногда бывают бедными. А ты смотри - и учись, Маш.
Конец.
Качели.
Середина ноября стояла на дворе, но Ольге повезло с погодой. Ни дождя, ни мороси, а только загородная чистота предзимья, и сам воздух, будто прояснял очертания предметов. Деревья, отметав последнюю листву, высились дикие в своём обнажении, и сороки беспрерывно дрались и трещали в голых верховьях тополей и верб.
По окраинам берега узкой, но глубокой речки, разом почерневшей всеми камышами, кое-где уже вставал тонко-стеклянный неверный ледок. Солнце светило туманно и рассеянно, совсем не жалуя теплом отвердевшую землю в спутанной шерсти белёсой травы.
Ольга, поправив на себе старое мамино полупальто в крупную клетку, вошла в сад со стороны поля, и тут же, попала в другой свет, иное ощущение. В поле - сухая стерня,играющая под солнечным отблеском, вылинявшее утреннее небо в редких, размазанных по всему окоёму облачках, а здесь, в саду, всё черно, и только невнятный скрип изнутри его раздаётся, как голос какого-то забытого живого существа, нарушает покойную тишину.
Сад запущен уже лет тридцать. Его яблони стали дикими до того, что их плоды радуют лишь галок, да дроздов. Когда то, между этими ровно посаженными деревьями была видна небольшая аллея, и до сих пор она не сумела зарасти оттого, что тень яблонь не пускает на свет ни один росток.
Несколько рябых тополей тепло укрыли землю мясистыми широкими листьями, небо кое-где лоскутами просвечивало через их мощные сплетения, и узнать какое время суток, сейчас, было невозможно. Ольга потерялась , сперва, в этой старинной полутьме, в вечном мраке, в укромном месте, которое столько лет никто не навещал, но шла вперёд, чая разглядеть то, для чего она была здесь сегодня, по какому-то странному зову души.
В этом ноябрьском обнажении увидеть красный дом, затерявшийся посреди сада, было бы легко, если бы за лето его так не завил хмель, что высокое, и прежде яркое это строение, казалось неживым холмом, брошенным ковчегом царил он среди запустения.
И потому, наверное, дом так мрачно глядел в дебри запущенного сада выбитым круглым слуховым окошком, пропуская под крышу лианы хмеля, сросся всеми рамами одиноких окон с ветвями огромного каштана, нависающего над ним,проникшим между его стен, как новый незваный гость, и теперь разрушающего его изнутри, глухо и медленно ворочаясь, рассыпая саман и кирпич, поднимая ветвями ржавую жесть кровли, проламываясь через деревянные перекрытия пола и потолка.
Ольга побоялась войти в этот дом так, как заходила прежде. Когда-то она была здесь много раз, теперь, словно другая кожа была у неё.Кто бегал по этому саду с соседскими мальчишками, приезжая к бабке в деревню на лето, кто здесь знал каждый куст, каждое дерево, кто был скор и решителен в шалостях и играх - Ольга уже забыла этого человека, забыла саму себя.
Когда то она была смелее и безрассуднее, и ничего, что то был характер первой юности, теперь же было просто страшно. Да что там говорить, из этого самого дома, их ребячья ватага давным-давно вынесла всё, чем он был богат и жив. До сих пор где-то в Ольгином столе лежат бумаги, найденные тут на круглом деревянном столе, рисунки голубых акварельных кораблей и коричневых замков, лежит и старинная фотография, на которой целый выходной класс мужской гимназии, даже с преподавателями в штиблетах...И ещё, где-то потерялось маленькое полотенце со старательно вышитыми крестом, по окраинам, папоротниками и жёлто- зелёными цветами.
Ольга всегда умела и любила сохранить то, что,кроме неё никому не было нужно, и оттого всегда с болью впоминала материнские слова о том, что собирает всякую дрянь,труху прошлого, что когда-нибудь, погрязнет в этой ненужной дряни. В тряпичной своей истории... Вот как! Метко сказано. И понимание того, что ряд вещей в этом мире может существовать сугубо для не одной, делало Ольгу как-то богаче и радостнее. Вот и теперь, придя сюда, понимала она, что делает нечто для других немыслимое, а для неё- отрадное, ибо в тех находках её юности была та самая дорогая фотография,где, Ольга, даже ещё может узнать своего неопределимого в родстве родича, который стоит , прищурясь, в верхнем ряду уже, кое-где, усатых выпускников, заложив руку между блестящих пуговиц серой тужурки, на груди, будто щупает своё сердце, и выпростав только большой вульгарно изогнутый крестьянский большой палец с низким ногтем.
Ольга не решилась даже подойти ближе к дому, так он был разрушен. Само крыльцо, словно было смято рукой великана и чернело нагромождением досок и кирпичей, измятой жести и кусков кованых перил. Страшный каштан не помедлил так густо укрыть двор многолетним слоем листвы и орехов, что, если бы не подморозило, то Ольга стояла бы сейчас в каше.
Действительно, трава всё ещё хрустела ночным инеем, ведь здесь до сих пор в тени и полумраке было утро, которое не спешило оставлять этот страшный одинокий сад и обиженный дом.
Погрузившись в воспоминания, Ольга даже и позабыла, зачем пришла сюда, так её всю здесь внезапно преобразило в ту прежнюю, уже незнакомую девочку.
И тут ей напомнили об этом. Напомнили, по лёгкой воле внезапно налетевшего ветерка, скрипнули, как исторгли из себя вопль отчаяния- а вдруг, уйдёт без них?
Действительно, она собиралась уже уходить, но увидела их, качели, что медленно покачивались на ржавых цепях в нескольких шагах от неё. И железная штанга, прикреплённая к двум тополям была покрыта древесными наплывами, и цепи ярко горели ржавчиной, даже деревянное сиденье, прежде крашенное в красный цвет выщербилось, почернело. Теперь оно закачалось снова с такой неизмеримой жутью, что Ольга похолодела изнутри, и подошла к качелям ближе, словно ведомая каким-то невидимым проводником.
Да, теперь под этими старыми качелями нет той выбитой детскими ногами ложбинки, которая после каждого дождя наполнялась водой, и они стали ниже к земле. Видно, только ветер качается на них, только ветер, да призраки.
Ольга поводила пальцами по сиденью, нашла вырезанные буквы и улыбнулась. Молнией пронеслись перед ней все годы её жизни, что она потратила на то, чтобы не думать об этом, чтобы попрочней забыть и то, с кем они вырезали эти инициалы, и те обстоятельства при каких были они вырезаны.
Вспомнила она это без усилия, и от этой лёгкости сошла улыбка с её лица.
В тот же момент, словно, кто - то провёл за ушами пёрышком, пощекотал и взвился ввысь. Ольга оттолкнула качели прочь, качели застонали, завопленничали, и опрометью побежала из сада, чувствуя уже позади себя какую- то жуткую силу, к которой напрасно было вот так приходить со своими жалкими помыслами.
Бежала она, не замечая, что всё лицо ей выстегала молодая тугая поросль слив, растущих на краю сада, что кусты шиповника цепляются за полы маминого пальтишка.
Вырвавшись на свет, на улицу, Ольга остановилась только тогда, когда добежала до начала деревенской улицы, где дома живо стояли по левой стороне, окнами ловя высокое солнце, которое давно оттёрло с лазури небосклона всю лишнюю белизну.
Ольге даже жарко стало в пальто, и она расстегнула большие круглые пуговицы, блеснувшие перламутром и тряхнула головой, боясь, что нацепляла на волосы паутины.
В деревне же, тянущейся вдоль поля, было тихо. Кое- где, во дворах, ещё жили одинокие бабки и у них ещё водились куры, сейчас важно роющиеся под дворами в мусоре.
Дороги здесь никогда не было, только летник, теперь размытый осенними дождями и в этом была причина, почему Ольга не оставила машину в деревне, а только на асфальте, до которого отсюда метров семьсот.
Все дома смотрели фасадами на запад, и сейчас ни одной собаки не было слышно, разве, за какими-то воротами погромыхивала цепь и раздавалось урчание или скуление сытых охранников.
Ольга, всё так же, ощущая щекотание за ушами, почти добежала до первого знакомого бледно-зелёного домика под шиферной крышей над мутными окнами. Двор был заперт. Кольцо калитки приржавело к кругу, подкова на столбе ворот висела на одном конце.
Ольга, почему-то, не замечая всего этого, стала бешено колотиться в калитку, то рукой, то плечом, то напирала на серое выеденное дождями дерево, то сносила его ногой не глядя на то, что перед двором сломан колодец-журавль, что скамейку, где когда-то спевали тутошние бабушки, пробила насквозь молодая берёзка , и полёгшие осенью былинки вполроста , заглушили гусиный выход со двора.
Что с той стороны уже не слышно ни свиста, ни смеха, ни мычания, ни брани, ни гогота, ни кудахтанья, ничего- ничего, а ворота стоят, как цитадель, которую Ольге теперь не перемахнуть одним рывком своего погрузневшего тела.
- Чого ты бьёшься?- Спросил позади неё незнакомый слабый голос.
Ольга обернувшись, увидела незнакомую бабку в сером кремпленовом платье, в мохеровой кофте до колен и синем шерстяном платке с рюлексовой золотой риской.
Старуха,видно, стояла тут уже несколько минут, оперевшись двумя руками о палку, и лицо её было каким-то раздражённым и совсем недобрым.
Ольга обернулась, наконец, к калитке задом, а к бабке передом, отдулась, поправила волосы.
- Я не бьюсь, я стучу. - Ответила она спокойно.
- Тут нету никого. Юлька померла, как её в город забрали.
Всё это было сказано совершенно бытовым тоном и с нормальным старушечьим равнодушием.
- Ты чья?- Спросила бабка живее, слегка наклонив голову, и Ольге показалось, что сейчас её будут долго допрашивать.
- Вы меня не знаете, я из Москвы. А вообще, у меня тут бабушка жила, Тимашовых.
Бабка косо усмехнулась.
- Аха, знаю.
- А Серёжка где?- Тут же спросила Ольга.
- А помер.
- Как помер?- Снова спросила Ольга и ударила на слово "как".
- Да как, опился, и помер. Они тут все через это дело помирают.
Ольга замолкла на минуту. Задумавшись о своём.
- А когда ж он помер?
- Да летось.
- Этим летом?
- Да, энтим.
- Пил?
- Пил, чорт. Говорили ему. Дак , без толку. Пил.
Ольга поискала вокруг себя куда бы можно было присесть, но не найдя, смущённо затопталась на месте под нехорошим бабкиным взглядом.
-Ты тут, видно, давно не была. -Сказала бабка утвердительно.- Тут всё поменялось, всё другое стало. Щас по всей стране всё другое, сплошной конец света. Нельзя-неможно... Ужас, что стало-то...Тивизор глядеть страшно.
Ольга кивнула головой в знак согласия и попыталась уйти.
- Ну, может сказать кому - то, что ты была?
-Нет, не надо. Думаю, всем уже всё равно.- Ответила Ольга и коротко попрощавшись, стала уходить под пристальным взглядом старухи, казалось, выдавливающим её.
После этого разговора ей стало ещё хуже, чем после посещения сада. Она не знала о чём сперва подумать и потому, мысли роились у неё в голове набрасываясь одна на другую, сбивая её с толку. После вести о том что Серёжка , как - то, сразу "помер", она тяжело поняла, что вот, теперь и ждать, собственно нечего, и надежды нет уже никакой, и всё теперь у неё, как у всех, без особенных пикантных ситуаций и странных чудесных ожиданий. Ну, просто нечего стало ждать.
Ольга дошла до машины, порылась в кармане пальто, нашла ключи и долго перебирала два ключа, думая включиться и вспомнить, каким открывать машину. Она ткнула один ключ, и сигнализация звучным хлюпаньем отрезвила её.
- Дура. И почему ты всё время оказываешься не там, где надо...- Сказала она сама себе.
Через час новенькая " Тойота" уносила её в другую жизнь, резво и весело шурша шинами. Мобильник поймал сеть и нагрелся от очереди ожидающих сообщений. Материно пальто, в котором Ольга любила походить за городом, было сложено в багажнике. А вот щекотание за ушами прошло только лишь тогда, когда впереди показались белые вышки Москвы, и Ольга поняла, что она больше никогда не поедет в деревню.
Экскурсия
На пароме, идущем от Искьи на Поццуоли, народу в это утро было немного. Намного больше, казалось, машин, приставленных так плотно друг к другу, что и не пройти между ними. Я мучаюсь от долгого скучного пути, не зная, чем заняться. Мутно - голубой пейзаж далёкой Искьи позади парома, ломающиеся стеклянистые валы за бортом, укачивали меня. Море, какое - то безжизненное, пустое, не тронутое ни стремительной спинкой дельфина, ни чёрными лепёшками скатов, бугрилось лёгким штормом, пластами отходили от борта, поросшего ракушками, волны, будто - бы сальные, синие, тёмно-зелёные, с морским мусором.
- Мусор в водке, мусор в водке...- Шепчу я, сложив локти на деревянную обшивку палубы.- Мусор в водке - к свадьбе.
Волны, с глухим грохотом падали назад, изрезанные и ломкие.
Рядом со мной, стоит розовощёкий Владик, засунув руки в карманы чёрных подштанников. Он подёргивался, слушая плеер, жевал жвачку и, то и дело оглядываясь на своего брата Виталика, улыбался девичьими красными губами. Иногда, когда качка становится сильнее, смешно выбрасывает руки из карманов и хватается за борт, накреняясь вперёд своим длинным, угловатым телом. Я с укоризной поглядываю на его терракотовый от загара затылок, на линию ровно подстриженных волос и на чуть заметную " косичку", идущую вдоль шейного позвонка вниз. Смешной мальчик. Ему девятнадцать. Я моложе на два года, и это моя беда сейчас.
- Что, не боишься?- Перекрикиваю я , расшалившиеся волны, которые обнимают мои ноги в тонких кожаных сандалиях, самыми краешками своих голубых , холодных , медузьих тел.- А как снесёт тебя за борт?- Солёная вода, разбиваясь о паром, осыпает меня брызгами с ног до головы.
Но я стою у самого борта, думая - заметит ли кто-нибудь грозящую мне опасность? Скажет ли что? Например : отойди, сядь рядом...Никто, никогда...Владик отходит, но потом, стесняясь своей несмелости, подходит, и застывает рядом. Паром мягко прыгает, вверх-вниз...
Вместе мы держимся за перила, я - локтями, он - руками, крепко, до белизны пальцев , а море качает, качает, как механическая нянюшка, приставленная к колыбели дорогого младенца.
Почти ничего не слышно, что говорят в пяти метрах от нас моя сестра Лиза и брат Владика, Виталий. Но и мы видим только их спины. Как Лиза смеётся - слышно...Хахаха-ха, хахаха-ха...Её обвил Виталик, за плечи, сильной рукой, сжимает её правое предплечье, а она, смеётся от этого.
Виталик лучше Владика. Он высокий,красивый, русоволосый и розовощёкий, и больше о нём нечего сказать Он просто хорош. Не стоит разбираться, чем он живёт, чем дышит, хочется упасть в его объятия и забыть про весь мир. Такой он. И Лизка падает. Отпрядывает от его розовых, наглых губ, будто случайно тянущихся к её шее, напоминает, что она на десять лет старше, что замужем...
Лизка, роскошь расцветшего возраста, ей чуть за тридцать, но она так хороша в этом, что мне даже равняться страшно с ней. Я гляжу на свою маленькую грудь, чёрные волосы, на нитки и шнурки разобранные ветром, на свои тонкие губы, тонкие руки, и ненавижу всё это с отчаяньем юности. То ли дело- Лизка! Она вся, словно царит над людьми, как будто вышла из пены морской, и тут- ей самое место. Здесь вся эта буйная прелесть Италии так ей к лицу, так красит её! Сама она, как Италия - горячая, полногрудая и длинноногая, со всеми глупостями, милыми и роскошными, со своей самосущей красотой, величественной и дерзкой...
Паром причаливает, и мы сходим на берег. Владик идёт впереди, я плетусь за ним, за нами вальяжно вышагивает Лизка в обнимку с Виталиком, который приобнял её смелей, ворошит её светлые волосы, и они хохочут от счастья...
Под разгорающимся, яростным солнцем мы бредём к автобусу, ноги мои млеют. Лизка с Виталиком отправляют нас в Помпеи, на экскурсию, а сам остаются в Неаполе, бродить по бутикам и ресторанам, обниматься, и, наверное, целовать друг друга...Я иду прыгающей путаной походкой, гляжу на дома, серые, жёлтые и жаркие, с окнами, убранными деревянными жалюзями,на алтарики у дверей, на едва видные Мюратовские фонтаны и тёмные, круглые башни Неаполитанского замка...Вокруг раскопки- колонны вросшие в землю...или...выросшие из земли?
До сих пор я не знаю, пойду ли в Помпеи одна, или Владик со мною увяжется. Ему ни до кого. Он слушает плеер, покачивает маленькой головой на длинной шее и жуёт, да жуёт.
Лизка закидывает голову назад и снова смеётся, как плетью меня охаживает смехом...Виталик глядит на неё жадно, мутно, а я - только поглядываю. На меня так никто никогда не глядел- и глянет ли...Я сминаю билет на паром в трубочку, потом превращаю его в комочек, рву, терзаю на мелкие кусочки, тупо уставившись в плавящийся асфальт.
- Крыся!- Кричит мне Лизка.- В свои Помпеи поедешь с Владиком. Мы тут вас подождём...- Мурлычет она тише.- Ведь подождём - же...в городе...
Крыся! Так она при НЁМ меня называет...а он смеётся над этим, надо мною...
- Прошвырнёмся по магазинам...- Продолжает Лизка.- В кафе посидим...
И она, приближаясь, приобнимает меня влажной рукой, до подмышек пахнущей розовым маслом и кокосовым молоком, донельзя нежной лапкой, ароматной и длинной.
- Фотоаппарат возьму, ладно?- Сухо отвечаю я, чмокая её в шею.
- Да. Меня Виталик поснимает...
Я гляжу на Виталика, с интересом провожающего взглядом двух молодых итальянок в чёрных джинсах. Он, сунув руки в карманы шорт, в полурасстёгнутой рубашке с коротким рукавом, похож на жиголо...на альфонса какого-то...
Через час нас высаживают в Помпеях. В самую жару, в самое пекло. Вдалеке, в вечной дымке, высится Везувий, как голова титана, дышащая паром и дымом. Везувий страшен даже сейчас, когда он далеко...Мне становится жутко, пока группа собирается и покупает сувениры у входа в Старые Помпеи.
- Прикинь, эти придурки тут второй город построили. На месте Старого. Как они не боятся?- Говорит Владик, вытащив один наушник из плеера.
Как ему объяснить...Мы,русские, не знаем ни вулканов, ни стихийных бедствий. У нас что - снег по пояс, да и всё. А тут, яйца в песке пекут, черти. Рыбу в фольгу заворачивают, зарывают и едят через пять минут. И не боятся. И радоваться умеют.
Здесь только одна дорога, ведущая сквозь окаменевшую чёрную лаву, к Неаполю. Несколько лавчонок с дешёвыми сувенирами , отделённые от дороги кустами мирты, тамариска и азалий, и вход в Помпеи...А над всем этим - Везувий. Как Судьба.
Владик, слушая плеер, дёргает головой. Группа идёт вперёд, но мне хочется отстать. В такую жару народа немного. Побыть одной нужно, подальше от тих повальных шортов м белых футболок туристов в шляпах, всех шелудивых от загара, и чтоб они все при мне меньше обнимались, слушая гида.
Редко где в Помпеях встретишь кусочек тени. Камни мостовых, водосточные желобы, следы от повозок, бесконечные закуты, сложенные из травертина. Это остатки жилищ, харчевен, прачечных.
Оглядываюсь - путь за мною безлюден. Справа и слева - стены, стремящиеся ввысь, но обломанные и чёрные. А между ними - опять Везувий...Ветер швыряется сухими оливковыми листьями, легко катает их по камням мощённой дороги.
На стенах ещё различимы надписи агитационной выборной кампании 78 года нашей эры...Они не поблекли, не выцвели...Кого выбирали- квестора, претора? Ветер жарко дышит преисподней, а от камней исходит живое тепло.
Кажется, вечность не потеряна, а мы для неё здесь- корм, пища. Сами пришли в вечность, как в Кносский лабиринт на съедение Минотавру, накормим вечность собой.
Моя группа рассеяно шарит глазами по стенам, слушает гида Альберто, черноволосого, с жирными и курчавыми волосами, зачёсанными назад. Владик, просто бесит своим жеванием. Я натягиваю белую соломенную шляпку ниже, чтоб не видеть никого, потому что Владик ржёт, тыкая пальцем во фреску Приапа. Что-то неприличное говорит, указывая на его голые бёдра, обвитые лозой, и смешно изогнутый фригийский колпак на кудрявой голове.
И мне хочется смеяться тоже, но я стесняюсь. Как только группа снимается с места, я фотографирую Приапа, долго глядя на него, и думаю, сколько же глаз уже подивились мастерству художника за то время, как Помпеи стали освобождать из-под тысячелетнего пепла?
Лупанар, с крепкими стенами, низкими, каменными потолками, с пятью комнатушками- норами, где только и могли уместиться двое, расписан всеми видами продажной любви. На каменных кроватях с каменными-же "подушками", едва ли здесь ляжет современный человек во весь рост. Фрески яркие, живые, словно пособия для начинающих и милое развлечение для опытных. Владик и тут облизывает свои пересохшие губки, и нервничает.
- Маньяк.- Говорю я со смехом, глядя на заинтересованного Владика.
- А почему название такое? Сказали бы просто - бордель.- Спрашивает он у меня.
- Потому что женщин, тут обитающих, называли - лупы, то - есть , волчицы.
- Почему?
- Они ходили по городу и выли по ночам, зазывая клиентов...- Отвечаю я со знанием дела.- Это тебе не русские "бледи", с кольцом во рту и ковриком под мышкой. Тут всё было на уровне...
Владик, удивлённый моими познаниями ещё с полчаса пытает меня по поводу цен и качества услуг. Я указываю ему на граффити.
- Вот, смотри. Тут какая-то, Эвноя, гречанка, стоит два асса. Два асса - кувшин вина. Вот и иди, ищи её. А от меня отстань.
Жарятся на солнце древние камни. Недорезанные капители колонн, брошены мастерами посреди дворов разрушенных вилл. В банях, отлично сохранившихся, не хватает только бликования воды на голубом куполе, прежде, искрящейся в бассейне тепидария. Теплом дышат краски фресок, глаза горгон провожают туристов, глядя с той-же божественной ожесточённостью, что и в те поры, когда здесь прогуливались сенаторы и патриции, приехавшие на отдых к морю.
Теперь, в просторных дворах вилл пускают побеги воскресшие мирты, полыхают цветами гвоздики, и, кажется иногда, что из глубины бывшего здесь когда-то сада, зажурчит фонтан, изливая прохладную воду, приведённую сюда путём акведука. Сладкая пыль липнет к нёбу, и всё так на месте в этом совершенном покое, скорее, обморочном, минутном, старающемся всеми силами двинуться и воскреснуть.
В мою голову вновь приходят мысли о сестре, о Виталике, о том, как вчера мы плавали вдоль побережья Искьи на неаполитанском катере "гозо", как Лизка лежала рядышком с Виталиком на горячей палубе...А потом мы вплыли в грот, наполненный подвижной голубизной отражаемой воды, встали на дно, белое от песка, и там, в гроте, без Лизкиного надзора, он высыпал в мою руку чёрные ракушки, собранные им на камнях. Я улыбалась, глядела на него дурно, отчаянно краснея, потому что никого не было рядом, как он бережно пересыпал чёрные ракушки в мою молочно-белую ладонь и они светились от бликов и игры отражений.
Придя в себя, я оглядываюсь, ища группу. Действительно, отстала, тут толпа немцев, горластых и громких, а мои - уже далеко. Вон он, длинношеий Владик виден ещё... А я стою в тени какой-то обломанной стены, ветер пыхает мне в лицо средиземноморской оливковой духотой от которой сохнут губы и слезятся глаза...
Когда мы уезжали из Помпей, я обернулась назад, с единственной мыслью, что с радостью увидела это всё. Увидела, и нужно это только мне, никому больше. И теперь мне легко, будто я новорождённая, которую, только что макнули с головой в древнюю крестильную купель и прилипли к ней все радости и горести мира, с которым её познакомили против воли...Вот теперь в душе осядет тот самый золотой песок эмоций, который так необходим настоящему человеку...Настоящему? Кому?
Неаполь со смотровой площадки видится огромным осьминогом. Лежит, голубой и зелёный, жаркий и сытый...Вдали ,белыми бугорками ходит море. Сегодня, вечером, наверное, вернувшись на Искью, мы будем лежать на пляже до вечера, кунаться в, совершенно безрыбное у берегов, Тирренское море, а вечером, пойдём в какой-нибудь ресторан, где Лизка напьётся. Всю ночь я проведу возле бассейна отеля, или в холле, а она будет с ним...
Лизка с Виталиком, подходя к нашему автобусу так сверкнули улыбками, что Помпеи пропали и Неаполь поблек. Осталась только мучительная тоска и растерянность. Отчего у меня всё не так? Почему они такие счастливые? Когда я буду такой-же?
ENTER
Ольга уже два часа лежала в родильном боксе на жёсткой кушетке, и никто к ней не шёл. Время подходило к одиннадцати, и роддом засыпал. Только иногда откуда-то доносились отчётливые вопли, которые действовали на нервы всем, кто находился в "родилке". За стеклянной стеной вёлся оживлённый разговор между врачом, "зашивающим" роженицу, и самой роженицей.
- А сколько раз вы с мужем любовью занимаетесь? - Спрашивал хитрый врач.
- О, часто...- Отвечала " пациентка" , принимаясь красочно описывать свою интимную жизнь.
Медсестра, сидящая напротив роженицы , ржала и болтала ногами - она не доставала до пола с высокой кушетки. Любопытной Ольге, иногда прокрадывающейся перед высоким окошком на цыпочках, виден был край её зелёного колпака, сдвинутого набекрень.
- Четвёртый бокс, не шали!- Строго грозил доктор, выглядывая из-за ног разговорчивой собеседницы, видя, как по соседнему стеклянному помещению, словно тень, ползает черноволосая, симпатичная Ольга, то и дело, крася губы гигиенической помадой - единственным предметом, что ей разрешили внести сюда, в другой мир.
Ольга же, услышав подобное в свой адрес, как кошка на охоте, приседала, вызывая новый приступ смеха у медсестры и доктора и послушно пробиралась к своей кушетке. Иногда медсестра приходила поглядеть, как она. Заваливала её на холодное ложе и ощупывала живот, нависая огромным телом над маленькой Ольгой и давя на неё тяжёлой своей грудью, а потом уходила.
- Ну, как, скоро?- Спрашивала Ольга.
- Да дождёшься.- Грубо, но с улыбкой, отвечала медсестра, поворачиваясь к ней задом в зелёных форменных штанах, сбежавшихся между толстенных ляжек в аккуратные складочки.
" Ничего себе, разговорчики у них во время родов": удивлялась Ольга, не зная, что соседняя пациентка под общим наркозом, а уж чего там только не наговоришь.
Ольга бродила, подключенная к капельнице с окситоцином, держа её в руке, для пущей возможности передвижения, лежала, ждала схваток и скучала, слушая, через пять родильных боксов телевизор, по которому передавали фильм " Баязет". " У меня родится воин...Под такой аккомпанемент - только воин ... " А ещё думала, что похожа на какой-то экспонат из мира насекомых, которого сейчас заперли в банку и скоро начнут препарировать...От запаха хлорки её мутило. Хотелось пить - но этого было нельзя, хоть раковина в углу казалась чудесным источником , было запрещено включать воду.
Пришла другая, старая и нелюбезная медсестра и накричала на Ольгу, что той тошнит из- за того, что она ела перед родами. Ушла, ворча и обзываясь спать в коридор. Злая она была потому, наверное, что всё время спала под рожениц, которые своими звуками нарушали её сон во время ночного дежурства. Близилась ночь. С шестого этажа, в огромное окно без штор - был виден весь город, подёрнутый лёгкой белой нетающей кисеёй. Это снег прошёл , освежил, обелил, очистил фонари . И в такую ночь должно было родиться её дитя. Ольге захотелось выключить убийственный "дневной" свет, освободится от капельницы. Через порванную на груди до живота, государственную ночнушку, Ольга чувствовала, как малыш замер в ожидании. Совсем неизвестная боль, незнакомая и странная , стала легонько прорезать спину.
- Давай уже, собирай вещи и вылазь. - Сказала Ольга малышу.- А то доктор Татьяна Александровна уже томится моим обществом. Я тут в роддоме " бабовщину" развожу... Говорю тебе, собирайся, сегодня ты должна родится, иначе я обижусь.
Ольга встала, чтобы размять ноги. Хорошо было видно её отражение в прозрачном зеркале ночного окна. Неделю до родов, она делала причёску, порвав ситцевый платок на папильотки, накручивала волосы, красила губы, жестоко сохнущие. Сегодня в "родилку" она и сумела захватить только помаду - губы сохли так, что слипались. Наверное, это было от волнения.
В окне она видит себя - длинноволосую, с бледно-спокойным лицом, в какой-то немыслимой роддомовской рубашке.
- Кто-то рвал на себе рубашку, от счастья...- Говорит себе Ольга.
Она давно не подходила к зеркалу, а тут- вот она- глядится в последний раз на свой небольшой аккуратный животик, грудь, беломраморно застывшую от небывалого притока молока. Ей пришла в голову мысль - не умрёт ли она во время родов? Ведь такое бывает...Белый мёртвый свет, это страшное кресло с чёрными подножками.... Ещё несколько месяцев назад, когда до неё наконец дошло, что всё, она беременна и у неё будет - ощущение было такое - же, как сейчас. Чудесное. Только сейчас до этого "будет..." осталось уже несколько часов и То, что сейчас с ней, навсегда оторвётся...Не будет двух сердец внутри неё- но зато будет рядом Оно, родное, как никто.
Ей было только обидно, что врачи заставляют ждать. Три недели взаперти после вольных прогулок по лугам и полям, походов по лесу, за грибами, которых в этом году - море! И ещё у неё отняли кошку. А кошка ей очень помогала... Вообще, кошка эта заслуживает особого внимания...
В начале лета, в июле, к Ольге приехал её парень. От него она была беременна. Хотя - вовсе не от него. Получилось всё, как в дешёвом сериале. Три года встречалась она с Максом. Макс - моложе на четыре года и к тому же - он был её " дачным романом". Когда она приезжала с родителями отдохнуть в далёкую деревню к бабушке, совершенно выжившей из ума и требующей присмотра, там обязательно находилось какое-нибудь приключение, вроде этого...Ольга не была оригинальна. Ещё - она была молода и очень хороша собой. Бабушкина деревня Радчино - богата на молодых людей. Неотёсанных, грубых деревенщин...Но Максим не такой. Он из всех выделялся значительно. Учился на пять. Кончил школу с красным дипломом. Медучилище - так- же, с красным...Спутницей его летних ночей оказалась Ольга. А ей, в свою очередь показалось, то ли по неопытности, то ли по жаркому желанию любить - что и Максим её любит.
Максим...Холодный взгляд, уверенная походка. Полная рациональность. Куда бы он ни шёл - везде побеждал. Кого бы ни хотел - всех получал. А её он получи тем проще, чем ей больше хотелось вышеозначенного. Любви ей хотелось, которой никогда не знала, которую в городе столичном добыть трудно.
Чего Максиму было нужно от Ольги - на первый взгляд ясно. Москвы. Перспективы. Оттого он и придерживал её около себя все три года учёбы в медучилище. Чтоб потом легонько перебраться в столицу. Ольга училась на дневном, но всякие каникулы летела к Максу, за 600 вёрст, ради двух- трёх дней бесстрашного и бурного любовного исступления, ради того, чтоб обнять его загорелое тело и заглянуть в его холодные равнодушные глаза.
Его юность делала своё дело - Ольге не верилось, что он просто трахается. И всё. Ей чудились гулянья по Москве, долгие интересные беседы и праздники вместе. Но Макс приходил лишь тогда, когда темнело, чтобы на деревне было меньше разговоров о том, что "москвичка увела" первую радчинскую гордость.Да и к тому же беседовать он не умел. А гулять они могли только по лесу и вдоль речки. Поэтому они каждую ночь занимались любовью. То есть- сексом.
В деревне его не любили за то, что Макс был слишком надменен и спесив. На хромой козе не подъедешь, а если и подъедешь, то он мгновенно ссадит и с хромой козы. У него был конь, на котором Макс проносился по улицам деревни, оставляя за собой пыль и вздохи бабок.
- Сукин сын, какой гордый!- Шептали они, качая головами.
Собственного отца Макс ненавидел, поскольку его змеиноподобная мать выработала в нём пример равнодушия ко всему, что является хуже, чем есть сам Макс.
- Ольга тебе не пара. Ты найдёшь себе ещё миллион таких.- Шипела она, провожая его в ночь.
Макс улыбался. Знал, кто кому пара...На маму не обижался. Отец пил от отчаяния, понимая, что его приемная дочь - старшая сестра Макса Лариска, жена, бабка и даже внучка, Ларискина нагулянная дочь - змеиный клубок, злобный и завистливый.
Но Ольге не верилось, что от осинки не родится апельсинки. Слишком неопытна и влюблена была она в своего Макса.
Летом встречами руководил Макс. Приходил к ужину. Ел он хорошо и много. Потом, когда родители уходили спать , Макс запирал веранду, раздевал Ольгу и предавался с любви. Ольга смотрела на его гордость и надменность, видя в этом единственную возможность остаться благородным в этом чёртовом Радчино, среди спившихся крестьян и их потерянных в блядстве семей. Мужья менялись жёнами, дети пили и курили, все интересы - только секс и самогон. Впрочем, как во многих деревнях, где умер колхоз а ничего нового не родилось.
Ольге казалось, что Макс обязательно выберется из этого болота. Она тянула его отсюда всеми своими женскими силами- и в том числе материально. Возила его в Москву, покупала одежду, давала денег. Макс брал. Гордо, но брал...
Однажды в Ольге шевельнулся разум. Она никогда не слышала, что он её любит. Он молчал. Она молчала. Это была детская игра, глупая игра в ожидание, кто - кого переймёт. Но вместе с тем, ей казалось очень важным- если уж она и потеряла свою гордость перед этим мальчишкой, пусть он скажет ей хотя бы одну фразу, хотя бы одно слово, которое срывается с губ людей в страсти и обожании, во лжи и в страдании, в тоске и похоти. Но это слово - держит всё на этом свете.
Ольга заглядывала в его глаза, чтобы рассмотреть в них это слово. Она прибавляла жара, любя его, чтобы случайно оно выскользнуло у него. Она играла и страдала, но не получила ничего. Железная холодность и стойкость Макса проявилась ещё в начале их отношений. Восемь месяцев он водил её за руку, целовал и обнимал. На исходе шестого месяца они добрались до постели. Но ничего кроме объятий и ласк Ольга не получила. Почти в невменяемом состоянии Макс соизволил докончить начатое. Так он заставил её молчаливо вымаливать поцелуи и извиваться от страсти, как ужа на сковородке.
В семнадцать лет он был опытен в любви, но это сводилось к удовлетворению себя- и не более. В восемнадцать- Макс стал немного обращать внимание на Ольгу. В девятнадцать она ему надоела.
Однажды она поняла, что надоела ему. Но не любовь, а злость стала руководить её действиями. Как же так...и за что? Отчего Макс стал глядеть сквозь неё...Пренебрегать ею... Почему стал приходить реже и чаще показывать характер? Секс стал быстр и груб. Макс моментально вырубался, отвернувшись к стенке, а в шесть утра уходил домой к маме, чтоб прийти к Ольге через два дня , ближе к ночи...
Ольгины родители молча смотрели на её страдания, иногда подливая масла в огонь. Но признать появившуюся нелюбовь Макса- всё равно что предать саму себя- ведь его она любила...Но- затем лишь, чтоб вообще кого-то любить.
Какие прекрасные стихи рождались у неё в этих непрекращающихся страданиях! Какие песни она сочиняла на кухне, под гитару, когда уже уезжала в Москву, разлучаясь с любимым. Никого не видела она- только его образ, идеально чистый. Жёсткий взгляд победителя, неслышный шаг охотника, во всём успешного и удачливого, осторожного, хотя и юного.
Она была совсем не такой! И жила чувствами, ранними и прекрасными. Она ломала себя перед ним, но ломала упоённо и сладко, поддаваясь силе.
- Не любит он тебя.- Твердила мать.
- Не будет он с тобой!- Говорил отец.
Но Ольга ослепла и оглохла.У неё - Любовь. Первая...
Тем не менее, прошло три года. Наступил Новый год. Макс приехал в Москву по делам, и две недели жил у Ольги. Первые три дня было легко, потому что была постель. Потом постель прискучила. Занятий других- не было. Макс ел, Ольга готовила с утра до ночи. Она водила его гулять, Макс радовал её по ночам. Но когда он стал звонить "одноклассницам" , которые учились в Москве и назначать им встречи, Ольга наконец поняла, что он наверняка с кем - нибудь кроме неё спал, там , в другом городе, где учился в медучилище. Что, наверняка изменял ей... Ведь он молод...а она приезжала так редко!
Когда эта мысль посетила её, тут - же сломался весь идеальный образ возлюбленного. Проснувшись рядом с ним, она уже не разглядывала его нежные губы, глаза с длинными ресницами, коротко подстриженные волосы гладить не хотелось, да и он не позволял...Они промучились две недели в заснеженном городе, в лапах небывалых морозов, не имея возможности оставить друг друга хоть на минуту. Родители жили за городом. Чтобы хоть как-то развеяться, она поехали в ним.
Ольга сидела дома с матерью, непрерывно жужжащей ей "правду" на ухо. Макс, помогая отцу по хозяйству, появлялся дома лишь поесть и вечером- поспать. Ольга бесилась, сходила с ума. На улице стояли морозы за тридцать. Год обещал быть урожайным.
В душе у Ольги так - же подмораживало. Макс вообще не глядел на неё, пренебрегая ей во всём. Она ему надоела - это было видно. Сковав её по рукам и ногам узами покорности и превратив в молчаливую исполнительницу ему одному нужной роли- он отнял у ней всякий интерес характера, всю её прирождённую весёлость и радость. Она стала походить на него, но отчего - то, ей всегда хотелось плакать. То ли от отчаяния, то ли от мысли, что она не может быть самой собой рядом с этим жестоким человеком. Но Ольге казалось, что это её выбор - и надо, чтоб БЫЛО ТАК.
Погостив несколько дней у родителей, мучающихся Ольгиными страданиями, они уехали обратно в Москву.
Макс засобирался домой и почти вылетел из дома от Ольги. Он, верно, не мог надышаться свободой... Она не видела, как он убегал по морозной вечерней улице, не обернувшись. Холод его последнего поцелуя оскорбил её, и Ольга долго плакала, усевшись спиной к входной двери от одиночества и непонимания такой любви.
Ей хотелось кончить, уже ставшие нестерпимыми страдания.
- Ничто не повториться...- Шептала она, трясясь от рыданий.- Всё прошло!
Надо было просто понять холодным умом , что этот летний дачный трах ничего не значил для него. Но это означало признать себя грязной...Да, такой же, как был Макс. Гораздо более благородно было бы пережить это как Любовь. Пусть и безответную.
Ольга, теряясь в догадках, как бы присушить одиночество на корню, решилась на последний шаг.
Прошло десять дней после их с Максом последней встречи. Надо было что- то делать.
Помог Интернет. Однажды, Ольга заглянула на случайный сайт, случайно найденный по Яндексу. Случайно нажала кнопку "ENTER" так- же случайно перед ней оказалось милое мальчишеское лицо, обрамлённое золотыми волосами.
Ольга перекинулась с ним только номерами телефонов, единственным сообщением. А на следующий день, вечером, он приехал к ней.
Что это было - Случайность или Судьба- но оба этих понятия тождественны. У подъезда Ольгу ждал высокий девятнадцатилетний парень, с золотыми локонами до плеч, с зелёными искристыми как бенгальские огни, глазами. Весёлый и бесшабашный. Он сразу посадил Ольгу в машину и повёз её по ночному городу.
То, что было после - казалось ей сном. После холода, она вдруг вернулась в тепло посреди зимы. Женька, так звали её нового ухажора, завлёк её в кромешную страсть и нежность.
Она не собиралась ходить с ним за руку. Она сломала компьютер, и когда Женька явился, чтоб его починить, обвила его руками так крепко и туго, что она схватил её на руки и понёс в постель.
- Что мы делаем...- Выдохнула Ольга, однако, сообразив, что данная фраза- штамп.
- Мир сошёл с ума и мы вместе с ним.- Ответил Женька и завалил её на постель.
Так и прошли эти несколько последних ночей января. В глупом и неразумном счастье, где, словно потерявшись, Ольга таяла, как воск, и знала, что огонь её пожирающий - намного честнее, чем, тот, что был до этого.
После пропусков института, угарных долгих ночей с Женькой, после наскоро выпитой водки и весело выкуренной травки, после шаловливых признаний и застенчивых объятий позвонил Макс. Женька был на лекции в своём институте.
- Здравствуй.- Сказал Макс никак.
- Привет.- Дрожа руками, ответила Ольга.
- А я поступил в кадетский корпус.
- Я рада... Значит...ты не приедешь в Москву поступать?- Сохраняя равнодушный тон, поинтересовалась Ольга.
- Очень даже приеду! Я бы тебя увидел...хе...хехе...- и Макс противно засмеялся своим дедовским смехом.
- Понятно. Ладно, у меня всё хорошо, Погода - мороз.
- Ну, скажи мне, что - нибудь...важное.- Вдруг серьёзно попросил Макс.
- А что?- Хихикнула Ольга от неожиданности.
- Что-нибудь, самое главное для тебя.
Ольга замолкла на минуту.
- Ты первый. Сначала ты.
Макс помолчал тоже.
- Хорошо, пока. Надумаешь- скажешь. Давай....
- Пока.- Грустно ответила Ольга и тупо слушая телефонные гудки, смотрела на свадебный портрет сестры и её мужа, стоящий возле телефонной базы. Они оба были такие счастливые и молодые, что у неё молча потекли слёзы. Потом её затрясло.
- Не сломаешь ты меня!- Крикнула Ольга в телефон и бахнула им несколько раз об стену.
В дверь позвонил Женька. Ольга бросилась ему на шею, встретив его с такими зарёванными и безумными глазами, что ему стало не по себе.
- Ты чего! Лёлик!- Вскрикнул он, и пакет с едой из супермаркета, выпал у него из руки.
- Не отдавай меня!- Затараторила Ольга.- Никому, никому не отдавай. Я боюсь. Я не хочу!
- Да кому, да что ты...Да не надо, Лёлик! Девочка моя, не надо, не реви! Никому, никогда...
- Не "никогда" , а не отдавай, просто держи меня...я могу...я могу...
Женька схватил её на руки, разулся и прошёл в спальню. Под утро Ольге приснился сон -как она сидит во дворе, на даче, и вдруг- синяя мохнатая птица падает ей в колени с небес. Она прижимает её к себе- это птица счастья! Открыв глаза Ольга видит золотые локоны Женьки, его спину. Ей так хочется снова заплакать!
Прошёл месяц. Ольга заболела гриппом. Лежала в стельку. Мать приехала ухаживать за ней. Тут же и познакомилась с Женькой, не покидавшим Ольгу. Женька, правда, матери понравился, но был моложе Макса на год. Итого, с Ольгой -пять лет разницы. Конечно, по её девчачьему виду нельзя было сказать, что ей двадцать четыре. Максимум - восемнадцать. Казалось, что и мозги у неё были ещё совсем юные от опеки родителей, от её личной прирождённой осторожности.
Но настроение у Ольги резко ухудшалось. Она стала видеть истинное Женькино лицо, невидимое доселе в порывах первой страсти. Женька приносил только то, что любил сам. Сам приносил - сам съедал. Спал, занимался с полуобморочной Ольгой любовью, которая была бесцветна и жалка, и поутру упархивал на своей красной новенькой "десятке", подаренной мамой - бизнесвуменшей, на учёбу.
Ольга, пребывая в почти бессознательном состоянии , запёкшимися от температуры губами шептала, что не хочет секса, но Женька был неумолим, молод и скор.
Мать Ольги, сообразив вскоре, что дочь идёт на поправку, уехала на дачу. Женька продолжал приезжать - уезжать, есть - спать. Хорошо, что за месяц их знакомства они ходили в кино, гуляли, танцевали по ночным клубам. Это было, да. Забойно. Сейчас Ольга вспоминала, как ей было здорово, на гребне волны...на гребне отходняка от Макса...
- Главное, чтоб меня не прибило к тому же берегу, обратно...- Думала она, ничком лёжа на постели.
Между тем, болезнь отпустила. Но новые мысли, тягостные и неясные томили голову Ольги. Задержка. Три, пять, десять дней. И это уже не болезнь...На грипп не спишешь. Просчитав всё в уме, Ольга догадалась, что беременна. То, что отец- Женька- вне всяких сомнений. Но с Максом ещё не решено. И не порвано.
В марте Женька свозил Ольгу к себе на дачу. Он очищал дорогу перед домом, кидал снег весело и беззаботно. Ольга улыбалась, но, как только по радио начинали крутить душещипательные песни, слёзы лились из глаз. Ей всё время хотелось есть и спать. Не было сил. Наступающая весна возвращалась тяжело, отходя с метелями и вьюгами. На даче у Женьки, в Тучково, они провели два дня, ни разу не включив в доме свет. Поутру решили выползти на улицу и пройтись. Как только отделились от дома, раздался звонок.
- Как твоё ничего?- Спрашивал Макс.
Ольгу передёрнуло.
- Всё хорошо. Наступает весна.
- А я получил зелёный берет.
- Я рада за тебя.
- Я скоро приеду...
- Когда это - скоро?
- Летом...
- До лета ещё дожить надо...
- Хе..хехе...
- Ладно, я в метро захожу, сейчас отключусь.- Говорила Ольга, косо подглядывая за Женькой, откидывающим с машины снег.
- Ну скажи мне что- нибудь...важное...
- Мне нечего тебе сказать.
- Пока.
- Пока.
Женька, увидев переменившееся Ольгино лицо, но, плохо зная смысл подобной перемены, как и её саму, спросил :
- Кто звонил?
- Брат стал кадетом.
-О, родной?
- Нет, двоюродный.
- Круто!
И они, уже молча,гуляли...
Прошло ещё две недели. Ольга погнала Женьку в аптеку за тестом на беременность. Ещё ночь не прошла, как Ольге приснился сон. Бикфордов шнур - а в конце- вспыхивает свеча.
- Я беременна.- Думает Ольга, проснувшись.- Я - есть.
Тест отвечает двойной сплошной.
Несколько дней Ольга не могла прийти в себя. Это было чудо. Действительно, чудо. Конечно, она хотела родить, но это было так далеко- а теперь- вот оно, близко, здесь! Она станет мамой...И всё зафонтанировало галлюциногенно - яркими цветами. Но главное- Женька рад! Рад. Женька.
Он, как дурак, как молодой дурак - рад, что будет отцом. Он строит планы, а её сносит. Ей плохо. У ней адски болит голова. И от боли она сворачивается клубком- потому что нельзя пить обезболивающие. А голова болит каждый день, крышесносительно болит, до припадков.
Это всего - лишь токсикоз, но в нём Ольга страшна.
- Я не люблю тебя! Ты жадный!
Да, Женька страшно жадный. Скупой, глупый, ограниченный.Но она этого не видела ещё недавно на гребне волны...Она любовалась им. Его красотой. Его статью. Его прелестью.
Его мама - огромное, жирное, расплывшееся чудовище под два метра ростом, только и может что жарить сырники без соли и сахара. Она не выпускает мужа из комнаты, она работает - а он сидит дома и " воспитывает сына"
Он воспитал сына...Капризного, эгоистичного, хамовитого. Сына, который с тринадцати лет занимается поддержкой и созданием порносайтов в Интернет. А мама этого сына сделала своё состояние на том, что содержит сеть общественных туалетов. И от неё пахнет синей кабинкой, потому что она от неизмеримой торгашеской жадности сама стоит на холоде, и на входе в свой "райский домик"
Всё это Ольга узнала после. После того, как забеременела, после того, как опустилась на землю. А прошло всего три месяца.
- Уходи. Это не твой ребёнок и замуж я за тебя не выйду.- Однажды, спокойно говорит Ольга.
Женька спокойно уходит, предварительно предложив денег на аборт.
- Пошёл вон!- Кричит ему вслед Ольга.
- Ты ещё приползёшь ко мне!- Отвечает Женька и уезжает.
Весна нежно оперяет клёны и липы. Идёт неспешно и чарующе. Ольге уже легче, потому что отпустила голова.
Мать неожиданно предлагает поехать к бабушке. Ольга вздрагивает.
- Я не верю, что ребёнок Женин. Это Максов ребёнок, и он его примет. Макс благороден.- Говорит мать.
Ольга, как за соломинку хватается за эти слова...Да, её опять прибило к этому берегу...Где взять сил - чтоб оторваться?
Женька пропал. Ольга не звонила, не писала. Но зато позвонил Макс.
После расставания с Женькой, Ольга написала Максу письмо полное намёков, и теперь, первое , что спросил он, было, придумала ли она имя.
Это был рационально продуманный вопрос от которого Ольгу опять возмутительно передёрнуло.
Но она не сказала ничего. А просто поехала к нему.
Встреча их ничем не отличалась от предыдущих. Такой же рассеянно- тревожный взгляд Ольги, измученной токсикозом, такой- же, холодный и чуть улыбчивый вид Макса.
Ничего не изменилось и в том, что он дозировал свидания. И из десяти дней, что Ольга была в деревне, пришёл к ней лишь пять раз. По разу в два дня. На пару часов. Он даже не спросил откуда дитя, не поглядел в её глаза, не признался в своей радости. НИЧЕГО! Это не Женька, который радовался, прыгая и кружа её на руках, который, как быстро загорелся, так и погас...Но он был такой живой, а этот...
Мать Ольги качала головой в недоумении. Снова из Ольги ушёл и цвет, и радость. Осталась одна грусть. И всё это делал Макс.
Поэтому и уехали они, безбольно простившись. Макс обещался приехать поступать в июле...
Как то утром, в конце мая Ольга почувствовала первое шевеление малыша. Он, словно проплыл с левой на правую сторону живота. Ольга улыбнулась и схватилась за чуть округлившийся живот, чтобы поймать это милое ощущение, до того нежное, до того прекрасное! Ничто другое из ощущений не могло сравниться с этим... До июля она избавилась от токсикоза.
Макс приехал рано утром с половиной индюка в сумке. Привёз кое -какие вещи, большинство из которых были подарены Ольгой. Глаза его бегали. Он приехал жениться. Ольга уже не оставалась одна, и мать всё время была рядом.
Макс не притронулся к Ольге, хоть и спал рядом. Хоть и не виделись они полтора месяца. Ольга решила, что это от живота, который уже поднялся на кулачок. Макс иногда смотрел на то, как Ольга суетится, пытаясь приготовить ему что-нибудь вкусное, как её мутит от еды. Но не понимал, что можно и помочь ей в этом.
Он брал её с собой, по страшной жаре , в качестве проводника по институтам, в которые намеревался поступать. Но он везде опоздал, и теперь его ожидала армия. Или работа.
Работать же Макс не хотел. Он боялся, что однообразная жизнь и быт станут на него плохо влиять. По натуре она оказался одиночкой и барином. Ему следовало всё подавать, ухаживать за ним, бесконечно выражать восторг его действиями. Он любил себя похвалить и пофанфарониться. Вот теперь Ольга на всё его безжалостное к ней поведение глядела с тоской. Одна мать устроила Максу головокружительную взбучку, однажды попросив его помочь и услышав в ответ : "Я здесь пока не хозяин!"
- Ах, пока!- Взвизгнула мать, не глядя на Ольгу, глаза которой округлились от ужаса.- И не будешь! Петух щипаный!
Макс, услышав несвойственное ему прозвание покраснел от гнева, сжал кулаки, и замолк. Под скулами его заходили злобные желваки...Ольга увидев это, чуть сознание не потеряла и наорала на мать.
Через неделю, когда они все вместе ехали в поезде в деревню, чтобы Ольга побыла на свежем воздухе, и навестить бабушку, мать опять пропесочила Макса прямо в купе. Тот вскочил и вышел вон.
Ольга побежала за ним. Безжалостный Макс стоял отвернувшись к окну. Он ненавистно вцепился в поручень так, что костяшки на его кулаках побелели. Ольга умоляла не злиться на мать, но он не слышал.
По приезде в деревню, Макс ушёл к себе домой, на другой конец. И больше не приходил.
- Вот вся его любовь! А ты, дура! - Говорила мать Ольге.- Обиделся, испугался! И на ребёнка плевать!
Но Ольга, понимая её слова, всё-таки боялась думать о том, что Макс больше не вернётся.
Это было для Ольги лето полное надежд и разочарований. Но всё - же она не думала ни о ком, кроме малыша, который не давал ей спать по ночам, просыпаясь в два часа ночи и методично стуча ногой в одно и то же место.
- Забивает гвозди...- Думала Ольга, улыбаясь, а на деле ей было не до смеха.
Макс пришёл через неделю после их приезда в деревню. Они жили всего в полутора километрах друг от друга, но Макс выдерживал Ольгины нервы. Он пришёл к вечеру, как всегда, когда она сидела возле дома на скамейке и ждала его. Можно было сказать, что сегодня дождалась...Он явился из леса, по которому шёл, чтобы избежать лишних разговоров, словно тайно. Сел рядом с Ольгой, сухо поздоровавшись, зачем-то достал маленький фотоальбом и стал показывать девушек, разных, но Ольге незнакомых.
- Это моя одноклассница, это моя однокурсница...это...так сказать...хехе, подруга боевая...с курса параллельного.
Ольга смотрела в альбом, иногда взглядывая на Макса. Он так и продолжал её не видеть. Ольга задрожала изнутри, обняла руками живот.
- Ты останешься?- Спросила она тихо.
Он вскинулся.
- После того, что устроила твоя...мать? Нет, не останусь!
-Но нам -же, как-то надо жить...вместе...
- Приходи ко мне.
- Куда? - В ужасе спросила Ольга, вспомнив Максову мать.
- Сестра купила соседний дом. Там пусто. Я там делаю ремонт, там и поживём.
- Но там нет, наверное, ни воды, ни...ничего...
- Да, нету. Но с милым - же рай в шалаше...- Противно ухмыльнулся Макс.
Ольга опустила голову. Макс, вскоре, ушёл, так и не спросив, как она, как мылыш.
Две недели она не видела его. А лето шло своим чередом.В бору Ольга собирала грибы, но каждый поход в лес для неё был мученьем, состоящим из раздумий. Конечно, они ни к чему не могли привести. Вся деревня открыто издевалась над её незавидным положением, что она не увидела сразу, что нужно Максу от неё. А теперь ему нужно было поссорить её с родителями и занять их квартиру в Москве, чтоб претворять в жизнь свои планы. Ольга не могла верить в это, хотелось думать о добром, о малыше, непрестанно стучащемся в животе, о том, как он будет расти и радовать её. Но увы, мысли грустные перекрывали радость. От девчонок - соседок, ходящих на танцы в клуб, Ольга узнала, что и Макс появляется там каждый вечер. Пьёт, гуляет...А жить перешёл в пустой дом...Туда к нему приезжают однокурсники из города и там же они пьют. Сестра Лариса сказала ему- гуляй, ты молодой...И он гуляет, и не навещал её уже давно...
После этого Ольга не могла прийти в себя. Тупо смотрела в землю, шагая босиком по раскалённому песку, укрывавшему дорогу к речному пляжу. Беззащитность её и слабость были очевидны. Веки опухли от бесконечных слёз, а глаза вечно были красны и полузакрыты. Ольга не снимала чёрных очков. Ей было жаль, что она ушла с последнего курса института, что не может работать, что она - никто...Она доводила себя до положения полного ничтожества, да ещё без мужа, без денег, повисшего на шее родителей, но сделала над собой невозможное усилие и однажды, пошла в сторону Макса, под предлогом прогулки. Идти она хотела мимо него, но он, как будто чудом её увидел, выскочил из дому.
Ольга глянула на него полными слёз глазами. Макс, жалкий и отчего-то напуганный, заглядывал под её соломенную шляпку, натянутую по самые глаза, чтоб их никто не видел. Она была в отчаянии. Он был нетрезв, крепко взял её за руку и потащил в дом, где от запаха перегара можно было топор вешать. На пороге им встретилась сестра Лариса, толстая некрасивая и прыщавая полугрузинка, крашенная "Супрой" в белый цвет, с которой когда-то Ольга дружила, когда не была беременна и обещала познакомить её с каким-нибудь московским парнем.
- Привет! Кто явился!- Нахально сказала Лариска обнажив чёрные от "Примы" зубы.
Ольга отвернула голову, Макс цыкнув на сестру, попросил её уйти. Та без удовольствия повиновалась. Но остался Максов друг, к которому Лариска безрезультатно кадрилась. Друг от Максовых слов тоже вышел.
В комнате ничего не было кроме двух кроватей и табурета, на который был настелен щит из сколоченных досок, а на нём стоял самогон в бутылке местного самоназвания типа "Херша" - полтора литра и стаканы обсиженные мухами. Ольга, усевшись на другой табурет, который Макс принёс из сеней, зарыдала, закрыв лицо руками так сильно, что Макс не смог их оторвать. А когда оторвал, принялся глядеть на Ольгины заплаканные красные, бездумно несчастные глаза.
- Не плачь только.- Заплетающимся языком говорил он.
Ольга тряслась, как лист на осенней ветке, руки её дрожали, пережатые по запястьям руками Макса. Но понемногу она пришла в себя.
- Я уеду...через два дня. Мне...мне здесь нече-го де-лать...Зачем я тебе верила...Зачем я тебя слу - шала...Какая я была глупая...- Прерывисто шептала Ольга, глядя в пол.
Макс выпил прямо при ней, занюхал хлебной коркой.
- Так, значит, да?
- Да...так...
- А то что я не могу жить с твоими родителями - это для тебя ничего не значит? - Спросил он злобно.
- Раньше мог...когда я не была...когда не было малыша...Ты ел и пил, спал у нас...
- Они себя ведут так, как мне не нравится.
Ольга попыталась встать, но он грубо её усадил назад.
- Знаешь, подожди, не уезжай...Уедем вместе в конце месяца.
- Нет. Я уеду через два дня.
Он посмотрел на неё давно забытым взглядом. Как смотрел когда-то, очень давно, когда был, наверное, немного влюблён. Он водил глазами по её лицу, отпустил её руки и она немного успокоилась, перестала всхлипывать.
- Ну, хорошо...Ты поезжай. А там мы решим , как будет.
Ольга кивнула. Теперь, о, как - же поздно поняла она это...он её совсем не любил. Горевала она напрасно...Недаром же, сидя одиноко по ночам на веранде и вспоминая прежние годы она уговаривала малыша не толкаться...Говорила ему, что у него не будет папы.
Так получилось, что после той встречи он явился только для того , чтоб проводить её в Москву. Они пошли прогуляться в последний вечер по спящей деревне, бродили по старым местам, где рождался когда - то их роман. Но Ольга слышала от него только его- же интересующие разговоры...
- А теперь я тебя оставлю. Мне надо в соседнюю деревню съездить, сейчас за мной приедут. Слышишь - мотоцикл?
До дома оставался километр- не меньше.В десяти шагах начиналось кладбище.В тёплом и чёрном августовском небе проносились мерцающие метеориты. В траве истошно цвиркали сверчки. Темнота облепляла предметы.
- А...а как я дойду домой? Ты меня сюда привёл, чтобы уехать...
- Ну, по пути...Заодно и прогулялись.- Разумно подтвердил Макс.
- Я боюсь идти. По улице собаки сейчас бегают.
- Ладно, я провожу тебя.- Раздражённо сказал Макс, и они пошли, не держась за руки, по тёмной улице.
Придя к её дому, он постоял, прислушиваясь к далёкому рокоту мотоцикла.
- А что у вас там за дела?- Равнодушно уже, спросила Ольга, поняв всю клиничность ситуации.
- Да так, другу надо помочь...прессануть кое-кого.- Деловито сказал Макс, засовывая руки в карманы .
- А, ясно. Проблемы из-за девушки...
- Да!
-Ну, так иди...
- Правда?- Весело спросил Макс, и потянулся обнять Ольгу на прощание.
- Правда. Дуй, защитник.- Ответила она, оттолкнув его в грудь ладошками.
Макс, нисколько не огорчившийся, ушёл в ночь. Свободный, радостный. Ольга уедет поутру. И он не придёт больше. А ей рожать через месяц. Свободный, радостный Макс.
Когда у неё болел зуб, мать принесла котёнка. Чёрного, гладкого. Котёнок Ольгу успокаивал и забавлял своей игрой. Думали, это мальчик, но развернув ему ноги, Ольга углядела, что нет, девочка. И назвали котёнка Аськой. Аська была подругой Ольги, верной, как никто другой. Топорща уши, заложив их назад и прыгая на криво изогнутых передних лапах, а задними взлягивая, дрожа стоящим от гнева хвостом, Аська накидывалась на растопыренную ладонь Ольги, засыпала, обмякнув, у неё на животе, урча до всхрюкиванья.Сейчас подросшая Аська сидела на крылечке и ждала Ольгу.Увидев её, она лёгким прыжком,опершись на выступающий живот, скакнула ей на плечо и стала тереться мордочкой за ухом.
- Радость ты наша единственная...- Прошептала Ольга, но поймала себя на мысли, что плакать больше не хочет
По кому плакать...По этому конченому придурку? Ей стало стыдно за себя и она ушла спать.
Ольга прикладывала Аську к болящему, до обморока, зубу, и засыпала, чтобы проснуться ночью от ударов малыша в животе. Последний месяц перед родами, она провела на даче с отцом и матерью, в Подмосковье. Забиралась на сенник, с кошкой, под полиэтиленовый тент, клала её на живот и учила малыша понимать кошачий язык, а сама глядела на сентябрьскую морось, на увядающие деревья, на огород, с которого уже всё убрали. Думалось изредка о том, почему эту дикую расправу Судьба свершает с ней именно сейчас, когда в ней- малыш, которого она ни за что не хочет потерять...Ведь теперь это только её малыш.
Макс замолк. Не звонил, не писал. После первого же медосмотра и УЗИ, Ольгу заперли в роддоме, в отделении патологии беременных. Одну в четырёхместной палате.
Мать от расстройства , что с Ольгой может что-нибудь случиться попала в кардиологию. Так они обе и лежали в больницах...Ольга так и не пополнела, как все беременные. Живот у неё был маленький и прятался под одеждой. Наступил октябрь. Ольга в своей палате после синестрола с эфиром уже перетанцевала, перепела и перерисовала всё, что было можно...Она старалась быть весёлой и развлекать себя. Научилась вязать и шить, вышила малышу рубашечки, рисовала пастелью виды за окном. Но это оказывались морские дали и корабли по горизонту. Она нарисовала несколько портретов, до того удачных, что на них сбегались посмотреть санитарки, доктора и медсёстры. Всё равно, Ольге казалось , что её заперли сюда надолго, но выписка пришла неожиданно.
Погуляв на свободе десять дней, Ольга опять попала в роддом. На этот раз её положили на сохранение с подозрением на поздний выкидыш.
И вот наступил день, и вечер, и ночь...И она уже в "родилке"
Бежала сюда почти вприпрыжку, думая, что встреча с малышом близка. Ольга теперь уже знала, что у неё будет дочка и радовалась от этого ещё больше.
Счастье захлёстывало её. Лёжа на своём "прокрустовом ложе", обтянутом клеёнкой, Ольга уже сбила всю простынку, переворачиваясь с боку на бок. Наконец, не в силах лежать, она встала. Всё так же в вене сидела игла капельницы. Ольга думала пройтись по коридору, но капельница не проходила в дверной проём. Ольга, с этим забавным посохом ходила по боксу минут двадцать.
" Воспоминанья слишком давят плечи.
Настанет миг - я слёз не утаю.
Ни здесь, ни там - нигде не надо встречи.
И не для встреч проснёмся мы в Раю..."
Пришли ей в голову именно эти цветаевские строки. Беременные, наверное, бывают сентиментальными. Живот опустился и малышка притихла. Она "собрала вещи".
- Давай уж, порадуй меня, родись сегодня, я уже устала ждать с тобой встречи...Я сгораю от нетерпения увидеть тебя...Собирай вещи...- Приговаривала Ольга, гладя живот и натирая кулачком поясницу.
Схватки были долгими, но несильными. Из - за чувства сбывшейся мечты, невероятной радости, Ольга чуть не пропустила самый интересный момент. Когда в бокс вбежала акушерка, Ольга, улыбнувшись, ответила:
- Я сейчас не успею вскочить на кресло, и вам придётся ловить малышку на полу!
Действительно, утро было сладким и для врачей, и для остального медперсонала. Но слаще всего оно было для Ольги, когда легко разрешившись своей двухкиллограмовой малявочкой, она блаженно улыбалась, трогая её маленькие пальчики, не больше спичек.
- Счастьице моё...- Говорила Ольга неслышно, разглядывая новорождённую, лежащую у неё на груди.- Какая ты маленькая!
- Недоношенная!- Отрезала медсестра-акушерка.
- Неправда! Доношенная. Просто - маленькая...
- Ладно, давайте её в кювез возьмём.
- Почему?- Испуганно спросила Ольга.
- Потому что она недобрала сто грамм веса. Маленькая.- И с этими словами ушла, унося малышку.
Доктор Татьяна Александровна, позёвывая вошла в бокс.
- Ты чего это...Уже? Мне пять минут назад сказали, что у тебя потуги...Родила уже?Вот тебе телефон, звони своим, обрадуй.
Ольга, слабо улыбнувшись, набрала номер сестры и сообщила о рождении малявки, чтоб с матерью от доброй вести не случилось чего.
Доктор зашила разрывы, ещё подрёмывая и не дожидаясь действия ледокаина. Ольга слабо попискивала и предлагала сделать ей ещё один пирсинг. На животе, ушедшем с рождением малышки, красовалась маленькая серёжка.
Татьяна Александровна качала головой и улыбалась настроению Ольги.
- Вы сумасшедшие беременные. Все с заездом. Гормоны что ли так на вас действуют. Не дрыгайся!- Говорила доктор аккуратно работая иглой над Ольгой.
Минут через пятнадцать около пяти утра, все ушли и оставили Ольгу в темноте, укрыв её одеялом и позволив прийти в себя. Но сон даже после этих тяжёлых суток не шёл к ней.
Игла давно прокапанной капельницы так и сидела в руке.
- Вот блин...- Удивилась Ольга, вытаскивая её.- Забыли...
.Два часа она следила за тем, чтобы лёд не растаял на животе, а как только её отвезли в послеродовое отделение, одела на себя халат, и подпоясавшись роддомовской пелёнкой цвета " хаки", пошла в отделение патологии за вещами.
Было время завтрака. Девчонки, соседки по палате, только вернулись и увидели Ольгу.
- А где твой живот?- Вскрикнули они все вместе.
- Живот в кювезе. Он - девочка.
Рассказав свою замечательную историю, Ольга взяла вещи и ушла на второй этаж.
Малышку она могла видеть только в кювезе, в круглое окошко, просовывая руку, чтоб погладить её маленькие ножки.
Ольга разглядела сразу, что малышка похожа на Женькину мать, на самого Женьку, на саму Ольгу, на Ольгину бабку, на всех понемногу. Нежность переполняла её к этому новому человечку, к которому теперь надо было привыкать...Возле кювеза и застал её звонок от Макса.
- Ну, как? Я уже стал папой?- Спросил он обыденно.
- Папой? - Усмехнулась Ольга, поглаживая дочкину пяточку.- Папа- это не тот , кто делает, а тот, кто воспитывает и растит...Может быть, ты когда - нибудь и станешь папой...Для кого- то.
- Всё - таки...
- Я родила девочку. Это всё. Разговаривать не могу.
И Ольга нажала на "завершение вызова".
- Нахрен таких пап...- Шепнула она про себя.
Малышка спала, посасывая нижнюю губку, за окном ложился первый снег.
Касатка
Отец звал её "касаткой" и только в школе она с удивлением поняла, что это страшная акула, которая ест пингвинов, и может даже проглотить и тюленя.
Очень долго не приходило голову почему тогда она - касатка, ведь никого никогда не ела, ни на кого не злилась. И не догадывалась же, что касатка - просто ласточка, как их обычно называют по деревням.
Нет, сравнение со страшной акулой было куда интереснее. Наверное, так же она упрямо цеплялась за малейшую возможность выжить в этом мире, когда осталась совсем одна, а ей помогали люди, простые люди, добрые. Помогали, потому, что в то время ещё хорошо помнили войну, сцепку сердец и единство душ, необходимых для Победы.
Касатка думала тогда о том, что, вот, уже нет войны, и это отлично...хотя, ведь все дети мечтают о ней, и перестать мечтать о войне- значит, совсем вырасти.
Её отец, тоже прошёл войну. И он, двухметровый черноволосый красавец сидел сейчас над ней с бутылкой плохого вина и плакал горько.
А она -то ничего не сделала, только проглотила чемеричную воду, спутав её с материным сладким "Холосасом", и, хотя и могло это плохо кончится, ей повезло.
Мать, забрав брата Петьку, сестру Людку, умчалась как раз три дня назад, когда её, Касатку, увезли в больницу.
Она тогда лежала на заднем cиденье отцова чёрного роскошного "ЗИМа", и он спасал её, вёз в больницу. Мать убежала от него в тот же день, воспользовавшись тем, что они уехали.
Когда касатку Томочку выписали, отец привёз её в пустой дом. Здесь немецкая мебель, трофеи отца, и библиотека, и напольные часы, и зеркало в пол, в котором так любила красоваться мама...
Но сейчас, касатка лежит на постели, на чёрном кожаном диване, совсем жёлтая на лицо, с потухшими мутно- зелёным глазами.
Всё лицо её заострилось, она стала худой, как тростинка, а ведь ей скоро двенадцать лет, когда подростки и так не блещут красотой...
Отец завесил большую круглую лампу с зеленоватым плафоном на мощной ножке в виде двух обнимающихся бронзовых ангелов. Томочка от этого света совсем непонятного цвета. Она молча лежит на спине, под атласным одеялом и слушает отца.
- И никогда- то я не обижал её. Не трогал и пальцем...и не обижал, скажи вот мне, как она так сделать - то могла?
Томочка молчала и только слушала, как часы стучат в пол и иногда бьют. С улицы в окно молотил непереставаемый ноябрьский дождь.
Действительно, он маму не обижал. Но чья в том вина, что мама вышла за него без любви? Он был первый, кто въехал на танке через кирпичную стену лагеря в Хемнице. Он порвал эту распроклятую колючую проволоку, которая окружала их маму, освободил её, увидев в толпе худых прозрачных девчонок. Она глядела на него прозрачно - голубыми русскими глазами, кокетливо поправляя волосы и платье, волнующееся вокруг колен в тот памятный майский вечер, когда русские громили Германию в припадке упоения собственным возмездием.
Маму, которая ему до груди едва доставала, он на руках носил по всему городу, а она заливисто смеялась, уже забыв про лагерь, про голод, про свою несчастную судьбу...И теперь он виноват в чём-то.
Томочка его не просто как отца любила. Он для неё был прежде всего воин, освободитель. Только одна Томочка знала о том, что мама была в лагере. Это случилось так же, нечаянно. На стене висела немецкая картинка времён "Либенсборна", агитка, с обнимающейся парочкой, и на ней - уходя на войну, роди ребёнка, по- немецки было написано. Томочка на эту арийскую карточку глядела с умилением, такие красивые ей казались эсэсовский офицер и юная, светловолосая девушка. И из-за умиления она сняла со стены эту картинку, стала разглядывать и обнаружила, что наклеена она на какую-то фотографию с надписью на обратной стороне - "После пребывания в лагере. Июль45 года"
Почерк был мамин, но на фото сидела, какая-то чужая женщина, круглолицая и темноволосая, в белом берете, с тонкими ногами и костлявыми пальцами правой руки, подпиравшей голову. Левая рука, лежащая на чёрном платье, была оторвана вместе с присохшим клеем. Это была мама. Тогда ещё двадцатилетняя... После того, как мама узнала о Томочкиной проделке, был разговор с отцом.
- Пойми, об этом никто не должен знать. Никто и никогда, слышишь? Это мамина и моя тайна, она может нам стоить жизни, когда мы вернёмся в СССР. Никогда не говори об этом никому. Слышишь, касатка?- Дрожащим голосом вещал отец, посадив её на свои высоченные колени.
Касатка утвердительно кивала, улыбалась, и так никому и не сказала.
Вот теперь она думала об этом чаще, когда они приехали в СССР.
Одного искренне только не понимала, почему разрушенная, растерзанная Германия, где немки нанимались нянями к русским "фрау", где у мамы была своя прислуга, няня у Людхен, Томочкиной сестры, а военнопленные мужчины строили русским дома по всей России, так быстро встала на ноги, отряхнулась и не вспомнила своего поражения, отнюдь, не позорного, а достойного, ибо была поражена великой державой...А великая держава, СССР, всё ещё была наполнена нищетой и голодом, клопами и вшами. Миллионы трупов гнили по лесам и рекам, брошенные воины, у которых погибли семьи, которых некому было прикопать, тянули из земли то руки, то ноги, глядели из блиндажей и землянок, поверх трав и колосьев пустыми глазницами, и коровы, пасясь на лесных выгонах подскальзывались на их черепах...
Это было тогда обычное дело- пойти в лес за грибами а найти с десяток погибших. И Томочка боялась ходить в лес.
Германия встала на ноги, а СССР, со стоном только поднималась из руин, отряхиваясь от грязи и крови, которую сытые "бундесы" сеяли щедрее хлеба на русской земле. И Томочка, и её сестра и брат, откормленные в Германии хорошей едой, розовые и толстые, приехали на отцову родину через одиннадцать лет после войны, когда Сталин не только умер, а когда его уже закопали, перенеся из мавзолея.
Томочка вспоминала с ужасом, как они приехали в Оренбург. Но то были ещё цветочки. Отцова деревня, лежащая у подножия Уральских гор убила её на месте. Сперва её подняла на рога корова, которую Томочка назвала "большой собакой" и собралась погладить. А после и бабушка добавила ещё худших впечатлений.
Бабушка Христина, отцова мать овдовела в двадцать пять лет и осталась с тремя сыновьями на руках.
Мужа её, белого казака, однажды вывели за деревню красные и с тех пор его никто не видел. Говорили, что вниз по течению Сакмары, уже через полгода, нашли бочку, а в ней бабкиного мужа. Вот такой у них царь Гвидон неудавшийся получился...После этого бабка уже больше никогда не сняла траур.
Одевала на свои пять юбок чёрное платье, чёрную кружевную косынку, и, поджав губы, никого не замечала, ни с кем не говорила. Работала только по найму, да вязала пуховые платки.
Так и вырастила сыновей. Томочкин отец был младший, а потому самый любимый.
А ведь любимым хочется всегда хорошей, доброй судьбы...
Нашла ему бабушка Христя и невесту. Добрую девушку, из своей деревни. А он, вернувшись с войны, привёз Аню.
Все Анины дети были для бабки нелюбимыми. Она мгновенно перегородила хату, разделив дом надвое.
- Клята детина! - Кричит она на Томочку, которая приходит к ней попросить соли.
Аня с детьми была вынуждена сажать огород и питаться скудно и голодно, ведь бабка запирала погреб, и иногда маме приходилось воровать у неё картошку, чтобы прокормить детей.
Отец иногда стонал, хватаясь за голову: "Зачем, ну зачем я вас привёз сюда! Ну, какая это родина!"
Мать качала головой и горько кривилась, слыша, как за стеной бабка привечает отцову неудавшуюся невесту, а та, звонко разговаривает, чтобы он слышал...да жалел.
Куда теперь деться Ане- в двадцать пять у неё уже трое детей...Вот и всё.
Томочка вспоминала, как они ,наконец ,съехали от бабки в город Кувандык.
Тут отец устроился лучше. Работает, получил майора, ходит в профилакторий...
Мать только печальна. Она всё грустнее с каждым днём. После Германии она тут плачет чаще. Перед тем, как въехать в новый дом, они две ночи спали на улице, а мать ходила по дому и жгла свечкой клопов, от которых все стены были черны.
Нет. Не думала она, что так будет. Что при трёх детях станет работать в ночной кассе на вокзале, что ей нечего будет есть и она продаст все свои "трофейные" подарки...
А отец стал выпивать. И однажды не пришёл домой.
Потом не пришёл ещё раз, и ещё. Мать молчала. Выясняла с ним отношения вполголоса, шипя. Томочка, подглядывая в щёлку, видела, как мама шипит на отца, чтоб не слышали дети.
- Твоя...паразит...без ножа режешь...- Раздавались обрывки её фраз.
Отец, хмельной, красивый, сидел, закинув ногу на ногу, блестя нашивками на кителе, под алым абажуром, мял папиросу в сложенных крест- накрест руках и кивал головой...Дым уходил вверх. Мама отмахивалась, ходила перед ним и шипела. Так они ругались.
Людхен всегда была сама в себе. Никто её не интересовал, кроме книг, которые она глотала просто. Томочку она всегда подковыривала. Обижала, потому что была старшей. Петюнчик, по крайней подлости характера никогда Томочке другом не был. Он мог запросто предать, оговорить, наябедничать...Нет, дурным он был человеком...
Но как- то раз и этот дурной человек пригодился.
В городе, Томочка, в одиннадцать лет, уже ориентировалась спокойно. Все его пыльнющие грязные улицы она знала. Знала лазейки и переулки, тупики и подворотни. Справа живут татары, у них дом здоровенный, помещицкий. Томочка была в гостях у одноклассника, который из их семьи. Там вообще мебели нет. Весь дом пустой! Только в одной комнате матрацы сложены в кучу.Они их ночью стелят, а днём убирают! И бабы там моются на улице из серебряного кувшина. И писают там же, среди двора...
Слева живёт отцов водитель Небейбаба.Да, и жена у него- Небейбаба.Вот сегодня Небейбабина жена у мамы. Они хохочут и стригутся на терасске, грея чайник на примусе. Томочка слышит их смех, примус и топотанье маминых каблучков, глухое, по доскам, за стеклом веранды.
Летний день зноен. От мух спасу нет, они лезут в глаза, присасываются к ногам. Петюнчик, толстый, пыхтящий, таскается за вёрткой тоненькой Томочкой, которая тоже изнывает от жары в плотном фланелевом платье, чулках и чёрных башмаках. Что ж, выбирать не приходится.
Они идут к профилакторию, где уже два дня находится отец.
Профилакторий в двух кварталах от них. Аккуратно выкрашенное белое двухэтажное здание за зелёным штакетником, и окна, все распахнуты в сиреневую поросль. Это должен быть рай для военных. На крыльце, тоже выбеленном ,стоят две весёлые медсестрички и курят.
Томочка вытягивается на на носках, заглядывая через тын штакетника.
- А позовите папу!- Тянет она.
Медсестрички не видят, курят, болтают.
- Тётиньки,- Повторяет Томочка.- Папу позовите!!!
Медсестрички улавливают взглядами и сопящего Петюна за её спиной.
- А кто твой папа, девочка?
- Майор Николай Гречанов. - Отвечает она с гордостью.
Медсестрички шепчутся, снова не замечая Томочку.
- Папу позовите.- Настойчиво повторяет она.
- Нету его сегодня.- Получает ответ.
Томочка слезает с нижней перекладины штакетника, смотрит в землю, на Петюна.
- Пошли домой.- Пыхтит он, раздувая щёки.- Жарень -то какая.
- Пошли. Нет, пошли кругом. Пройдёмся.
И они уныло бредут, друг за другом, свесив головы, а Петюн ещё и пыль загребает.
Дом за домом, двор за двором. Вдруг...папин смех. И ещё чей-то, женский.
Томочка и Петюн, в непонимании , переглядываются и, будто сговорившись, сигают в заросли лопуха на обочине.
Они ползут друг за другом, как два щенка. Ползут молча до того места, откуда смех слышен отчётливее, и откуда, наконец, виден отец, стоящий на крылечке старого одноэтажного деревянного дома.
Из открытых окошек дома тихонько звучит Утёсов. Вытягиваются ветром голубые лёгкие занавески.
На крылечке отец и женщина беседуют возле приоткрытой двери, а женщина держится за дверную ручку, а отец держит её двумя ладонями за другую руку. Ужас. Они улыбаются, и вот отец приклоняясь к ней, такой же маленькой и темноволосой ,как мама, целует её в губы, три раза... А потом, отец, гремя каблуками сапог,поправляя китель, бежит по ступенькам, идёт на дорогу и мимо Томочки и Петюна, наблюдающих эту картину. В профилакторий идёт!
Заросли лопуха играют, как морские волны в шторм. Там Петюн зажал Томочке рот, и навалившись ей на живот, держит её, чтобы она не вырвалась и не побежала следом за отцом.
- Сколько жить бу...буду...не забуду...предатель...гад, гад...- Шепчет Петюн Томочке в лицо, а сам плачет ей на щёки, трясётся.
Неизвестная женщина запирает дверь, закрывает окошки, подпевая Утёсову...
Петюн отпускает Томочку.
У неё спина вся в пыли, косички, заплетённые чёрными лентами, распушились. Петюн, приходит в себя, сидит, бросив руки между ног, и плачет.
- Бу...ду жи...жить...не за...буду ни...никогда...- Шепчет он толстыми губами.- Бедная мамка, мамка то...
Томочка спокойна. Она сжимает тонкие губки, как бабка Христя. Она сильнее Петюна, но только он помешал ей выскочить из лопухов и молотить отца кулачками...так она хотела...
Вернулись домой они уже вечером, когда стало свежо. На берегу ближнего пожарного пруда Петюн оттёр пыль с платья Томочки, поправил ей косички. Они уговорились ничего не говорить...
Мама суетилась на кухне и слушала, как Людхен читает по-немецки Гейне. Томочка прямо с порога спросила:
- А где папа?- Петюн резко повернув голову, полоснул её предостерегающим взглядом.
Мать, кашлянув, продолжала возиться с подливой для жаркого.
- В профилактории...В профилактории...- Сказала она, не поворачивась, и голос её подрагивал.- Завтра уже придёт. А вы где были так долго.
- Гуляли. Есть хотим. Когда ужин?- Спрашивает Петюн грубо.
Людхен ухмыляется, сидит над книжкой, в очках, грызёт яблоко. Ей плевать на всё.
- Нагуляются где-то и есть потом просят. Вот где гуляете там и ешьте.- Визгливо говорит она своим противным голосом, показывая клыки, которые торчат у неё изо рта, как у молодой бабы -яги.
Томочка, не теряя лица, знает, как в ответ куснуть Людхен.
- Крыса. Фашистка.- Говорит она спокойно и показывает сестре язык.
Людхен вспыхивает и визжит.
- Ма-ама! Она обзывается. Мам!
Мама, обернувшись, обводит их прозрачно - голубыми глазами, и видит только Томочка то глубокое горе, что стоит в них, как вода в колодце.
- А ну, тихо...мыть руки и есть...быстренько. - Говорит она, вытирая руки.
На другой день Томочка знает, где его искать. Теперь он ей враг. Теперь его надо ненавидеть, но она не может, и не хочет. Но надо. Небо затянуто тучами и в душе её так же. И идёт она не к однокласснику Кольке, а к "той тётке".
Вот оно, то место, где вчера они сидели с Петюном. День. Окошки плотно закрыты. Утёсова не слышно. Но ведь и в профилактории папы нет. Сегодня он должен прийти домой, сегодня...
Томочка сидит на корточках, копает пальцами землю, не сводя с окошек и крыльца взгляд. Вчера Петюн помешал, но сегодня ей никто не помешает, пусть ему будет стыдно, за маму, за всех нас!
Вот движение в доме, еле слышный звук шагов. Они подходят к дверям. Он обувается. Тихий хохоток. Шорох.
Томочка чувствует, как внизу живота что-то неприятно зачесалось, внутри, в ногах бегут огненные мурашки. "Не могу, не могу, не могу": шепчет она самой себе.
Вот отец вышел на крыльцо, на дорогу.
Но Томочка вылетает из лопуха быстрее. Бежит, шумно дыша, с повизгиваньем, не видит ничего от слёз, мутящих взгляд. Бежит к дому, от него.
Отец замечает её. То ли от удивления, то ли от ужаса, кричит ей:
- Касатка! Ты что здесь!
Томочка, повернув голову, трясясь от рыданий,скулит, и замечает, что отец тоже бежит за ней, спешит, старается нагнать.
- Убъёт...мама...убъёт ведь...- Думает Томочка и поворачивает голову, чтобы ускорить бег.
Но, словно отец оказался впереди и дал ей в лоб...день потух.
Что-то её качало. Вверх-вниз, вверх- вниз. Дрожащими качками. Руки качали. И не мамины. Мама так никогда...Нос болел, кто-то всхлипывал.
Томочка разлепила веки, и увидела совсем близко отцовы глаза. Большие, чёрные, в густющих ресницах...и со слезами... Она молча глядела в них, подняв брови и улыбаясь.
- Ты ж моё счастье, счастье моё...Что ж ты со столбами-то целуешься. Касатка...Чуть не убилась.
И так ей тогда хотелось лежать на его руках всю жизнь, на пыльной дороге, чтоб так он качал её, сидя на голой земле, прижимая к себе...гад...гад.
Ласточка в окне
Дому уже сто двадцать лет, он стоит на прекрасном зелёном холме, над слиянием двух рек. Перед его дворовыми окнами, две огромные липы, видимо, свидетельницы тех времён, когда в доме ещё текла нужная, правильная жизнь.
Теперь его обрекли на этот неживой сквозняк одиночества. Фасад наполовину окрашен, наполовину - покрыт древней краской, видно, ещё тридцатилетней давности. Мезонин глядит выбитым окном, а крыша облеплена новым сверкающим железом именно в том месте, куда перенесли почту. Правда, почтовому отделению тоже досталось. Много лет оно соседствовало с библиотекой, где от недостатка отопления прели книги, которые сейчас стало некому читать, но, несмотря на это, почта бок - о - бок с библиотекой грелась как-нибудь. А когда последнюю закрыли, да, вдобавок закрыли школу, располагавшуюся в Доме, почта переехала туда.
И вот, весною, Дом принял новую жилицу - полулысую "почтарьку", которая давным - давно не носит почту в другие деревеньки, потому что боится собак, да и ноги неходкие стали. У неё, конечно, нет на почте Интернета, а только телефон, по которому в наше счастливое время не нужно заказывать переговоры. У всех есть мобильники.
Да и письма уже никто не пишет, потому что : е - мейлы.
И почтарька мучительно перебирает газеты, открытки, наполняет полочки дешёвым и популярным , на деревенской почте, товаром, фломастерами, туалетной бумагой, тройным одеколоном...Зачем ей это новоселье, если приходит только дебил Шурик, который раньше разносил документы ЕИРЦ по домам, и снимал показания счётчика, а теперь сядет в угол, запахнётся телогреем и мычит, читая "Спид-инфо"...
Шурик по весне пропал опять. Пьёт где-нибудь, наверное.
Нюра с Мусей идут по берегу реки...Они идут на почту.
Нюре двадцать семь лет, и она здесь по случаю. Живёт в деревне, сдаёт квартиру в Москве, и растит Мусю, которой шесть лет стукнуло только месяц назад. Гражданский муж приезжает летом нечасто, на работе завал, а, когда приезжает, то Нюра снабжает его газонокосилкой, лопатой, на десерт - удочкой. Тёща, Нюрина мама наговаривает про него гадости, и приезжает он всё реже...На то он и "гражданский" . Поэтому, только с Мусей можно сходить в лес, на почту, в магазин.
Сегодня Нюра с Мусей решили прогуляться до соседней деревни. До единственного реального пункта назначения - Почты. А весна в самом разгаре, и нигде она не чувствуется живей и чище, чем здесь, за городом.
Обнажилась от снега свалка за деревней, берега Таруски, закиданные кое-где, пластиковыми бутылками и пакетами от чипсов. Муся ноет чипсы.
- Мааам. Ну, купи... Ну, купи мне чипсы, а?
- Не куплю это химия. От неё дети мрут.
- Что значит мрут?
- Значит - умирают.
- Ну, мам...
- Ну, Мусь, дядю, который их придумал в тюрьму посадили за вредительство. И расстреляли.- Говорит Нюра, как ей кажется, самым ужасным голосом.
Муся ненадолго замолкает.
- Что, насовсем расстреляли, что, чипсов больше вообще никак не будет? - В голосе её слышно отчаяние. Уголки губ начинают трястись.
-Неа. - Говорит Нюра, косясь на Мусино кислое лицо.- Гляди, гляди, бобёр поплыл!
Муся тут же вскидывает бровки, распахивает глаза, рот, раздувает ноздри и вытягивается на носочках, шаря взглядом по берегу.
- Где, где бобёр. Мама, где бобёр?- Кричит она зычно, и, наконец, приметив дерево, отформованное бобром в остро заточенный карандаш, ещё больше кричит, и ладошка её, потная и мягкая. Вырывается из руки Нюры.
- Я вижу бобёра!
Нюра качает головой.
- Слушай, бобёр уплыл, но домик его, как раз вот. Где красная стружка на воде, видишь?
- Ага.
- Давай тут на берегу посидим, подождём. Он скоро приплывёт.
- Ага, давай. Только...
- Чего?
- Только пойдём сначала купим чипсы и будем тут сидеть, есть и любоваться, а?
Нюра улыбается. Её лицо не умеет сердится.
- Ах ты безобразница, а... Пойдём. Мечты детей должны сбываться.
Муся забыла про бобра, и они скорым шагом пошли к почте.
- И ещё, когда место себе на берегу будешь примечивать...- Сказала нравоучительно Муся.
- Примечать.
- Да, примечать...Ты...- Тут она залилась смехом, прыгающим и забавным.- Не сядь в гавно. Вон сколько травы- а ты обязательно не на траву, а в гавно сядешь, как в том году...И умудрило же тебя в коз...в козиня...в козячье...
- В козлёночье...
- Ага! В козлёночье...
Муся и Нюра рассмеялись на весь луг.
Проходя мимо Дома, Нюра остановилась.
- Мусик, представь себе, он помнит ещё графов-князей...Тут всё было по- другому.
Муся, открыв рот, глядит на яблоню, по которой скачут две белки. Трясёт Нюру за руку и орёт.
- Белки! Мама, белки! Вспомни, мамочкуя, мамочкуя же!!! Деревья отрыгивают белками!- И Муся начинает хохотать, закидывая голову и оттягивая Нюрину руку.
- О, белки, точно! Гляди, гляди, они, их две...Муся, это брат и сестра!
- Нет, это муж и жена! Это жена заблудилась в деревне, а муж её спасает. О...
Мам...убежали, мама...
- Ура, он спас её!!
- Урра!Он спас её!!!И они побегли к детям.
- Не побегли, а побежали.
Цветёт весна вдоль дороги сиреневыми старыми кустами. Коротко, но так, словно обжигает. Кипит сирень от ветра, налетающего на неё, оживляя её пышную стену. На яблонях розовеет цвет, трава свежа и мягка. Одуванчики сплошь вызолотили берега обеих речушек.
Муся бросается то к сирени, то в одуванчики. Они с Нюрой любят кататься по одуванчикам, а потом лежать в них, чувствовать через одежду прохладную свежесть молодой травы, и видеть над собою синее небо, облепленное свинцовыми белилами облаков.
- Как поверженные воины в поле...- Говорит Нюра.
Муся и Нюра лежат голова к голове.
- Ага, вот лошадь бы сейчас...- Шепчет Муся.
- И по одуванчикам...
- Мам. Знаешь, кажется, я слышу их плач...
- Кого? Воинов?
Муся закатывается.
- Чипсов!
Они снова идут по отчаянно зелёной траве, бьют под подбородки жёлтые цветы, сминают их, и глазеют по сторонам, чтобы лучше запомнить начало лета. Возле почты они останавливаются, Нюра поправляет Мусе косички, утирает её разрумяненные, словно всегда надутые толстые щёки, заглядывает под нос, чтобы почтарька ненароком не увидела, как неаккуратна Муся, втряхивает её в полурасстёгнутое пальто, присев на корточки.
- Муся, не болтай лишнего. Я знаю, ты это любишь.- Говорит Нюра нравоучительно, заглядывая дочке в глаза.
Муся, вскинув удивлённые и своевольные брови, поджав губы, плаксиво и капризно отвечает:
- Это ещё почему?
- Это потому, что никому не нужны твои рассказы.
- Как это не нужны?
- Очень просто, козлёночек мой. Не нужны и всё. Вот помнишь, как ты на первое мая всем цветы в Москве дарила?
- Ну, помню, мам.
- Это им тоже было не нужно. Ладно. Пойдём.
И Нюра поднявшись, взяла Мусю за руку и изредка поглядывала на её розовую шапочку с двумя висюльками на макушке. Поглядывала и горько улыбалась, вспоминая, как малявка набрала букет мать-и-мачехи и дарила по цветочку всем, кого встречала. Кто-то выбрасывал, кто-то совал в карман, кто-то, задумавшись, нюхал. Все улыбались, когда Муся, сделав своим упитанным телом неуклюжий реверанс говорила : "Пжалста, это вам!", останавливая мимо идущих прохожих, вручала по цветку в руки. Все брали. А Нюре потом было больно объяснять, почему Муськины цветы устилают их обратную дорогу.
- Мам! Они неловко потеряли мои цветы!- Кричала наивная Муся, трясясь от сожаления.
Не объяснить же ей, что людям этого не надо...
На почте было прохладно и пахло старой пылью, как во всех доисторических домах. Нюра вошла в холл этого необыкновенного дома, огляделась на стены, крашенные тёмно-зелёной краской. Муська уже стояла на цыпочках перед почтарькой, положив локти на прилавок.
- Какая ты стала большая...- Умильно морщилась почтарька.
- Да, раньше я была, как бэби-бон по размеру. А теперь большая.И ноги у меня не двадцать семь процентов от тела, а уже до полтела доросли.
- Да? В школу скоро пойдёшь?
- Конечно!- С ударением произнесла Муся.- И в школу балета. Я буду балериной, давить слабых балерунов, ну, тех, кто меня не сможет поднять.
Почтарька смеётся, прикрывая рот. Нюра, сотый раз слушая рассказ про балет, уже даже и не реагирует.
- Здрасьте.- Говорит она, снимаю шапку. - Вас, переселили наконец из вашего клоповника?
- Да...Здрасьте...Ну, а толку-то...Школу закрыли ведь.
- Зато теперь здесь места больше...-Говорит Нюра, оглядывая потолки с лепниной и подаёт платёжки.
- Наша бабушка не любит нашего нового папу. Она всё делает, чтоб разлучить его с мамой. Потому что он ей не нравится. А их нельзя разлучать они друг друга возлюбят. Они возлюбленные.- Выпаливает вдруг Муся.
- Маша!- Вскрикивает Нюра и, краснея, одёргивает дочь за плечо.
- Вот, вот так всё и выложит...ох, дети, дети,- вздыхает смущённая почтарька,- вы пойдите, поглядите, тут библиотека в левом крыле, пока я начислю...
Нюра, кивая головой, грубо утаскивает Мусю за собою. В коридоре она трясёт её за плечи.
- Муся, я тебе говорю , не болтай, глупышка!
- А чего я сказала? - Удивлённо ноет Муся.
- Говорила, предупреждала...
- А чего я сказала - то...сказала что вас...
- Муся!
- Ну ладно, ладно...- Покровительственно отвечает Муся, махнув рукой.- Буду держать язык за зубами...а то эта длинношеяя почтариха...
- Муся, молчи, пойдём, поглядим дом...
- Лысая...
- Муся, замолкни!
- Как бог черепаху изуродовал, так и её, этот же бог изуродовал...ха...ха...ха...
Нюра утаскивает за собой Мусю в прохладные переходы левого крыла дома. Потолки здесь огромные, через высокие окна льётся солнечный свет. Эркеры в три окна по обе стороны комнаты освещают шведскую стенку и стёртый до досок деревянный пол.
Муся, расстегнувшись и развязав шапку, выпрастывает две длиннющих косы и кружится по комнате, припевая.
- У них тут спортзал был. Видишь. окна за решётками...
- Зачем решётки ...мы вольные птицы...- Поёт Муся, кружась с шарфом и шапкой в руках.
- Лапушка, чтоб не выбить стёкла.
- Ну и нафиг эти стёкла...можно и выбить...мы вольные птицы...ля-ля...
- Муся, не ругайся!
- А я не ругаюсь!- И Муся танцует на цыпочках, обвивая шею косами и раскручивая их назад, переступая в своих розовых резиновых сапожках по истёртому полу.
- Розовые сапоги - я тебе купила? Какая пошлость...пойдём в библиотеку. Новеллу Матвееву возьмём... Помнишь, я тебе читала, про мышонка Тарасика...
- Не помню я никаких мышат!- Капризно отвечает Муся.
- Хорош крутиться, пойдём.
На выходе из "спортзала" , Нюра останавливается, оглядывая потолок, кое- где уже перерезанный трещинами и протечками. Лепнина в виде львиных голов и цветочных розеток пожелтела вокруг старой лампы дневного света.
- Порнография какая-то... - Фыркает Нюра.
Муся с уговорами покидает зал. Заглянув в библиотеку, со старыми и нечитаемыми ныне никем книжками, Нюра и Муся идут на почту. Почтарька уходит с ними, привешивая на двери своего дорогого ведомства амбарный замок. Нюра улыбается от умиления, берёт мягкую ладошку дочки и провожает старуху до выхода из палисадника, окружающего дом-школу. Но Муся не хочет уходить так скоро. Она решила пробежаться вокруг дома, позаглядывать в окна, увидеть с холма заднего двора, две реки, сплетающиеся в один серо-красноватый витой и блестящий шнур, бегущий сквозь море одуванчиков.
Муся заходит назад дома, где, между двух древних лип, обросших древесными грибами и наростами, на розово-жёлтой стене дома, висит кружевная кованая чаша балкона, вероятно, ещё начала века. Балкона, украшенного ампирными цветами и розами, вьющимися проволочными стеблями и переплетающимися сабельками изогнутых листьев.
Муся, обнаружив под балконом ещё один эркер, подпрыгивает, чтобы заглянуть в окно. Нюра тоже, поражённая заброшенности и нетронутости заднего двора, зачарованно обводит глазами вид, открывающийся с холма. Наверное те, кто жил здесь, были очень счастливы...Но теперь, окна цокольного этажа, наполовину скрытые землёй, где, видимо, была кухня и подсобки, смотрят обиженно и одиноко. Сам Дом, отвесив чёрную сетчатую губу балкона, будто удивлён и озабочен поведением людей.
- Мама! - Вскрикивает Муся вдруг, замирая, только руки её прыгают вверх-вниз, пальчики растопыриваются и глаза открываются широко и ужасно.
- Камушек прыгает!
Нюра, подойдя к среднему окну эркера, замечает едва заметное шевеление чего-то серого, в разбитом изнутри окне.
Над ними пролетают ошалело пищащие стрижи, чуть не задевая головы.
Окно разбито далеко вверху, на трёхметровой высоте. Там - маленькое отверстие от брошенного куска кирпича. А между стёкол - ласточка. Она прыгает, пытаясь подняться, кровавит грудку о разбитые, и упавшие между окон осколки, скальными изломами торчащие вверх. Конечно, ей не вылететь, она в этом прозрачном плену, а за окошком- весна, май, и друзья...
- Мам, что это? Оно двигается, оно там скачет, это пых, наверное...Пых, пойдём отсюда!
- Нет, это ласточка , она туда влетела случайно и застряла...
- Как? - В ужасе кричит Муся.- Достанем её оттуда! Она умрёт!
- Конечно, умрёт. Если её завтра не спасёт почтарька.
- Пойдём за ней!
- Ну, что ты, Мусенька, она уже уехала...она далеко живёт...Да, я и не знаю где.
- Мама!- Вскрикивает Муся и переходит на рёв.- Но ласточка же умрёт!
Нюра понимает, что сглупила, пытается отвести Мусю от окна.
- Пойдём.
- Не пойдём!- Вопит упрямая Муся.- Достань её.
- Я не могу!
- Что значит- не могу? Ласточка умрёт!!!
Нюра подёргивает плечами.
- Все умирают, Мусь...если попадают в такие ситуации.
- Нет, достань её!- Требует Муся и начинает топать ногами.
- Я не могу.- Твёрдо отвечает Нюра.- Пойдём, я приду вечером и выручу её. Тут нужно разбивать окно, нести стремянку, лезть через стекло...потом доставать ласточку.
Ласточка, увидев, видимо, движение и голоса, забилась в окне, стараясь изо всех сил подняться повыше, но снова безрезультатно упала выше уровня Нюриных глаз, в межоконный проём.
- Ты, правда, придёшь?
- Приду. А ещё быстрее откроется почта и её найдут и выпустят.
- Клянись, что так и будет!- Кричит Муся, хватая мамины руки.
- Клянусь. Так и будет. Пойдём в магазин, я тебе чипсы куплю.
Муся, опустив голову, всхлипывает.
- И чипсов перехотелось. Жалко...ласточку. Ну, ладно, её спасут, а ты всё равно купи мне чипсы, на потом. У меня изменится настроение и я их съем с улыбкой.
Нюра, внимательно глядит на дочку и уводит её из палисадника в магазин. Назад они идут грустнее, не глядя на золотой луг, полный цветов.
- Ты только бабушке не говори про то, что мы видели...- Просит Нюра.
- Почему?
- Ну, так...она начнёт своё говорить ...что я тебя вожу по задворкам...по стёклам...не надо.
- Ладно. Ладно, не буду...Гляди, птички летят, это наверное, возвращаются домой...
- Да, уже все вернулись с севера...
Муся всхлипывает, глазки её подёргиваются слезами и краснеют.
- Все, Да не все...Кого-то , всё равно не будет хватать. Кого-то всегда не хватает.- Говорит она.
Стрижи, двойками и тройками летают над лугом. Облака белы и крупны. К вечеру они затянут всё небо, пахнет дождём, а позади - Дом, розово-жёлтый, обиженный, обездоленный и пустой, глядит с холма побитыми окнами на слияние двух счастливых весенних рек...
Михалко
Скучно ему было одному на хуторе. До ребят идти с полчаса, а сейчас, перед школой все такие занятые - облитые, что и поиграть не идут.
Слоняется Михалко вдоль железнодорожного полотна, даже не прислушиваясь - идёт ли поезд. А осыпь на откосах краснеет листьями полуницы, которая, к досаде, уже отошла давно.
Не прошло и двух месяцев, как ребята здесь паслись и ели крупные, возросшие на припёке ягоды, с белыми рябинками на ярко-розовых щеках. И росли кругом свежие цветы июля, жарило ярое солнце.
Михалко вздохнул и свернул на тропинку, ведущую к дому. Заложив руки в карманы синих изношенных, вдрызг, брючек, загребая босыми ногами белый песок,и повесив голову на грудь, от тоски, добрался он до дома, залез на грецкий орех, росший возле двора, сел верхом на самую толстую ветку и стал, болтая чумазыми ногами, рвать орехи, которые росли и справа, и слева, и со всех сторон.
Из хаты разносилось сипловатое пение матери, хлопочущей над опарой. Отец бранился на прирезке на троих буро - белых коров. Воробьи с диким писком штурмовали кусты дочиста обнесённой, и без того, черноплодки.
Думал Михалко о том, что здесь он, на хуторе , теперь хозяин, и прислушивался к звукам вокруг себя,но, ничего чужого не слыхал, и не видал с высоты ореха. Дальний гудок паровоза, хлысты пастухов, выстрелы в дальнем лесу. Видно, лося гнали.
А орехи всё падали в траву под висящим Михалкой, сыпались чудесными зелёными градинами в высокую траву.
Мать поёт про гусей, и от этого даже отец перестаёт браниться, подходит, садиться возле двора и закуривает. Всё это видно Михалке. Видно, и как вокруг отца собираются молодые цыплята, больше половины из которых- петухи, и они начинают вставать парами друг напротив друга, и, как по команде топорщут перья, нос к носу приближаются, и, будто пляшут.
На то отец глядит долго, пускает неторопливо папиросный дым, а потом, шугает цыплят, страшно ругаясь. Но те снова сбегаются к его ногам, потому что отец Михалкин - их своими руками кормит, и они его почитают за хозяина. Снова начинается петушиный бой.
- А ну, пошли, ссукины де-ти! - Кричит на них отец и не зная, что в них запустить, вынает изо рта вставную челюсть и кидает в самую гущу петушиных сражений.
Михалко трясётся от смеха на своём дереве, подняв плечи, но тихо, чтоб отец не услыхал.
Мать высовывается из дверей, вытирая руки рушником.
- Чого ты богуешь, старый, иди в хату, с жары...
Михалкина мать уже старая баба. Родила она его ни с того, ним с сего, на пятидесятом году, и оттого он у них с отцом- отрада. Всё ему позволено. Старшие давно разлетелись. У некоторых уже свои семьи и даже, свои дети, а он, Михалко, тут теперь один.
Матушка с детства хроменькая, неграмотная, носит под правой туфлей деревянную плашку, в два пальца толщиной. Но красотой была не обделена в молодости. Настоящей красотой, природной, чёрными бровями, волнистыми косами, лицом смешливым и вечно удивлённым, что панам, на которых она работала ещё до революции, казалось, будто она их всегда на смех поднимает.
И ничему-то она не научилась- только шить, да родила четверых детей.Отец Михалки взял её хромую замуж, оттого и терпела она всё от него, но это было перед тем, как родился их последний сынок. Теперь мать, уставив руки в боки и грозно поведя бровями могла на отца так рявкнуть, что у того шкура на загривке заворачивалась и он убегал "выпить с горя" к сестре, которая, вообще, мужа называла только : "оно" и никак иначе.
Словом, возвращался отец всегда добрый.
А вот теперь Михалке семь лет. И пора ему в школу. Ездили они в город на базар, и купили там - неслыханное дело - ранец жёлтый, кожаный. Отец работал на заводе, слесарем, ездил на велосипеде через лес, каждое утро по двадцать километров, десять на работу - десять с работы, но он уж не поскупился. И новенькая форма, и фуражка синяя, и башмачки, и всё - превсё купили они на базаре, снарядили, значит, сынка в школу.
Только сыночек характером дурён изрядно. Беззаветно верит он людям, сколь дик он, столь и чист душою, наивен и доверчив, и страдает вечно от грубых и порою нечестных помыслов других людей.
Это потом Михалко вырастет, станет сильным, красивым, в моряки пойдёт, и будут его звать даже в телохранитель к генсеку, и поглядит он на сопки и вулканы Камчатки, и будет морским пограничником на самом Тихом океане, он, что сейчас свистит себе дыркой в зубе и ест орехи, мараясь и болтая ногами.
Но то будет после, а нынче Михалко от скуки млеет, злится, что знобит уже вода в озере, что росы по утрам холодны, что травы постарели, да перестал козодой кричать. Через неделю ему в школу.
Эх, и боится же он! Людей новых, "училок" с пуками седых волос на голове, да в очках, а сквозь очки - уф, ужас, змеючные взгляды! Глядит недоверчиво Михалка на стопку тетрадок, приготовленных к школе, открывает их с ужасом, что, неужели сможет тут, на полотне этом чистом, накаракулить буквы, наставить знаки всякие арифметические...
Страшно ему и перед чернильницей в кожаном мешочке - непроливайке, и перед серебристыми перьями на длинных красных черенках, и перед учебниками, что выдали в школьной библиотеке...
Недоверчиво он поглядывает на форму, висящую на спинке стула в спальне родителей. Слюну глотает, чуя, как будет хорош, одевая башмачки с полулунными пряжками по бокам, а пуговки на пиджачке блестят, как на офицерском кителе!!!
Всё это школьное богатство перенюхал, перелистал, переболел каждым учебником Михалка, прощаясь с детством. И не раз прошибала его слеза от трусости, что не одюжит он всю эту науку...
Но до школы ещё неделя, а он устал думать, про будущее загадывать. Устал мозгами ворочать, кому из ребят первому в нос дать, чтоб уважали.
Вернулась к нему ненадолго шалость прежняя, детская...
Мать решила нынче пироги печь. Михалка с отцом толкли ей сушку, мак в ступке. Михалка побежал перья искать в птичнике , чтоб пироги огладить маслом, чтоб порумяней были, покрасивше. Отец натолк мака и ушёл в лес за вишеньем, чтоб рубить к вечеру гуску, посмолить его над соломой и вишнёвым дымом , отметить Первое Сентября, завтра, торжественно.
Мать снова поёт, Михалка тесто сырое крадёт из - под её рук и ест.
- Чяго тебе угомона нет! Вот кишка с кишкой слепится, придётся тебя вниз головой подвесить и трясти.- Кричит на него мать. - Лучше иди, поиграй.
Михалко выплёвывает довольно большой кусок теста, глядит на мать изумлённо-ужасным взглядом , обтирает рот от муки, и идёт в дом.
В доме всегда чисто, светло. На кроватях пирамиды из подушек и подушечек. Подзоры свешиваются. Кругом разложены вышитые салфеточки, телевизор тоже покрыт огромным цветастым полотенцем.
Тканые тряпичные дорожки, как взлётная полоса тянутся от самых дальних комнат, до порожка кухни. Слева у входа печь, справа - комнаты из коридора. Их три, самая большая - зал, он как холл, открыт и соединён с кухней.
Михалко, чтоб слышать мать и не скучать, зажав язык между зубами, закатывается под кровать, в уютный уголок, на красно-зелёный рубероид, которым покрыт деревянный пол. На этой кровати только гости спят, да иногда отец, она здоровенная, железная, с шарами, с сеткой, на которой никому никогда не дают прыгать, как назло. При каждом движении на этой кровати раздаётся такой истошный скрип, что, кажется, снаряды летят, особо, среди ночи.
Тут у Михалки свой тайный штаб. Над ним, высоко, деревянная рама матраса , с набитой на неё тканью, проложенный не то соломой, не то паклей, не то конским волосом, древний, словом, матрас. А когда пальцем ткнёшь между секторами сетки, матрас мягко перемнётся, шуршнёт чем-то неведомым. А поверх возлежит огромная перина , такая полукруглая, возвышается прямо на полметра над кроватью, словно, в самой кровати кого-то зарыли и сверху прикрыли одеялами и покрывалом ещё. Михалку бранят, если он мнёт перину.
Зато здесь его никто не видит и не слышит. Он часами курлыкает себе под кроватью, привязывает кошку на верёвку за шею, и она становится его сторожевой собакой. Михалко сюда ещё весной притащил транзистор, и теперь тот лежит аккуратно по винтикам и шпунтикам разобран.
Кое какие шестерёнки и кнопочки висят на сетке, болтаются, а Михалко с недавних пор новую забаву себе нашёл. Берёт, тихо, спички у отца, и поджигает пыль под кроватью - там её тьма, как в Кощеевом царстве. Царевну он сделал из кукурузного початка, прилепил сверху кукурузные -же "волосы" и в самый дальний угол, за скелет разобранного транзистора спрятал. Теперь, когда мать слышит вой из-под кровати, она уже знает, что там Михалко с Кощеем воюет, царевну освобождает.
А уж паутины-то сколько! Михалко, выложив зубы на нижнюю губу, с усердием зажигает спички и делает "зачистку местности". Вот теперь он устроит паукам и кощеям и всем бабаям, будут знать, как царевен похищать! Жжёт клубы пыли, жжёт паутину, то там, то тут, а эти клубы и заросли вспыхивают красно-жёлтыми искорками, пыхают, и, мгновенно гаснут.
Но матрас, скрывающий Михалку от глаз родителей, вдруг , под спичками стал расходится, и мальчик увидел опилки, спутанную паклю, и ещё долго бы так в удивлении смотрел, как растёт пятно, расширяется, тлеет, и запах жжённых перьев и пакли наполняет подкроватное убежище.
Михалко вылезает из под-кровати, с круглыми глазами. Он бежит к матери, которая уже вышла во двор кормить цыплят, а потом поворачивает сразу назад, поглядеть, как там матрас. Потом снова к матер, мнётся, теребит курточку.
- Мам! Маманя...- Пытается сказать он.
- Шо? Цып-цып...- Отвечает мать, призывая цыплят.
- Маманя, это, там, там это...матрас.
Мать занята цыплятами. Михалко бежит снова в дом, глядит, что в хате дым, и, уже не жалея своего зада кричит с порожка:
- Маманя, тут горит чо-то!
Мать сразу выпрямляется и видя Михалку в дыму поднимает визгливый крик.
- А! Рятуйте! Хата горит!
В это самое время отец идёт из лесу, неся за спиной связку хвороста. Михалко и мать бегают со двора и ищут ведро, чтоб залить пожар. Отец бросает хворост, прыгает через забор и несётся во весь опор в дом. Кровать уже пылает, на ней пылает пирамида подушек и подушечек, тлеет подзор, а железные шары цветут апельсинами в огневом зареве.
- Клята детина!- Орёт отец, и, схватив кровать, отрывает её от своего извечного места, и с силой выталкивает прямо на двор. Кровать со страшным грохотом дребезжит по ступенькам и влетает в самую гущу цыплят. Отец начинает гасить тлеющий коврик с красной шапочкой, что занялся от перины. Потом, выходит во двор, откашливаясь от дыма.
Михалко среди двора глядит, как дотлевает матрас и всё снаряжение. Мать, нависая над ним, уперев руки в колени, кричит так, что яблоки с деревьев падают, но только лишь замечает отца, как выпрямляется, оправляет фартук и закладывает руку за руку.
- Ну, пёсья травина, чортово семя, шоб тебя гриц взял, давай штаны скидай.- Говорит отец Михалке, шлёпая себя по ладоням сложенным вдвое ремнём.
Отцовы штаны медленно съезжают, Михалко молча расстёгивает свои, надувает губы и ревёт.
- Я те дам, я те щас задницу-то распишу почище твоего чистописания, завтра пойдёшь с готовою домашней работой, пусть тебе пятёрку поставят.
Михалко ревёт всё громче, мать тоже начинает подвывать, сложа ладошку лодочкой и закрыв рот. Но отец бьёт несильно, а как всегда, больше, чтоб стыдно, да неповадно было.
Спали на сеннике все вместе, дома нечем было дышать из-за смрадного духа горелого пера. Михалко проснулся ещё затемно, побежал в родительскую спальню, вынес оттуда школьную форму, и до солнца разглядывал её стоя, ходя, пытаясь, конечно, присесть, что было невозможно в его теперешнем положении. Хотел и её поджечь, чтоб в школу не идти, боязно было ему, страшно...Но потом передумал, вернул форму назад и пошёл досыпать обратно, до положенного времени.
Серый Свет.
Казалось тогда, что нет никого счастливее в деревне. Но только сами виновники это скрывали, и о том было известно им одним. Да, наверное,так и было бы правильнее, чтоб оградить себя от лишних разговоров и сплетен. Светка приехала из Питера на лето, Серёжка вообще сюда случайно попал, но, как бы то ни было, они встретились. И , оказалось, не напрасно.
Никто и не думал, что вообще это возможно, что приедут в эту глухомань на это озеро, залётные питерцы, купят дом, и даже останутся жить. Светка полагала, что и она останется...Но уж родители - точно. От постоянной городской влажности они часто болели, а когда приехали сюда, в бор, на озеро, стали веселее и озабоченнее. Дом был куплен старый, его нужно было до ума доводить, печь новую выкладывать, обивать его вагонкой. В деревне народу, тогда, жило ещё, довольно много, и самым поразительным было то, что в ней был дом-интернат для душевнобольных и инвалидов детства.
Все деревенские кормились с этого, пользуясь тем, что есть работа и место где можно безнаказанно брать и брать. Директор интерната развёл вокруг себя целый гарем из санитарок и поварих, и всех их кормил, периодически меняя своих фавориток. Сколько было боёв и страданий из - за любви директора, которого называли "Зина", по фамилии. Но тот был не промах, и просто красавец - громадный, лысоватый, с начинающимся животиком с большим носом и добрыми, голубыми, всегда мутными от самогона глазами, глядящими цепко и соблазнительно. Девки , да и просто бабы, млели от Зины.
Светкин отец, будучи человеком коммуникабельным и ловким, моментально с ним подружился. Мать часто кормила пьяного Зину и отца только что пойманной в озере рыбой. Они вместе ходили на охоту, вместе бражничали, вместе чинили машины и трактора. Родители Светки быстро нашли себе компанию, правда, оставаясь при этом интеллигентами, не пия и не куря помногу, но всё услышанное , мотая на ус.
А вот Светка пугалась местной молодёжи - грубой и неотёсанной, вечно пьяной и обкуренной. Она ходила, сначала одна, и недалеко от дома, потом, нашла себе подругу Таньку Зелёнку, соседку. Толстую, румяную девку, весёлую и вечно хохочущую.
С ней никто не дружил, как казалось Светке, только она не знала, почему, а сама Танька ей не говорила. Да и что там говорить - Танька была самой заядлой местной шлюшкой, только Светке же она не признается в этом... Лишь спустя какое-то время Светка узнала, что к соседке всё время кто-то ездит, что её всё время куда-то возят, а потом привозят, или приводят.
Светка думала, что это общение уронит тень на её репутацию среди деревенских, но всё таки, старалась не обижать Таньку и однажды случайно познакомилась у неё с братом и сестрой, с Мариной и Сергеем.
Она с детства любила природу , и, как только выбиралась с родителями за город, тут же уходила одна подслушивать и подглядывать за другой жизнью. Она видела красоту внешнего так же ясно, как и красоту внутреннего, тонко и чутко относясь ко всем звукам и отзвукам, к цветам и оттенкам. Из - за этого ей никогда не везло с друзьями, видно, она была полна сама собой и тем самым не растрачивала собственную красоту, которая от неё во все стороны исходила, как сияние от солнца. Даже будучи не очень привлекательной в юности, теперь, к двадцати годам Светка набрала такое лучезарное цветение, что идущие мимо люди заглядывались на неё невольно. Парни боялись подойти к ней, к гордой, высокой, осанистой, быстрой. Она повелительски глядела на них, думая, что этим не испугать, но напрасно...Сильных попадалось мало, а тех, кто хотел бы её любить- и вообще не находилось. Потому что она была слишком яркой и недоступной, как далёкая звезда на чёрном небе.
От этого одиночества в себе, Светка истомилась. Но её весёлый и лёгкий характер, словоохотливость и воспитание, помогало ей в любой обстановке найтись и зарекомендоваться. Свои яркие рыжие косы до пояса, она убирала под панамку, скручивая их жгутами, на зелёные пронзительные глаза одевала солнцезащитные очки. На крепкие и удивительно стройные ноги набрасывала длиннющую, в пол, юбку, и старалась ходить босиком. Чтобы не особо отличаться от деревенских и среди них быть в своей тарелке.
Конечно, после этого, сравняясь с целым миром и растворяясь в нём, можно было и желать общения. И она его нашла.
Марине едва исполнилось четырнадцать. Сергей - ровесник Светки. Они стали её друзьями ближе к маю...На Марине лежала обязанность приглядывать за пятилетним братом Славиком от второго материного брака, и она несла эту обязанность как истый крест. Славик был нервный, худой, вечно голодный, как, впрочем, и вся их семья. Их фамилия была- Вороны, и они сами были подобны стайке ворон.
Мать Элла, прежде красавица, родом из Одессы, приехала сюда по объявлению, выходить замуж, с двумя детьми. Как оказалось, будущий муж- инвалид из интерната, а денег на обратную дорогу уже не было. Элла устроилась работать санитаркой в этот печально знаменитый "дурдом", да так и завязла. Замуж, правда, не вышла, Зина пожалел её, дал комнатку для неё и детей. А Элла, будучи городской и расфуфыренной, вскоре нашла другого мужа, скотника Славу. Слава вскоре забрал её из интерната к себе в дом. Серёжка, заканчивал тогда седьмой класс, бросил школу, чтоб работать в наймах. Маринка протянула до шестого класса. Больше её никто держать не стал.
Дядя Слава оказался страшным тираном, но уже не воротишься назад- оплёванной и жалкой. Элла родила, высохла, потеряла свою красоту, и стала в тридцать семь мет старухой, с палкой. Она горько глядела на людей, вздыхала и думала, на что уехала из Одессы, шалого и горячего города, в эти страшные места...Конечно, она понимала, что загубила жизнь не только себе, но и детям...Но судьба есть судьба.
Серёжке нужно было как то кормить себя, сестру и мать. Он с тринадцати лет отчаянно работал где бы то ни было - на лесоповале, на скотном дворе, летами- пастухом, резником на ферме. Копал, пилил, таскал, нанимался. За любую работу брался, никогда никому не отказывал. А когда разжимал дома чёрный кулак и глядел на то, что ему заплатили, плакать было уже поздно, расстраиваться- бессмысленно, а новое утро начиналось с упрёков дяди Славы и рёва побитой матери.
Как только Сергею исполнилось восемнадцать, дядя Слава перестал на него замахиваться, приутих. Понял, что перед ним уже не безответное дитя, а настоящий взрослый парень, жилистый и сильный. Несмотря ни на что, ни Марина, ни Сергей никогда не ругали мать. Такова была её воля- вот и получили по полной.
Светка же, накануне покупки дома, закончила театральную студию. Получилось всё гнусно из-за распри между режиссёрами, которые состояли в браке. Студия развалилась за месяц, и все чаяния, связанные с этим, потухли, пропали как то резко. Будто, выключили свет и вместе с ним- всё. Светка осталась в темноте. Не знала, что делать. Помощи просить, продаваться - не её дело. И она решила подумать в тишине, найти альтернативу. Воскреснуть.
Она с удовольствием помогала родителям доделывать дом, потом, они купили лодку, и Светка быстро справилась с вёслами, стала пропадать на озере, уплывая далеко - далеко. Озеро, посреди которого лежал поросший кустарником и небольшими деревцами остров, стал её любимым местом. Порою, она сидела в лодке, возле берега его, глядя на распускающиеся белые лилии, словно, восковые над чёрной водой...И тяжёлый плеск рыб, и пролетевший прямо над ней аист -черногуз так забавляли её, столько восторга вселяли в сердце!
Ешё она вспоминала своих однокурсников, которые все поступили в театральный институт. Свою первую влюблённость, друзей и подруг, которых теперь уже не достать. И с горьким вздохом, притрагивалась к вёслам, толкалась от берега и уплывала в деревню. Всё, прошла юность. Но впереди - ещё целая жизнь!
В мае, у Таньки, она впервые увидела Сергея. Отмечали Танькин день рожденья, все были пьяны. Двор стоял нараспашку - заходи кто хочешь. Светка и зашла. В доме, украшенном только железными кроватями, да самоткаными половичками, был накурено. За столом сидела Танькина мать, брат Андрей и отец. Сама виновница торжества спала на кровати тут - же, по-детски, подложив под толстую щёку ладошку.
- Ой, прямо - лялечка спит!- Сказала Светка, войдя.
Тут же, её взял конфуз,из-за того, что все вокруг чуть ли не мычали с перепоя, и она повернулась, чтоб уйти. Андрей, здоровенный бугай, красный на лицо, легонько остановил Светку за плечо.
- Выпей, Свет. Давай, выпей. Сейчас Вороны придут, всё выпьют.
Родители загоготали. Светка мотнула головой.
- Нет, я ж не пью. Я пойду. Мне надо.
Андрей что-то говорил вслед ей, что-то печальное, но Светка уже подошла к воротам и столкнулась с Сергеем.
Сергей почти бежал, он был в майке, а ростом - одного со Светкой. Поэтому она сразу же, ни во что- нибудь упёрлась взглядом, а в его глаза, отчаянные и такие же зелёные, как и у неё самой. Они потоптались, уступая друг другу место, чтоб пройти, Сергей, будучи уже нетрезв, протяжно сказал "Оооо" и словно делая реверанс, обогнул Светку и побежал к распахнутому дому Таньки. А Светка пошла домой как-то обиженно и грязно чувствуя себя...
Вечером, в окно веранды, где спала Светка, постучала Танька. Она была совсем пьяна и висела на чуть менее пьяном Сергее.
- А мы решили паженится...Вот. Мать против, конечно...но я - за...- Сказала она, помаргивая глазами.
- Поздравляю.- Ответила Светка скрипучим со сна голосом и захлопнула окно.
До утра она уже не заснула. Предчувствие мучало её. Странное, нехорошее.
Утро следующего дня выдалось мутным и холодным. По дороге прогнали коров, Сергей, нащёлкивая своей громогласной пугой, пронёсся на молодом жеребце под её окнами. Он свистел, хлопал, конь фыркал и топотал. Коровы натужно мычали, ускорялись под щелчками. Сергей, крикнув : "Геть, геть,но..." пролетел по улице. Светка подпрыгнула на кровати, едва не задавив спящего в ногах кота.
Мать с отцом уже были на огороде, а она в это время всегда ещё спала.
Лениво поднявшись, Светка заплелась, оделась, включила магнитофон и пошла искать завтрак. Мать уже приготовила , на плите стояла еда, горячая, масло плавало в манной каше.
Светка поела. Ради приличия, заглянула на огород, спросив, не понадобится ли её помощь, и возрадовавшись, что нет, ушла в лес. Одна, как всегда. Но Танька нагнала её.
После вчерашнего она была страшна до безобразия.
- А мы так надрались...Незнаю, как Серёга на работу- то пошёл.- Говорила Танька, повисая на Светкиной руке.
- Да уж ,вроде проехал. Я слышала.
- Прикинь, замуж предлагал...А мать моя говорит - у тебя, говорит, одни портки, кому ты замуж предлагаешь?
- Может , он любит тебя...причём же здесь портки?
- Любит!- Заржала Танька.
- Незнаю, мне кажется, замуж нужно только так, по - любви.
- Ох ты и малохольная!- Взвизгнула Танька.
Тогда Светке захотелось впервые нахамить, но она сдержалась.
- Мне кажется, Сергей хороший. Выходи за него, вы будете счастливы.- Сказала она серьёзно.
Но Танька снова засмеялась...
Лето выдалось жаркое и влажное. Утром, до обеда, жара нестерпимая. После обеда короткий дождь, а к вечеру- снова жара. Светка маялась. Сергей ходил мимо её дома, к Таньке, руки в карманы, приподняв воротничок олимпийки. Его совершенно золотые волосы, хулиганская походка, вечная сигарка во рту так возбуждали Светкино любопытство, что она, взяв кота на руки, тёплыми вечерами стала выходить из дома, садиться возле палисадника и ждать Серёжкиного возвращения. Она сидела, он, проходя мимо, коротко говорил: "Привет, Свет" и шёл дальше. Она отвечало масляно - Привет - и провожала его взглядом. Руки в карманах, сапожки на ногах, стройная его фигурка на зелёном фоне лесной улицы...
Однажды, Светка, всё так же, с котом, держа его на руках и гладя, дошла до последнего дома на улице, который стоял почти в лесу. Из двора выскочила Маринка, тонконогая, улыбчивая, стала виться вокруг Светки.
- Ой, какой котик, какой котик! А Серёжка тут косит! Пойдём, тут никого, тут малина, смородина, пойдём!
И она увлекла Светку на двор. Светка, ходила по двору, искоса поглядывая на Серёжку, который был до пояса раздет, а голова прикрыта банданой. Он только так укладывал ручку за ручкой своей сереброзубой косой- литовкой. Спина его лоснилась от пота, он через плечо, пускал дым сигарки и поглядывая на Светку улыбался так лукаво, что ей становилось не по себе. Вдруг, Сергей бросил косу и отошёл в густые кусты смородины.
Мошка столпами вилась в вечернем воздухе. Лучи солнца пронизывали облака на западе. Комары, как сбесились. Кот Светкин давно убежал, а она, сидя на корточках с Маринкой, ковыряла прутом кротовью нору посреди двора. Хозяева уехали, а Сергей часто тут протапливал зимами печь и косил двор. За это они ему платили.
Вдруг, солнце зашло, хотя, это просто Сергей, выйдя из куста, подошёл к девчонкам. Светка встала. Опять её глаза оказались на уровне его нахальных глаз. Чиркнув взглядом, она успела разглядеть его черты лица- тонкие и благородные, чёткие губы, ровный ряд белоснежных зубов, ещё молодых. Сергей протянул ей руку, на которой лежали крупные смородиновые ягоды. Пальцы у Сергея были длинные и хваткие, смородина в ладошке - чёрная...
- На, это тебе.- Сказал он.
У Светки зачесалось в животе. Кровь ударила в голову. Она подошла и стала губами собирать с его руки смородину. Сергей на это смотрел, не отрываясь. До того, что когда смородина кончилась, он бросил руку, словно, она занемела, и почти побежал к брошенной косе. Минут пять он её оглаживал оселком, не поворачиваясь к Светке, которая буравила глазами его голую спину. А потом, когда он осмелился повернуться, увидел только косы, упавшие вдоль её спины. Она сняла свою дурацкую белую панаму и шла прочь...
Утром, проснувшись, как обычно, около одиннадцати, Светка увидела, что по огороду скачет Сергей и отец. Они полят картофельные гряды. Светка растерянно спросила мать в чём дело.
- Сергея наняли, пусть поможет. -Ответила мать.
- Зачем ?- Испуганно спросила Светка.
- Больше ж некому.- Язвительно заметила мать.
Вечером, когда они закончили и вернулись во двор, Сергея посадили за стол, вместе с отцом, есть борщ. И Светка старалась есть, но её кусок не лез в горло. Она глядела, как их новый работник уплетает, как посверкивает своим русальим взглядом из под ресниц...А сидеть рядом надо было, чтоб...не заподозрили...
За Сергеем следовало запереть калитку и послали Светку. Они молча дошли до калитки, он вышел, помял в руках край футболки.
- А...это, давай завтра в лес сходим...я тебе белок покажу.
Светка глянула на него быстро, покраснела.
- Давай, сходим. Белок- так белок.
На другой день, в обед, когда родители спали, они ушли в лес. Так, чтоб никто не видел и никто бы не мог распустить сплетни. Лес был пуст.Они шли рядом, боясь дотронутся друг до друга, но когда нужно было переходить через огромные лужи на песчаной дороге, Серёжка легко хватал Светку и переносил её. Чуть осмелев, они бросались друг в друга листьями, прятались за деревьями, валились на мох, и так лежали молча, не трогая друг друга.
Тогда они и не думали больше ни ком. Каждый день ходили в лес и весь лес слышал их смех .Оба босые, не боясь ни змей, ни клещей, ни комаров, они купались в тепле проходящего лета. Однажды, возвращавшийся на велосипеде из посёлка Танькин отец, увидев их вместе крикнул - о, у вас любовь что ли, - и Светка ужаснулась.
Или было озвучено то страшное, что есть на самом деле, а страшно оно тем, что...несбыточно. Зачем, зачем он так сказал...
Неделю они не виделись с Сергеем после того, а как встретились снова ,уже пришёл июль.
Первую неделю лили дожди. Приходя купаться на озеро с Танькой, Светка осторожничала. Но тут же, откуда ни возьмись, прилетал Сергей, на своём карем жеребце, влетал в воду, рассыпая её стеклянистыми брызгами, кружил вокруг них, и купал коня, а потом, вскочив на него, без всякого седла, босыми пятками гнал его на пастбище, оставляя Светку в смятении. А сердце её тосковало.
Все, а особенно Элла, уже были в курсе того, что Сергей влюбился в Светку. Он не умел этого скрыть. Если она могла - то он никак. Он ни дня не мог прожить, чтобы с гиканьем и хлопаньем пуги не пролететь мимо её дома и не забросить через забор огромный букет цветов. Каждый день родители удивлённо перемигивались, когда Сергей приходил к ним работать с цветами "для Светика" и она едва держалась от своих тяжёлых мыслей, понимая всю глупость и несвоевременность происходящего.
В середине июля приехала погостить сестра с мужем. Та, была красивая, пышная девица. С мужем они вместе десять лет, всё у них славно, только детей нет. И, увидев Светку однажды в плохом настроении, сестра наехала, выругала её. Светка, не стерпев, огрызнулась.
- Да что ты вообще о жизни знаешь, если тебе уже двадцать - а ты старая дева!
Светка задохнулась о гнева, упала в подушки и заревела. И зачем она так сказала- неясно, кусать так больно, так обидно...
Вечером, когда подпитый сестрин муж устроил литературные чтения во дворе, Светка, одев отцову телогрейку вышла в палисадник. Стучали слова в голове, родители и сестра смеялись над Швейком, а Светке было не до смеха. Стемнело и пришёл Сергей. Пришёл- зачем? Ведь не звала...Пришёл, тоже, в телогрейке, ибо- ветер поднялся сильнейший.
Заглянув во двор, Светка сказала матери, что она пойдёт погулять с Сергеем. Ненадолго. Мать позволила. Они ушли. Ушли, а как только осталась позади деревня, он взял её за руку и повёл на берег.
Ветер рвал деревья во все стороны...Они стонали и гнулись, особенно над озером, где, казалось всё рычит ,от какой-то дикой свистопляски. Небо было густо и тяжело, нависая, будто, над самыми головами. Волны озера, летели барашками прочь от берега. Обнажая низкую песчаную отмель. Сергей держал Светку за руку так крепко, словно боялся, что и её оторвёт. Огонёк его сигарки раздувался ветром и гас, и снова горел красноватым глазком возле его сомкнутых губ. Светка едва могла различить его хитро сощуренные глаза, когда он брал докуренную донельзя сигарету двумя пальцами- большим и указательным, выпускал назад дым, но так и не поворачивал к ней головы, глядел только на озеро.
- Пойдём, где-нибудь посидим от ветра.- Сказала робко Светка, перебирая рукав Сергея обеими руками. - Я тут боюсь.
Сергей, так же молча, повернулся к лесу и пошёл, ведя её за собою, а скорее- увлекая. Так скоро он шёл. Но лес был ещё страшней, ещё сумрачней. Весь шумел жутко и глухо, всеми соснами и ёлками, всеми деревьями сразу.
Они шли по дороге, которая делила лес на участки против пожаров, и ноги Светки утопали в мягком песке. Вдруг, темнота стала разреживаться, растекаться, и из-за клочковатых облаков, белых и серых, показалась яркая луна. Она осветила всё кругом металлическим светом. Серым светом, похожим на призрачный дымок, проникающий всюду. Сергей остановился на другом краю озера, пройдя лесом. Слева белел карьер с судорожно вцепившимися в песок соснами, падающими то и дело вниз, в тридцатиметровую круглую чашу самого карьера. Справа- лес вострился чёрными елями, а впереди лежало, уже, несколько спокойное ,озеро. И луна убегала по нему зыбкой и мельтешащей дорожкой. Где была деревня, где был дом, люди,мама - Светка уже не знала.
Сергей развел костёр от сигареты, хвоя пыхнула, лёгкое пламишко, как белая бабочка, заметалось над кучкой хвороста, которая откуда ни возьмись взялась в костре. Сергей, метнувшись в сторону, принёс дров и палок, наломал их и насыпал в разгорающийся костёр. И ветер, словно, сломленный этим неожиданным огнём затих и смялся. Тишина охватила лес. Луна ярко встала над озером. Серый свет её разлился, жаждая затопить всё кругом.
Светка сидела под молодым дубком на Серёжкиной телогрейке, глядела на озеро, на луну, на самого Сергея, который деловито хлопотал над костерком, прикуривал от горящей головешки. Светкины косы были закручены в два жгута и лежали вокруг головы коронкой, клетчатая рубашка, заправленная в джинсы, и телогрейка накинутая на плечи казались возле костра совсем ненужными. Светка встала и пошла к воде, оставив Сергея одного на берегу. Потрогав озёрную воду, уже успокоившуюся, она улыбнулась, зачерпнула ладошками и плеснула на лицо. Сергей глядел на неё, а о чём он думал- нельзя было предположить. Возможно, тем моментом он просто жил и наслаждался, не думая совсем о том, что будет дальше. Вёл он себя, во всяком случае, как неразумный юноша, а не взрослый мужчина, каким хотел бы казаться для Светки.
- -Пойдём, купаться?- Предложила она коротко.
- Нет...
- Почему?
- Ты замёрзнешь потом...
- Думаю, что нет...
- Лучше иди к костру.
И Светка подошла. Потом, села рядом с ним, а он зашёл за её спину и стал возиться с заколками и шпильками, над её косами. Мурашки побежали между лопаток у Светки, особенно, когда обе косы уже упали на спину, расплетённые и какие-то беззащитные.
- Ты красивая. Ты даже, наверное, не знаешь, какая...- Сказал Сергей, садясь напротив неё.
- Почему- знаю. Мне говорили.
Сергей смутился.
- Я - не говорил.
И поглядел на неё смутно и горячо, что только дым не пошёл из глаз его.
Светка вдруг поднялась, стала подходить к нему, расстёгивая рубашку, джинсы. Откидывая назад завитые в косах волосы, которые в свете огня стали красными.
- А ты готов? - Спросила она. Ложась прямо на тёплую хвою и шишки, обвивая его шею белой рукой.- Ведь ты первый у меня, знай это.
Сергей ничего не сказал. Он только молча стиснул Светку в каком-то совсем отчаянном объятии, которое она не смогла разорвать.
Два дня он не приходил, а потом появился к вечеру. В глазах у Светки был какой-то страх, и любовь...Она тоже была...Они пошли в тот дом, где Сергей топил печь по зимам, а там было холодно. И воздух был сыр и пах пылью, старой пылью изо всех углов. Судорожно обнимаясь, они несколько раз падали на пол, вставали, и снова падали, целуя друг друга больно и горячо, Светка впивалась ногтями в Сергеевы плечи, оставляла красные дорожки на его спине, и ночь прошла, и началось утро, а они всё жалели расставаться.
- Что же мы делаем?- Спрашивала она, но не его, а кого-то, кто был сейчас над ними.
- Я тебя никому не отдам, никому...девочка моя, родная...- Говорил он глухо, зарываясь в её волосы лицом.
И всё-таки приходилось скрывать всё. От начала до конца. Для других - они просто дружили, ходили в лес, плавали по озеру в лодке. В лесу - прятались в ложбинках от грибников, и там, подолгу сидела Светка на коленях Сергея, гладя его губы пальцами, глядя в его зелёные изумрудистые глаза, глаза маленького принца, заброшенного в этот мир откуда-то с другого света.
- Когда-нибудь ты вспомнишь, что я любила тебя просто. Как человека...Как голого, без имени и места, без печатей и росписей...- Говорила она про себя, глядя на него.
- А я тебя буду любить всегда.- Отвечал он вслух.
И лес подставлял все свои пески и хвои для их объятий, а озеро качало их на волнах, когда они обнимались в лодке, бросив её у острова без вёсел, забыв, что подглядят цапли в камыша и лилии, уже начавшие темнеть в студенеющей к осени воде.
Неумолимо катилось к закату лето. Светку вызвали в Питер. Надо было поступать в институт.И правда, лучше немного позже, чем никогда. Она наскоро собралась, и с Сергеем прощалась скупо и жёстко.
- Возвращайся скорее, моя милая девочка. Мы поедем в Толпино, я пойду работать в колхоз, нам дадут дом, и ещё...у нас будут дети...- Говорил Сергей шёпотом, пересыпая её волосы.
- Да...я тоже тебя люблю.- Шептала она, ковыряя ногтями обивку дивана, за его спиной, обнимая его.
-Только не забывай меня там...Не надо...-Умолял он, казалось, чуть не плача.
- Не забуду никогда.- Только это и было правдой.
Уезжая, она махнула ему из поезда и тут же задвинула шторку на окне. Жёлтую шторку с синей эмблемой "РЖД" . Вернуться- она вернётся...но- какой?
Хватило всего трёх недель, чтобы город захватил Светку, как осьминог свою жертву. Первым делом она остриглась в салоне, и её взяла под опеку сестра. Мать с отцом пока ещё оставались в деревне, они хотели попробовать перезимовать там. Светка погрузилась в городскую жизнь, закружилась в институте, с новыми друзьями и знакомыми...И только ночью, уставшая и вымотанная, тупо уставившись в потолок припоминала, что где-то там, кто-то ждёт...Там- озеро с белыми лилиями и тихий шелест вёсел по воде, там лес, солнечный, пахнущий хвоей, там стонущие под ветром деревья и молодые дубки, её дубки, в том месте. Где она оставила что-то дорогое. Навсегда оставила.
****
- Ты напиши ему что- нибудь, а то он ждёт. Мне кажется, он пока ждёт, будет жив. А ты, всё-таки, напиши.
- Я напишу. Только вообще, не вижу смысла в этом.
- А ты без смысла напиши.
- Ладно. Я напишу.
Это Маринка из деревни звонила Светке. Вот уже и десять лет прошло. Он лежит сейчас в своём старом, бедном, синем доме и умирает.
" Дорогой мой Кузнечик, мне стыдно за всё. Но не за то стыдно, что ты был в моей жизни, а за то, что я так неразумно отдавалось после тебя всяким уёбкам, недостойным даже части той любви, которую я на них тратила, и которой пожалела тебе. Но ты был моим, а я была твоей. И не были мы кем-то, а просто людьми, парнем и девушкой, которые были нужны друг другу до задыхания...Прости, ведь мы так и не нашли того, о чём нам мечталось"
- И добавь ещё - умри с миром...- Горько улыбнулась Светка.
Зашла дочка Маша, высокая первоклассница с толстенной косой.
- Мам, ты не плачешь?
- Неа...ты же знаешь, я уже давным - давно не умею.
- Бедная ты моя...
- Наверное, так...- Ответила Светка, сминая письмо и бросая его в мусорную корзинку под столом.- Юристы ведь тоже иногда бывают бедными. А ты смотри - и учись, Маш.
Конец.
Качели.
Середина ноября стояла на дворе, но Ольге повезло с погодой. Ни дождя, ни мороси, а только загородная чистота предзимья, и сам воздух, будто прояснял очертания предметов. Деревья, отметав последнюю листву, высились дикие в своём обнажении, и сороки беспрерывно дрались и трещали в голых верховьях тополей и верб.
По окраинам берега узкой, но глубокой речки, разом почерневшей всеми камышами, кое-где уже вставал тонко-стеклянный неверный ледок. Солнце светило туманно и рассеянно, совсем не жалуя теплом отвердевшую землю в спутанной шерсти белёсой травы.
Ольга, поправив на себе старое мамино полупальто в крупную клетку, вошла в сад со стороны поля, и тут же, попала в другой свет, иное ощущение. В поле - сухая стерня,играющая под солнечным отблеском, вылинявшее утреннее небо в редких, размазанных по всему окоёму облачках, а здесь, в саду, всё черно, и только невнятный скрип изнутри его раздаётся, как голос какого-то забытого живого существа, нарушает покойную тишину.
Сад запущен уже лет тридцать. Его яблони стали дикими до того, что их плоды радуют лишь галок, да дроздов. Когда то, между этими ровно посаженными деревьями была видна небольшая аллея, и до сих пор она не сумела зарасти оттого, что тень яблонь не пускает на свет ни один росток.
Несколько рябых тополей тепло укрыли землю мясистыми широкими листьями, небо кое-где лоскутами просвечивало через их мощные сплетения, и узнать какое время суток, сейчас, было невозможно. Ольга потерялась , сперва, в этой старинной полутьме, в вечном мраке, в укромном месте, которое столько лет никто не навещал, но шла вперёд, чая разглядеть то, для чего она была здесь сегодня, по какому-то странному зову души.
В этом ноябрьском обнажении увидеть красный дом, затерявшийся посреди сада, было бы легко, если бы за лето его так не завил хмель, что высокое, и прежде яркое это строение, казалось неживым холмом, брошенным ковчегом царил он среди запустения.
И потому, наверное, дом так мрачно глядел в дебри запущенного сада выбитым круглым слуховым окошком, пропуская под крышу лианы хмеля, сросся всеми рамами одиноких окон с ветвями огромного каштана, нависающего над ним,проникшим между его стен, как новый незваный гость, и теперь разрушающего его изнутри, глухо и медленно ворочаясь, рассыпая саман и кирпич, поднимая ветвями ржавую жесть кровли, проламываясь через деревянные перекрытия пола и потолка.
Ольга побоялась войти в этот дом так, как заходила прежде. Когда-то она была здесь много раз, теперь, словно другая кожа была у неё.Кто бегал по этому саду с соседскими мальчишками, приезжая к бабке в деревню на лето, кто здесь знал каждый куст, каждое дерево, кто был скор и решителен в шалостях и играх - Ольга уже забыла этого человека, забыла саму себя.
Когда то она была смелее и безрассуднее, и ничего, что то был характер первой юности, теперь же было просто страшно. Да что там говорить, из этого самого дома, их ребячья ватага давным-давно вынесла всё, чем он был богат и жив. До сих пор где-то в Ольгином столе лежат бумаги, найденные тут на круглом деревянном столе, рисунки голубых акварельных кораблей и коричневых замков, лежит и старинная фотография, на которой целый выходной класс мужской гимназии, даже с преподавателями в штиблетах...И ещё, где-то потерялось маленькое полотенце со старательно вышитыми крестом, по окраинам, папоротниками и жёлто- зелёными цветами.
Ольга всегда умела и любила сохранить то, что,кроме неё никому не было нужно, и оттого всегда с болью впоминала материнские слова о том, что собирает всякую дрянь,труху прошлого, что когда-нибудь, погрязнет в этой ненужной дряни. В тряпичной своей истории... Вот как! Метко сказано. И понимание того, что ряд вещей в этом мире может существовать сугубо для не одной, делало Ольгу как-то богаче и радостнее. Вот и теперь, придя сюда, понимала она, что делает нечто для других немыслимое, а для неё- отрадное, ибо в тех находках её юности была та самая дорогая фотография,где, Ольга, даже ещё может узнать своего неопределимого в родстве родича, который стоит , прищурясь, в верхнем ряду уже, кое-где, усатых выпускников, заложив руку между блестящих пуговиц серой тужурки, на груди, будто щупает своё сердце, и выпростав только большой вульгарно изогнутый крестьянский большой палец с низким ногтем.
Ольга не решилась даже подойти ближе к дому, так он был разрушен. Само крыльцо, словно было смято рукой великана и чернело нагромождением досок и кирпичей, измятой жести и кусков кованых перил. Страшный каштан не помедлил так густо укрыть двор многолетним слоем листвы и орехов, что, если бы не подморозило, то Ольга стояла бы сейчас в каше.
Действительно, трава всё ещё хрустела ночным инеем, ведь здесь до сих пор в тени и полумраке было утро, которое не спешило оставлять этот страшный одинокий сад и обиженный дом.
Погрузившись в воспоминания, Ольга даже и позабыла, зачем пришла сюда, так её всю здесь внезапно преобразило в ту прежнюю, уже незнакомую девочку.
И тут ей напомнили об этом. Напомнили, по лёгкой воле внезапно налетевшего ветерка, скрипнули, как исторгли из себя вопль отчаяния- а вдруг, уйдёт без них?
Действительно, она собиралась уже уходить, но увидела их, качели, что медленно покачивались на ржавых цепях в нескольких шагах от неё. И железная штанга, прикреплённая к двум тополям была покрыта древесными наплывами, и цепи ярко горели ржавчиной, даже деревянное сиденье, прежде крашенное в красный цвет выщербилось, почернело. Теперь оно закачалось снова с такой неизмеримой жутью, что Ольга похолодела изнутри, и подошла к качелям ближе, словно ведомая каким-то невидимым проводником.
Да, теперь под этими старыми качелями нет той выбитой детскими ногами ложбинки, которая после каждого дождя наполнялась водой, и они стали ниже к земле. Видно, только ветер качается на них, только ветер, да призраки.
Ольга поводила пальцами по сиденью, нашла вырезанные буквы и улыбнулась. Молнией пронеслись перед ней все годы её жизни, что она потратила на то, чтобы не думать об этом, чтобы попрочней забыть и то, с кем они вырезали эти инициалы, и те обстоятельства при каких были они вырезаны.
Вспомнила она это без усилия, и от этой лёгкости сошла улыбка с её лица.
В тот же момент, словно, кто - то провёл за ушами пёрышком, пощекотал и взвился ввысь. Ольга оттолкнула качели прочь, качели застонали, завопленничали, и опрометью побежала из сада, чувствуя уже позади себя какую- то жуткую силу, к которой напрасно было вот так приходить со своими жалкими помыслами.
Бежала она, не замечая, что всё лицо ей выстегала молодая тугая поросль слив, растущих на краю сада, что кусты шиповника цепляются за полы маминого пальтишка.
Вырвавшись на свет, на улицу, Ольга остановилась только тогда, когда добежала до начала деревенской улицы, где дома живо стояли по левой стороне, окнами ловя высокое солнце, которое давно оттёрло с лазури небосклона всю лишнюю белизну.
Ольге даже жарко стало в пальто, и она расстегнула большие круглые пуговицы, блеснувшие перламутром и тряхнула головой, боясь, что нацепляла на волосы паутины.
В деревне же, тянущейся вдоль поля, было тихо. Кое- где, во дворах, ещё жили одинокие бабки и у них ещё водились куры, сейчас важно роющиеся под дворами в мусоре.
Дороги здесь никогда не было, только летник, теперь размытый осенними дождями и в этом была причина, почему Ольга не оставила машину в деревне, а только на асфальте, до которого отсюда метров семьсот.
Все дома смотрели фасадами на запад, и сейчас ни одной собаки не было слышно, разве, за какими-то воротами погромыхивала цепь и раздавалось урчание или скуление сытых охранников.
Ольга, всё так же, ощущая щекотание за ушами, почти добежала до первого знакомого бледно-зелёного домика под шиферной крышей над мутными окнами. Двор был заперт. Кольцо калитки приржавело к кругу, подкова на столбе ворот висела на одном конце.
Ольга, почему-то, не замечая всего этого, стала бешено колотиться в калитку, то рукой, то плечом, то напирала на серое выеденное дождями дерево, то сносила его ногой не глядя на то, что перед двором сломан колодец-журавль, что скамейку, где когда-то спевали тутошние бабушки, пробила насквозь молодая берёзка , и полёгшие осенью былинки вполроста , заглушили гусиный выход со двора.
Что с той стороны уже не слышно ни свиста, ни смеха, ни мычания, ни брани, ни гогота, ни кудахтанья, ничего- ничего, а ворота стоят, как цитадель, которую Ольге теперь не перемахнуть одним рывком своего погрузневшего тела.
- Чого ты бьёшься?- Спросил позади неё незнакомый слабый голос.
Ольга обернувшись, увидела незнакомую бабку в сером кремпленовом платье, в мохеровой кофте до колен и синем шерстяном платке с рюлексовой золотой риской.
Старуха,видно, стояла тут уже несколько минут, оперевшись двумя руками о палку, и лицо её было каким-то раздражённым и совсем недобрым.
Ольга обернулась, наконец, к калитке задом, а к бабке передом, отдулась, поправила волосы.
- Я не бьюсь, я стучу. - Ответила она спокойно.
- Тут нету никого. Юлька померла, как её в город забрали.
Всё это было сказано совершенно бытовым тоном и с нормальным старушечьим равнодушием.
- Ты чья?- Спросила бабка живее, слегка наклонив голову, и Ольге показалось, что сейчас её будут долго допрашивать.
- Вы меня не знаете, я из Москвы. А вообще, у меня тут бабушка жила, Тимашовых.
Бабка косо усмехнулась.
- Аха, знаю.
- А Серёжка где?- Тут же спросила Ольга.
- А помер.
- Как помер?- Снова спросила Ольга и ударила на слово "как".
- Да как, опился, и помер. Они тут все через это дело помирают.
Ольга замолкла на минуту. Задумавшись о своём.
- А когда ж он помер?
- Да летось.
- Этим летом?
- Да, энтим.
- Пил?
- Пил, чорт. Говорили ему. Дак , без толку. Пил.
Ольга поискала вокруг себя куда бы можно было присесть, но не найдя, смущённо затопталась на месте под нехорошим бабкиным взглядом.
-Ты тут, видно, давно не была. -Сказала бабка утвердительно.- Тут всё поменялось, всё другое стало. Щас по всей стране всё другое, сплошной конец света. Нельзя-неможно... Ужас, что стало-то...Тивизор глядеть страшно.
Ольга кивнула головой в знак согласия и попыталась уйти.
- Ну, может сказать кому - то, что ты была?
-Нет, не надо. Думаю, всем уже всё равно.- Ответила Ольга и коротко попрощавшись, стала уходить под пристальным взглядом старухи, казалось, выдавливающим её.
После этого разговора ей стало ещё хуже, чем после посещения сада. Она не знала о чём сперва подумать и потому, мысли роились у неё в голове набрасываясь одна на другую, сбивая её с толку. После вести о том что Серёжка , как - то, сразу "помер", она тяжело поняла, что вот, теперь и ждать, собственно нечего, и надежды нет уже никакой, и всё теперь у неё, как у всех, без особенных пикантных ситуаций и странных чудесных ожиданий. Ну, просто нечего стало ждать.
Ольга дошла до машины, порылась в кармане пальто, нашла ключи и долго перебирала два ключа, думая включиться и вспомнить, каким открывать машину. Она ткнула один ключ, и сигнализация звучным хлюпаньем отрезвила её.
- Дура. И почему ты всё время оказываешься не там, где надо...- Сказала она сама себе.
Через час новенькая " Тойота" уносила её в другую жизнь, резво и весело шурша шинами. Мобильник поймал сеть и нагрелся от очереди ожидающих сообщений. Материно пальто, в котором Ольга любила походить за городом, было сложено в багажнике. А вот щекотание за ушами прошло только лишь тогда, когда впереди показались белые вышки Москвы, и Ольга поняла, что она больше никогда не поедет в деревню.
Голосование:
Суммарный балл: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
Нет отзывов
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор