-- : --
Зарегистрировано — 123 403Зрителей: 66 492
Авторов: 56 911
On-line — 22 208Зрителей: 4408
Авторов: 17800
Загружено работ — 2 122 630
«Неизвестный Гений»
Помни Агриппину
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |
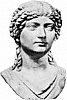
--------------------------------------------------------------------------------
Глава первая.
Дождь в Риме похож на Марсовы стрелы. Он гудит и шуршит, и всё напевно бормочет, смывая с крыш остатки человеческого и питая воздух духом Геликона...Как хорошо, когда он стреляет в смертных то холодными долгими пассами, то короткими ударами, похожими на удары фасций. И всё он смиряет, создавая на улицах образцовую тишину, сумеречную чистоту, поднебесный покой, разгоняя плебеев и всадников.
Как я люблю дождь в Риме, шествующий царственными шагами по Городу, судьба которого быть заодно с Богами, его напевный шёпот - голос няньки у колыбели, забывшей о покое, голос ногтей хозяина, в волнении постукивающего по мраморной столешнице, голос близкой прохлады в преддверии предосенья. Я люблю дождь, он дарит мне беспокойство, необходимое для действия.
И теперь он выступает кровавой испариной на жирных затылках патрициев, у которых не осталось иного удовольствия, как только услаждать своё нёбо пирами и мракобесием.
Они не знают, что ждёт их, ибо- одно из высочайших счастий не знать Грядущего, но я вижу в этом наказание, только наказание. Не сегодня, так завтра слетят их головы, и собаки их станут бездомны, а рабы разбегутся. Таков всевечный закон равновесия - и, да будет так...
Но мне не будет страшно, потому что римский дождь мой союзник и под его прозрачным пеллумом я иду на Субуру, где даже в холод кипит жизнь.
Когда на Понтийских островах со мной оставалась одна Полла, мы любили ворковать за пряжей, как вернёмся в город, и, как примут нас там...Я скучала о сыне, которого оставила со старой Лепидой, так далеко...Что без меня его щёки покроются пухом юности, без меня он будет бороть сверстников в поединках, без меня будет бегать по палестре, упражняясь с копьём и щитом. Всё это увидит старая гадина Лепида, а не я...В изгнании, с сёстрами я виделась часто, но они всегда были далеки от меня, хотя родились мы от одного чрева. Чудилось, что позже, будет и мне поднесена пиршественная чаша, но без яда, а полная божественного фалерна. Да, хотя бы бобовая каша, или жертвенный полбяный хлебец, но только чтоб напитал их Город своим очистительным духом, чтоб дали они моей душе успокоения и умирения...
Я хотела вернуться в Рим без Гая, без того, кого называли Калигулой, в Рим, без него, моего брата, который давал справедливые уроки унижения этим разомлевшим в довольстве бегемотам, словно они - священные животные египтян, и могут жрать, совершенно безнаказанно, всех, кого им на потребу кинут, только ради услаждения собственных желудков,
А эти блестящие всадники, патриции, возлежали на пирах, не считая рябчиков и рыб, забыв Колумеллу, который приказывал правителям - быть с народом, быть, как народ, и тогда бы они поняли его, и не глупили бы больше, и не кидали бы, вдруг, словно очнувшись от своего масляного сна, миллионы сестерциев на кровавую арену Цирка и Театра, чтоб заткнуть вонючие глотки бедноты из которых воют голодные кишки но они тише, чем звон мечей, развлекающих толпу гладиаторов.
Да, Империя извратила нравы, и сейчас, я чувствую, что вскорости, наступит то время, когда под жерновами загинет зерно, а муку размечут, так и не спекши из неё хлебов.
Разве можно, глядя в эту синезарную даль Понта, на белый Капри, на тонкожильчатый мрамор, своими розовыми пластами украшающий перистиль, на шумящую водицу, стекающую с крыши в имплювий, думать о Риме?
Можно...Можно и не замечать прелести платановых аллей, зелёных садов Октавии, широкого Марсова поля, можно, наконец, утерять нить воспоминаний о прогулках в портиках и о первых днях юности, но не забыть мне шумных взвозов и оглушающего крика в теснине Аргилета, навозных мостовых Велабра, грязной Субуры, орущей на все голоса, с её разношёрстными торговцами и рядами, с вечными водопроводчиками, разнимающими улицу, чтоб подвести воду в инсулы, благоухающие потроха в корзинах разносчиков, детские лепёшки на сале, которые так хорошо прихватить по дороге в школу... Да, этого не забыть.
Мои дюжие ливийцы так убаюкивающе носили мои октафоры по улицам, что даже занавеси не дрогали, когда приходилось останавливаться из- за клятых толпищ, покуда доберёшься до садов, на ту сторону Тибра...
Вот и сейчас - откидываю голову, и всё плывёт перед глазами, словно я - это тихая лодочка на медленных волнах, только на голове моей, уже не родные божественные локоны, которыми я укрывала себя до пят во времена стыдливого девичества, а германские белёсые кудри, уложенные витиеватой башней...О, юность...ты так помогаешь нам в старости, когда ничего уже не свято, и, кажется...всё уже далеко...
*******
Он позвал меня в полночь. Отчего же все преступления происходят под покровом ночи?
Накануне Луперкалий я была в оживлённом волнении. Дрожали перстни на моих пальцах, рабыня не могла уложить прядь к пряди.
В зеркале, блистающем медью, я глядела на своё молодое и глупое лицо. Долгоносое, крупноглазое, с двумя толстыми лепестками губ, которых не трогал ещё ни один смертный. Кудрями завивались над ушами золотистые волосы. Да, они были прекрасны...не тронутые сединой, живые и льющиеся, в кровавых руках моего брата...
Итак, он призвал меня в полночь.
Полла шла следом за мною, под тенью перистиля, неся в руках тёплый шерстяной плащ. На беду она сколола мою столу золотыми булавками на плечах. И я их потеряла. Это была цена моей невинности.
Гай встретил меня в темноте. Только три масляных лампиона бесчадно посверкивали справа и слева от его белого ложа, крытого леопардовыми шкурами и занавешенного косским шёлком пурпурного цвета. Гай сам отпер мне дверь, как только расслышал шёпот Поллы, принявшей мой плащ. Полла села у дверей, поодаль от центуриона, стоявшего на своём обычном месте , в тени от выхода в атрий.
В истомном полумраке были видны только очертания брата - курчавая голова, короткая туника, над которой смеялся весь дворец, и глаза, блеск которых так лихорадочно возвещал о его страсти... Глупый Гай думал меня обласкать, но только напугал, схватив за руки, за оба запястья, и усадив на ложе.
Рим уже утих. Только вдали слышалась деревянная колотушка, да где - то истошно вопила какая-то женщина. Видно, её схватили наши друзья, которые часом раньше, как только окончился ужин, вышли пошалить на Аргилет, облачившись в тёмные одежды и прихватив с собой ножи.
Гай тоже это услышал, замер, подбежал к окну и сквозь ставни стал прислушиваться, оскалившись, как волк.
- Слышишь ? Это недалеко от лупанария кричат! - Восторженно взвизгнул он, обратившись ко мне.- Пойдём к ним! Там - весело.
И тут же подскочил к ложу, как актёр на сцене, изменив настроение и вид.
Я сидела, вжавшись в леопардовый мех, чуя его под тонкой столой, которая вся светилась насквозь от хитрого света лампионов. Ладони мои успели вспотеть и сердце так и бесилось в груди, как от трясучки. Гай сел рядом, поглядывая на меня одним глазом, лишь слегка повернув голову.
- Ты боишься?- Спросил он меня, наконец, осведомившись.- Неужели и ты меня боишься?
Я опустила голову. И тут мне хотелось быть смелой, но слова, капали, как смола из раны дерева.
- Да, я - не исключенье, император. Если тебя боятся все, и даже мужчины, то, как могу я выделяться смелостью, являясь только женщиной?
Гай захохотал клокочущим смехом, идущим из глубины его мерзкой, лысой груди.
- Это правда...Но я хотел сказать совсем другое, а сказал - это! Зато я услышал то, что ожидал...
Меня не поколебали его слова. Да и что мне теперь терять?
- Славно. Вот и всё...теперь ты доволен.- Сказала я.
- Чем же?- Спросил он, укладываясь рядом со мною, и похлопал ладонью по ложу, приглашая лечь и меня.
- Я не хочу говорить. Мне это трудно, особенно сейчас, когда ты так недвусмысленно пригласил меня к себе на ночь. Истории с Друзиллой и Ливиллой мне хорошо известны. Особенно с Друзиллой, которую, ты, впрочем, и не прячешь. И выходит она от тебя всегда, облизываясь, как кошка, которую накормили сметаной.
Гай смешался.Он глядел вдаль, чему-то легко улыбаясь и на его лице было нехорошее выражение ложного стыда. Хотя, возможно, это было только ради смеха. Но мне было не смешно. С чего же он начнёт?
- Я всё вспоминал тебя маленькой, и мне становилось стыдно.- Вдруг начал он.- Я застыдился самого себя и своих дел, и тебя, и того, что мать и отец были бы недовольны мною...
- Тобой были недовольны многие. Недовольны они и сейчас. Этого достаточно.- Ответила я, съязвив, вспомнив, о Тиберии. - Ты достоин такого родича, но, даже ему далеко до тебя. Не хватает, разве, спринтиев - ни бы изрядно украсили твоё скучное существованье.
Гай поднял на меня голову и улыбнулся снова. В этот миг он был уродливее, чем когда злился.
- А за тебя им было бы ещё стыднее!- Вспомнил он родителей.
- С чего ты это заключил?
- Ты растёшь такой дрянью!- Крикнул он в сердцах и вскочил с ложа, смяв богатые покрывала.
- Я не дрянь. - Спокойно сказала я, ожидая этого.
- Но ты станешь ей. Я же не сказал, что ты : 'выросла дрянью'...Ты ей станешь.
- Разве тебе ведомы судьбы людей? Ты, хотя и император - но не можешь достоверно гадать по мне, даже вывернув мои внутренности наизнанку. Вдруг тебе захочется меня отравить...и я не вырасту дрянью...
Глаза его заблестели страшнее, и он тяжело свалился мне в ноги, охватывая мои колени липкими от сластей руками.
- Агриппина, сестрица, но не можем же мы, родившись в одной постели, быть разными?
- Можем.- Хладнокровно произнесла я, что было вполне мне тогда свойственно.
- Но я хочу сегодня быть тебе ближе матери!
- Тогда роди меня назад, ибо я не хочу делить с тобою ничего. Ни ложе, ни угощения.
Он засмеялся...Ах, как это было страшно!
Волчьи зубы Гая оскалились, блеснули в темноте, и снова он кинулся на шкуру своего роскошного ложа, прильнув ко мне разгорячённым телом. От него пахло, как от женщины, притираниями и маслами. Напомаженные волосы были уложены красивыми волнами. Так и льстилось мне вцепиться в них, а ещё лучше, если бы при этом, у меня был кинжал, или стилус. Ах, как бы этот Гай Калигула тогда взвыл - чем не Луперк?
Ветер трепетал в ставнях, как пойманная в силок птица. Стол с кушаньями был разобран почти до основания - недаром же Гаевы друзья разнесли по домам салфетки, разобрав остатки яств.
Ненавижу их всех! Я и мать, и отца, тогда готова была бранить за то, что они создали на свете таких чудовищ, как мы с Гаем... Скоро нестыдливое солнце прокатит по небесам в золотой колеснице, и своими священными лучами скользнёт по моему лицу, потерявшему невинность, а вместе с ней, и всё то лучшее, что ещё оставалось. Гай вот-вот захрапит от фалерна, густо благоухая хмелем, кокосовым маслом и жиром помады.
Минуту - и я решилась сбежать, соскользнув с покрывал. Но он настиг меня возле дверей, очнувшись от ложного сна, ухватив за запястья, и поволок обратно. Он хохотал, восторгаясь своим голосом, придумывая мне новые имена, обижая мою честь, которая пропала в тот час уже, как только Полла сколола золотыми булавками мою столу.
Одно движение - и захрустела ткань, посыпалось на мраморный холодный пол ожерелье.
- Немыслимая Агриппина, Неосторожная Агриппина, Агриппина Соблазнительная, Агриппина Невинная, Агриппина Сокрушённая...-Шептал Гай, обрывая меня, как майскую розу, только вместо лепестков была одежда, в которой он путался, сгорая от мужского нетерпения.
И в то время я была спокойна. Потому что нет минуты торжественней и чудесней, чем та, когда впервые тебя рушат, чтобы потом вознести.
Утро было мрачным. Я не могла уйти прочь от Гая, потому что спал он чутко, обвив меня руками до того прочно, что пришлось всю ночь думать и вспоминать кой - какие стихи душки Катулла, его любовника.
Всё бы ничего, но - с кем ещё так поступили, как со мной? Вот, завтра сдохнет Тиберий и брат станет императором, а он УЖЕ себя ведёт так, что может без зазрения совести пнуть весталку на форуме, и ничего ему не будет. Его только пожурят, только намекнут, что, де, Гай, осторожнее, для будущего императора Города, это - неприемлемо...
Наконец, когда его объятия распались, я ушла. Полла спала под дверью, в обнимку с моим - же плащом. Центурион округлил глаза, увидев меня в проёме дверей, лохматую, как бегущая Эхо, с растрёпанными волосами, и совершенно нагую.
Золотые булавки и сердоликовое ожерелье осталось у Гая. Потом, через много лет мне их вернули, но, брат был уже мёртв, а я уже была замужем за Гнеем Домицием.
Вот радость у меня была на другой день! Я завела себе двух любовников. И целую неделю, до самых февральских календ, ходила в венке из фиалок. Так мне хотелось проводить своё девство. Возлияниями и блудом. Чтоб стёрлась с лица навсегда краска смущения, покорно предоставляя поле для белил и румян.
Через неделю Гай снова позвал меня, ухмыляясь и ёрничая, он подарил мне жёлтое покрывало, и снова оставил на ночь.
Глава вторая.
Проклятый Тиберий! Он слишком долго жил, раскидывая своё поганое семя повсюду. Но, разве Гай - лучше? Он так хорошо был научен омерзению и гадостям, что страшно вспомнить эти чёрные дни. Я всем Ларам приказала закрыть глаза хлебным мякишем, чтоб они ослепли на дни правления Гая... Я не боялась его, пока он был жив, хотя и могла уснуть, а проснуться уже с оболом во рту...Нет. Я любила жизнь, и развлекала себя зрелищами тысяч смертей, как и все жители Рима, которые привыкли к ним, как к утреннему яйцу на завтрак. Мы так привыкали, считая, что станем смелее, но, становились бездушней и бесстрастней, и никто не жалел, что терял свою силу, уподобляясь тем самым мертвецам, остававшимся лежать в неприютных позах, в самом сердце Города, на божественно - золотом песке арены.
А мне сегодня было грустно. Я ходила вдоль берега моря и вспомнила, как Гай плавал на острова за останками наших братьев и матери. То, что он привёз тогда, было не похоже на злащёные тела гладиаторов, которых мы привыкли видеть мёртвыми...Тогда я впервые увидела лицо смерти, какое оно было на самом деле, и с тех пор глядела на свои руки, просыпаясь каждое утро, чтобы понять, сколько мне осталось до черноты и тлена? Теперь мы рядом, и это сладкое дыхание зольника, раздуваемого ветром, уже будоражит меня по ночам. Впрочем, грусть моя не потому... Ах, как шелковисто вьются волны, курчавясь барашками, и выплёвывая медузы, из красноречиво шепчущих, голубых ртов...
Перед чем - то ужасным или счастливым, мне всегда снится море...Словно, оно принесёт мне конец, как принесло мне Начало...И я чувствую это начало конца, медленно остывая от набегающих на мысли теней.
**********
Луций родился быстро. Это было хорошо, что не девочка, ибо я, так называемая, змея, родила себё змеёныша. Хотя, Гней Домиций и ненавидел меня, за что - то, он умудрился сделать мне ребёнка. Впоследствии было удивительно вспомнить о том, насколько я питала к нему идентичные чувства. Я только помню, что когда он приходил ко мне на ложе требовать исполнения долга, мне гораздо более нравилось его бесить, нежели удовлетворять и поэтому я часто притворялась спящей, или, попросту, мёртвой. Любила лежать с открытыми глазами, когда он поёрзывал, впопыхах, вспоминая о себе, как о мужчине, а не о существе жрущем и воняющем смрадным субурским лупанаром и конкубиновскими маслами. Правда, после я утешилась, заведя себе любовника, но это было после рождения сына, когда я небезразлично уяснила, что Луций не копия отца, а продолжение матери.
Когда сын был ещё в пелёнках, однажды, супруг ворвался ко мне, смяв складки уложенной накануне рабом тоги, и тем самым, погубив его работу, ворвался поглядеть на сыночка, а тот взял, за и схватил его за нос так крепко, что Гнеев нос сначала покраснел, словно платок фламиники, а потом посинел...И если бы я не отобрала малыша из рук отца, несмотря на мою дерзкую злобу в отношении мужа, будущего Нерона ждал бы не покорённый им город, а участь Гаевой дочки, которую разбили о стену центурионы.
Гней вопил, кропя меня вонью поношений, он называл меня шлюхой, и грязной развратницей, вызывая во мне усмешку, ибо я искренно не понимала его тавтологии и укромно косилась на ярящегося супруга, укачивая своего драгоценного малыша. А спокойствие моё всегда выводило Гнея из терпения.
- От тебя родится, разве что, крокодил, который пожрёт и тебя саму, и всех вокруг!- Орал муж.
- Ну и что?- Отвечала я самодовольно.
- Ты самая страшная ошибка в моей жизни! И лучше бы погас боярышник в твоих руках, когда ты шла к моему дому в брачный вечер!- Не унимался он, тыча пальцем в воздух.
- Испугал!- Чистосердечно оправдывалась я, навивая на пальцы мягкие локоны новорождённого Луция.
- Да будут прокляты Лары твоего рода, пустившие на свет клубок змей, которые не дают ничего, кроме подлого урожая!
- Уже дали!
- При твоём сыне я бы постыдился быть его матерью! Ибо он вырастет - и отомстит тебе за меня!
Да, на это я тогда не обижалась, зная, что невозмутимость ранит больнее ярости.
А Гней Домиций уходил, наступая на порушенную тогу, оставляя меня пылающей и гневной, вроде жаровни в бедной инсуле, которая нежданно прогорела, а хозяин в это время сидит на астийских играх.
Теперь все его тогдашние слова значения не имеют, ибо он сдох, пополнив подземные закрома, вместе с Гаем и всеми моими братьями и сёстрами, да простят меня маны и гении. Откровенно говоря, никогда ещё мне не хотелось остаться во всём свете одной, как тогда, чтоб кругом не было никого, кроме меня и сына.
Даже рабыни в мужнином доме убирали меня, чрезмерно загоняя заколки в волосы. Они не любили меня, навроде, им передалась нелюбовь к хозяину, и хотя я была доброй доманой по первому праву мануса, никто не радовал меня, кроме сына и мурен в бассейне, на вилле в Баулах.
Между тем, новый император начал, опять же с яиц, а окончил вовсе не яблоками, а фасциями...Ибо суд был для него слаще и интереснее Мессалины, развлекающей весь Город своими мерзкими похождениями, пока её навек не охладили в Ламиевых садах. Вот с ней, я подолгу любила побеседовать, и, несмотря на своё невозможное любострастие, Валерия была добра. Ну и что, что, довольно часто, она мазала лицо свинцом, а соски красила красной помадой...Вполне достойно быть женщиной, если ты ей родилась, и весьма стыдно быть женщиной, если тебя изволили выплюнуть на этот свет в мужском обличье. Валерия не извращалась, а охотно, и без разных гадостей доказывала Клавдию его прямое отношение к роду тех старых козлов, которые так любят потереться о молодую пышную красоту, своими гадкими останками, лишь бы в них зажглось ещё раз, лишь бы вспыхнуть больными членами, полапать жизнь, стылыми, вывороченными пальцами смерти.
Действительно, лично мне Валерия не была омерзительна, и её искусное облизывание, всех, напропалую, ребят, могла только веселить такую прожжённую гадину, как я. Ну да, мы вместе любили шёлк, причём - пурпурный шёлк, ибо нам всегда было что показать, и мы не стеснялись этого. Жаль, всё - таки, что она умерла и мне не с кем поворковать о мужчинах на старости лет...Нам было что вспомнить! О, да...
Однако, когда началась та глупая суета вокруг овдовевшего Мессалиной Клавдия, и бабьё, вульгарно тряся подолами стол так и пыталось занять левое место на ложе подле императора, откуда хорошо есть, и всё видно, и впереди не маячит причёска соперницы...Хотя, что я говорю! Возлежать на ложе за обедом, я начала только при Нероне, а
дурак Клавдий 'чтил' традиции.
Слава богам, и его прибрали!
Если правду говорить, я не собиралась его соблазнять. Так вышло. Однажды, я пришла к нему, и была полночь, это я хорошо помню. Так , как он был жуткий грязнуля, и ходил всегда обляпанный, смешной, и льстил бы себе дурацкими слюнями, я сама вымыла ему руки померанцевой водой. Дядюшка робел передо мной, но я этого не видела... И темнота позволила вымыть ему ещё и ноги, а потом...А потом я стала женой императора. Хотя и не первой, но зато последней...И какой я была плохой женой!!!
Мессалина, однажды, сидя со мною за пряжей, сказала мне дорогие слова, которым и цены нет.Тогда же я запомнила их, как лучший ритор.
- Агриппина, мужчины забывают, что не они правят на этом свете, а мы. Всё в мире случается из - за нас, женщин, мы- причина всего. Но никогда не говори им об этом, пусть думают, что мы этого не знаем.Говори с ними о нарядах, причёсках, пей и ешь с ними, люби их...но правь молча. Женщина - может всё. Руководя мужчиной мы начнём и закончим войну, построим и разрушим город, родим или убъём...Тайна творения дана женщине свыше и всё мы можем, когда захотим!
Так она сказала мне. И я похоронила эти слова до сих пор, чтоб теперь мой сын узнал об этом и ужаснулся тому, что могут сделать с ним женщины.
Глава третья.
Отравить Британика? Да, он должен стать императором, но только - зачем? Я хочу Нерону славу и честь Городу... А Британик...Он мог бы славно править, и мы бы не получили тех бед, которые сейчас окружают нас.
А мне нравится смотреть на то, как люди умирают... Это так интересно, наблюдать, что то, что стыдилось миг назад, теперь, подобно животному, лижет свои предсмертные слюни и вопит о пощаде. Наверное, я у Гая научилась, или, за моей спиной реет тень Тиберия...Но мне нравится, и это уж ничего не поделаешь, обычай, императорского дома Цезарей - Клавдиев...
Я даже не знаю, о чём думают женщины, выходя за стариков, находясь сами, ещё в поре цветения. Я оплела Клавдия только для сына, и более того, стараясь ночью решать свои дела, которые днём приходилось откладывать, добилась того, что он стал послушен и мирен в моих руках. Он сетовал и плакал мне на обманы предыдущих жён, он называл меня 'деточкой', всех его женщин я осмеивала вместе с ним, всех бранила, поддакивая ему, и, если это насторожило бы любого другого мужчину, то Клавдий распалённо желал жалости, сворачиваясь в собачонку у моих ног.
Удивительно было и то, что я, его племянница, обойдя более сильных и красивых претенденток, победив их, не стала зарываться...и моя роль была неприметна ровно до тех пор, пока Клавдий не помер от кушаний, поданных мною на усладу его желудка.
Говорили, что это была я. И что это была случайность... Но они не знают, что такое любовь матери, и любовь власти - тоже...Редкие люди осознают себя, дорвавшись до этой любви. Вот я и совсем сдурела тогда.
Если бы Мессалина не сыграла бы свадьбу при живом муже, да ещё при муже - императоре, то навряд ли бы Луций стал тем, кем он стал...А тут - случай на руку сыграл...За это сын не сказал мне спасибо.
Та орава детей, которых наплодил Клавдий во время своих трёх супружеств , уже не мешала мне, когда я стала его новой женой. Он старался прятать от меня подросшего до власти Британика, а я старалась чаще показывать ему Луция, играя на его отцовских чувствах, что плохо, де, быть мальчику без отца...Малец тоже уже умел делать отчаянные глаза, упражняясь в артистизме, пугая Клавдия и мягча его тупое сердце. Словом, мы его уговорили, и Луций стал Нероном, сыном Императора.
О , горазд же был Клавдий пожрать! Именно так только можно сказать о нём, потому что прорва пищи попадала в его объёмное брюхо...Правда, он страдал страшными болями от своих пирований, но это не мешало ему жить дальше, легкомысленно заявляя, что он хочет убить себя, как только чувствует эту боль. На этом то он и погорел, объевшись отравленных грибов.
Смешно сказать, что мы женились в Новый год, и в тот день я получила в дар столько золота, серебра, шёлка, пурпура и драгоценностей, что их несли за мною семьдесят всадников.
Я справедливо могла сказать, что Клавдий был совсем ручной, но его прихотливая изнеженность и бабьи капризы сводили меня с ума. Он любил пиры, во время их он добрел, упивался, наедался и становился, эдаким добряком, жадно глотая вина и пищу. К тому же, видя красивых женщин, еле сдерживался, чтоб не засмеяться своим отвратным смешком... И положение жены, то есть меня, для него всё более утрачивало свою важность. В одном мы были похожи - мы любили смотреть на смерть...и не могли пропустить ни игр, ни травли.
А ведь Клавдий не был дураком. Он был туп для всех, но в глубине души считал всех глупее себя, тем самым уподобляясь беззубой змее, которая потеряла своё единственное оружие, и надеется теперь только, что её не заметят, полагаясь на свою пронырливость и гибкость. Таков и Клавдий - врал, молниеносно и внезапно, искусно придумывая, по нужде - уворачиваясь, скользко, и всегда удачно.
Но прикидываться дураком, ещё до того, как он стал императором, было ему любо. Тут сыграл и случай, ибо, после правления тиранов, даже дураки видятся народу избавителями.
Вот так оно и вышло.
Ведь наш Город - он глуп. Его разум - это разум черни. Его глаза жадны, и они алкают зрелищ. Это глаза толпы. Лицо его - это не Квирины, чистота и аромат, а Коровий рынок, закровавленный театр и вонючая Субура - вот там он Город живёт и дышит, прерывисто и жадно. Город - это раззявленные рты нищеты и голодранцев, это мельтешащие клиенты, плебеи и трибуны. А мы, мы - властные, великие, выброшены из их миропонимания. Мы далеки от тех, кто может одним хлынувшим наплывом снести наши дворцы и сады, лишь только почувствовав спазмы голода, оказавшись без раздач...
Хорошо рассуждать о том, что Рим - город Божественный и Великий, любить его зной, журчание общественной воды в фонтанах, красный кармин избирательных кампаний на выщербленных стенах инсул, его придирчивых сплетников, сидящих во фруктовых лавках Аргилета...Я любила даже пыль Рима, которая никогда не украшала моих ног. И говор толп, виденный мною из просторного окна, выходящего на Форум, тоже был мне любезен, как живоносный исток, но только потому, что я сама никогда не была в толпе.
Я всегда страдала от одиночества, даже находясь среди людей...ибо была лишена свободы с детства, и только Мессалина несколько раз брала меня с собою в настоящий Город, тот, каким он был на самом деле.
Тот, кто хлебнул этой горькой истины, никогда не отрезвеет.
После Валерии Мессалины Клавдий не страдал долго. Он сумел справиться с собою, обозлившись на неё. После его третьего брака, место рядом оставалось вакантным....Я молодец...
При Тиберии мы могли ждать жестокости, при Гае - неожиданности, а при Клавдии - всего. То, что вчера было плохим, сегодня становилось хорошим, а назавтра вообще забывалось намертво. ' Как? Это сделал я?' : Спрашивал Клавдий меня , и тут же отрекался от собственных поступков.
О, как он бесчинствовал! Он, впадая в гнев, был неумерен. Но, к ужасу всех, и находясь в покое, он был ещё неумереннее. Он творил безобразия, конечно, несравнимые с Гаевыми и Тибериевыми, тогда было намного хуже...Но все его безобразия блистали лицемерием.
Если Гай их творил от души, не стесняясь, не боясь и не стыдясь, удовлетворяясь и наслаждаясь ими, то Клавдий всё делал, то - исподтишка, то- чтобы сохранить лицо, тайно.
Ну, будет об этом...
**********
Пира не было. Он просто поел.
Мой мальчик Нерон заимел сильного соперника. Этого Британика. Да, Британик был сказочно хорош собой...он просто очаровывал сходством с Валерией, с её пухлыми губами, ровным носиком, тонкой красотой, которая могла родиться разве что от подобной же красоты. И губя его, я даже жалела не самого человека Британика, а чудный цветок его невинной красоты, сорванный и брошенный в тлен.
Какие уж тут Гемонии могли сравниться с моей тогдашней жестокостью!
Ведь я позволила сыну убить его, а могла бы и подумать...
По сути, все правления начинаются с того, что людям замасливают глаза, обещая раздачи и дары.
Но потом за эти дары, нужно- же взять своё?
Так вот, я сказала, что пира не было... Сейчас , уже трудно вспомнить, но это был октябрь. Нет, если бы Клавдий так не гладил при мне своего Британика, не позволял ему почувствовать себя будущим императором, не надел бы ему тогу совершеннолетнего, возможно, и сам был бы жив. Но Клавдий заспешил, засуетился...загрустил и стал есть грибы.
В тот вечер, задумчивости его не было предела, и я, даже посмеялась, когда принесли ужин, что задумался он. Стоя на пороге Бездны, из которой нет возврата.
Мы ели с разных подносов и тарелок. Потому что я знала, что Клавдиева еда сегодня не пойдёт ему на пользу. Он пил секстариями, и заставлял всё время плясать вокруг себя пятерых рабов.
Я старалась казаться весёлой, и хохотала, чтоб не показать, что у меня всё дрожит. И снаружи и внутри. И вовсе не от волнения, а от скрытого восторга. Завтра - Нерон станет императором!
Клавдий в задумчивости переходил от козлятины к ракушкам, от полбы к запеканке, и, пока дошёл до грибов, наверное, перемешал в себе весь ужин, запитый тремя секстариями вина.
Я только наблюдала, и старалась не есть много. Клавдий, возлежа выше меня, на другом ложе, изредка кидал взгляды на танцовщиков, которые кривлялись под музыку до того славно, что не хотелось глядеть на перекошенного Клавдия.
Не хотелось, но я глядела, пока он не дошёл до грибов, которые с удовольствием съел маленькой костяной ложечкой.
- Агриппина! - Крикнул он мне через залу, перекричав немногих гостей, подобострастно располагавшихся ниже, на украшенных серебром ложах.- Иди ко мне!
Я поднялась, размяв затёкшую спину, поправила тунику, одетую поверх тёплой столы , и , набросив паллу из тарентской серо - блестящей шерсти, подошла, и встала за спиной Клавдия.
Его голова светилась крупной проплешиной сквозь убранную сединой макушку. И она взмокла. Толстая шея, во многих местах порезанная неловким цирюльником, крепко держала крупную его голову.
- Жёнушка, присядь подле меня, а то отошла себе и удалилась. - Сказал Клавдий, жуя мои грибы.
Я дрогнула, боясь, что он и меня накормит эдакой вкуснотищей.
- Поешь. - Сквозь слюни говорил Клавдий, так и не поворачиваясь ко мне.
- Я, пожалуй, пойду прилечь. Мне что - то нехорошо, и я совсем не выспалась. - Ответила я, пригнувшись к мужниному уху, щекоча его взмокшие от усердия седины. -
- Ты, пожалуйста, не переходи на килики...после секстариев, или, из - за стола тебя вынесут и опять будут вызывать рвоту...
Клавдий, откинув назад руку, пригнул мою шею к своей правой щеке и громко поцеловал её, вымазав жиром и сметаной.
От омерзения меня чуть не замутило... Ведь мы в последнее время с супругом не ладили...То, что с ним не ладила я, это объяснимо. А он, видимо, просто хотел какого-то свежего мяса...и сожалел, что не может жениться в пятый раз.
Глупый, глупый Клавдий!
Среди ночи в мою спальню прибежали Клавдиевы постельничие, которые обычно переносили его, или готовили на ложе. Это были уже немолодые мужчины, но они были так напуганы, что я вскочила от ужаса, не произошло ли что с моим Агенобарбом.
Но потом, удивившись тому, что даже заснула, не ожидая действия яда, я пошла к мужу, накинув только длинное покрывало поверх туники.
Клавдий был зелен, но жив. Когда я увидала его поверх разбросанных и облеванных подушек, захотелось кричать и топать ногами.
Его вырвало - и только, но он - жив.
- Ты переел. И, верно, перешёл на килики, обойдя моё предупреждение. - Сказала я , спокойно оправляя волосы, который расплелись в сплошную рыжую волну и чуть не падали в Клавдиеву блевоту, разбросанную по ложу.
Тот слабо улыбнулся, так- же лёжа, подёргивая глазами и чуть слышно бормоча.
- Ты была права, а я - перешёл на килики. - Ответил он, хватая меня за запястье.
Я легко убрала руку от его холодных рук, и дала рабам убрать его, обмыть и перестелить постель.
- Нужно промыть тебе желудок, или опять начнутся боли.- Сказала я ему равнодушно.
- Принесите тазы, миски и...килики. - Поиздевалась я.- С водой. Будем промывать императора.
Нерон тоже всполошился вместе со всеми. Он бежал как раз мне навстречу, из своей комнаты, по едва освещённому переходу. Его стройная фигурка, ещё не потерявшая юношеской легкости, быстро приближалась к покоям отчима. А Британик спал.
- Матушка,- горячо зешептал он, - кто это поднял всех среди ночи? Что случилось?
Я схватила его за плечи и прошипела с самой возможной для меня серьёзностью:
- Иди, и промой ему желудок. И будь с ним, как сын. Пусть Британик спит, а ты, пасынок, бди. И бди так, чтобы дядюшка уже не увидел утра. Ты понял меня?
Нерон мотнул головой в знак согласия. Я так испугалась за сына, что сейчас жаждала только того, чтобы Клавдий поскорей прибрался.
Однако, метался весь дворец. И Нерон ещё раза два прибегал ко мне рассказывая с возбуждённым хохотом, как Клавдий всё блюёт и блюёт, и как он ловко всыпал ему наш любимый порошочек прямо в воду для промывания...
Наутро всё было кончено.
Я долго сердилась на свои ногти, которые, как - то, неохотно, царапали мне лицо в знак скорби. И, распустив волосы, качаясь и вопя, я долго играла пальцами, чтоб найти достойную им позу выражения отчаяния и горя...так мне хотелось проводить Клавдия достойно... Но из зеркала на меня глядела молодая ещё, прекрасная женщина, у которой не горе, но торжество рвалось из глаз искрами. Я за всё теперь буду награждена! Это - мой триумф...
И подарок Нерону к семнадцатилетию... Уж он распорядится Римом!!!
Глава четвёртая.
Мы не могли признать всенародно, что Клавдий умер. А умер он уже давно, и его даже выставили на холодок, умаслив и натерев благовониями. Словом, когда мой Нерон Агенобарб поехал на носилках в лагерь преторианцев, Клавдий уже давно умер и даже успел бы окоченеть, будь зима на дворе. Не хотелось бы, чтоб он портил нам жизнь и мы довольно скоро его похоронили.
Так уж получилось, что Галот отрезал ему палец перед сожжением, тот, который и всыпал яд в грибки. Жалко было смотреть на Клавдия, обвисшее лицо которого, после смерти всё подтянулось, завосковело и поумнело, кажется. Даже мне стало завистно, что я не доживу до таких лет.
Подле погребального костра, Нерон суетливо и нетерпеливо подёргивал ногами, но меж тем, без запинки, говорил о праведных делах названного отца, и о его верности отечеству и народу. Он желал приступить к власти поскорее, как застоявшийся в стойлах цирковой конь, ах, как ему хотелось! И его молодость вскоре осыпали благостнейшими словами и выражениями, так восхваляя юную мудрость и искренность молодого принцепса...Но, к сожалению, от оливы не дождёшься персиков. В кого ему быть хорошим?
В кого Нерону быть хорошим? Ну, право, не в меня же? Не в Гнея же...это просто смешно! И Нерон стал плохим... Да, не заставил себя ждать, хоть все и надеялись на благоразумие молодой его души.
Ах, клянусь Юноной, разве могут дети быть не похожи на дядю по матери? Вскоре, как он стал крепнуть телом, ум его расслабился, как у Гая...В те времена, когда ещё Мессалина потряхивала тирсом на своих вакхических забавах, Луций Домиций Агенобарб был мальчиком добрым и послушным, хотя тётка Лепида не преминула развратить его, тогда ещё младенческую душу, вседозволенностью и капризами. Я его держала, как породистого скакуна, натягивая и отпуская шёлковую узду, а гнусная Лепида всё ему позволяла...Пока Луция не приняли в род Клавдиев, у него была ещё надежда стать славным человеком и добрым консулом, но, то ли это имя Нерона так переменило его, то ли его подростковый возраст, то ли Акте...
Теперь я хочу вспомнить о тех днях, когда он потерял любовь ко мне и стал судить меня, не жалея...О тех горестных годах, когда из мальчика он стал юношей и женская любовь победила любовь материнскую.
****
Сменив свою претексту на юношескую тогу, Нерон изменился на глазах. Ещё до того, как я вышла замуж за Клавдия, унизив себя для возвышения сына, идя на эту мерзость с несомкнутыми веками, и, наблюдая, как горит мой брачный боярышник, деньги у меня были. И пошла я с Клавдием вовсе не из - за беспутности и алчной жадности к деньгам, хотя, наследство Криспа, моего промежуточного супруга, порядком истрепалось и подходило к концу.
Клавдий, любитель женщин и их раболепный слуга, был твёрд только в одном...в том самом... Но я сейчас не об этом, хотя эти краткие воспоминания на пороге моей бездны и тешат меня своей вызолоченной красотой, ещё не померкшей с течением времени.
Итак, богатство Криспа я благополучно потратила, гонку за право быть женою дядюшки - выиграла. Сына моего Клавдий усыновил, и уравнял в правах со своим сопляком. Но дальше Нерон повёл себя не так, как я ожидала.
Он, словно раб, которого выпустили из клятой эргастулы в последний раз глянуть на синеву Небес. Да. С таким остервенением и страстью стал жить мой дорогой сын... и я поняла, что не знаю его...
- Моя жизнь не то, что ты видишь...а то, чего ты не видишь.- Любил повторять он мне в то время, когда ещё ничто не мешало нам быть друзьями.
Если бы не Поппея, я нашла бы способ смирить его нрав. Но любовницы всегда слаще матерей, какими бы матери добрыми и мудрыми не были...Любовницы Нерона всегда побеждали меня без боя, смеясь над моими падениями и оступками, и не думали они в этот миг, кто падёт потом больнее, что они тоже - женщины и их красота охотнее расцветёт тленом, нежели бессмертием. Ибо нет смертельнее удара, чем равнодушный долговой поцелуй собственного ребёнка.
Акте, по существу, только ввела Нерона в мир любовных наслаждений, забыв меж тем, своё место...
Он много обещал, был непревзойдённо смел и ласков. Выступил в цирке, бежал вместе с легионерами в полном вооружении...Консул Нерон был благоразумен и незаносчив. Но пришёл день, когда он стал императором и власть застила ему глаза.
Ко мне, по первому времени, он обращался так - же ласково, ни в чём не упрекал Октавию, не обижал и не дразнил её.
Так было совсем недавно...
Но время - бегучий ветер, сметающий нежно, но навсегда. У него есть и зубы, и когти, спрятанные в мягких подушечках. Смирен ход времени, но от него становится жутко, когда ты ощущаешь себя никем и ничем перед богами...
Мне уже сорок, и я ещё молода, но волосы мои блестят сединами, а стола дряхлеет складками на пожухлой груди. Сегодня нет никого у моего порога, потому что в постели Нерона - Поппея Сабина, но и она падёт под ласковыми когтями времени и торжествует только миг, который, несомненно, пройдёт для неё.
Я, мать Нерона, сегодня - враг его. И меня он любил до безумия, и теперь с таким - же неистовством ненавидит.
Потому что в постели его - Поппея Сабина.
Мир вокруг него гибнет и гаснет, не пламенеет радость и воля его сейчас - это воля гривастого льва, вынужденного ждать, когда его охотница принесёт добычу...Сам же он - падали рад, потому что в постели моего льва - Поппея Сабина.
Женщины всегда творят, что хотят... Они во всём властны. Этого не признает ни один мужчина, но женщины знают это с рождения.
Жена Нерона, его двоюродная сестра Октавия, дочь Клавдия и сестра Британика, была несчастлива в браке. Она страдала всю свою жизнь, а сейчас её страданиям вообще нет предела. Британик умер. И это так- же случилось на пиру...Только моего распоряжения не было - умертвить его.
На пиру в тот вечер было много молодых людей, и все они радовались хмелю и вкусным кушаньям. Британику надлежало скоро одеть тогу, ведь он во всём был равен Нерону. Нерон веселился от души, издеваясь над ним, возлежа в гнусной компании своих новых дружков, которые всё сильнее толкали меня локтями от него и давали постоянные поводы, чтобы мой любимый сын смеялся и шутил самым непристойным образом.
Даже Акте заняла место возле его ног, несмотря на мою к ней нелюбовь. Хотя, если бы я знала, что появиться Поппея, я бы лелеяла чувство Нерона к Акте и оберегала бы его так, как только могла...Любовь их была чиста и пронзительна, как молния Юпитера, осветившая небо. Но ту грязь, которая стала приходить в душу Агенобарба после его воцарения, не мог очистить никакой поток даже самой незапятнанной, самой целомудренной любви, которую только могла дать ему Акте.
Она сидела у его ног с нардом наготове, чтоб растереть его стопы, и умастить грудь, а он показывал в непотребном смехе свои молодые зубы, вторя Отону и Сенециону, лежащим с ним рядом на ложе.
Британик возлежал поодаль, в окружении таких же детей, как и он сам, и вид его был подобен отцовскому в тот памятный мне пир. Губы Мессалины на лице сына, опустились углами вниз, и мрачная печаль была в его глазах. Видно было, что он переживал за то, что посмел открыть своё сердце Нерону. Совсем недавно, в игре, он сказал, и даже спел стихи, в которых сетовал на несправедливость своей горькой участи. На бездушное окружение и горькую долю отверженного сына императора, что приходится терпеть насмешки и издёвки неродного брата, которого его отец имел глупость усыновить в обход собственному сыну.
Нерон мог бы и не услышать этих речей, но он отверз слух и внял. Видимо, не без умных советчиков он понял, что Британик, открывая уста, становится опасен ему. И моя, далеко не чистая совесть уже поигрывала во мне нехорошими волнами, говоря о том, что я совершила глупость , так безболезненно и легко, доставив сыну власть.
Ведь если бы благоразумье взяло верх над безумьем, Нерон правил бы мудрее и честнее. Им стали руководить жестокие и жадные желания, а слабые потуги добродетели не произвели на свет мудреца.
Я впервые испугалась тогда его...увидев в нём не человека, а существо коварное и совершенно лишённое жалости.
Британик вообще не обладал хорошим аппетитом, а тогда ел с удовольствием, потому что на днях очень страдал животом и наголодался. Я подозревала, почему ему было плохо, а после и узнала о том, что Нерон вызывал к себе Локусту, патлатую ведьму...
Локуста, большая мастерица в приготовлении ядовитых зелий, появлялась во дворце ночью, и я ничего не знала о замыслах сына. О, какое злодеяние он надумал! Какое решил сотворить преступление! Он отравил Британика дважды, и только со второго раза - удачно...
Когда ему поднесли горячее питьё, Британик только омочил губы и чуть не обжёгся. Раб поспешил разбавить кипяток холодной водой, в которую уже влили яд.
Происходившее в отдалении от меня, не занимало нашу женскую половину, и, никто бы не заметил того, что происходило с бедным Британиком, если бы не воцарившаяся вдруг тишина.
Окружавшие меня женщины и девицы, сперва, оторопев, вдруг приходили в себя, и выбегали прочь, визжа, за ними метались и их спутники. Нерон возлежал, не обращая никакого внимания на помертвевшего Британика, который, словно окаменел, и лицо его побелело, как у мраморной статуи.Через миг, он уже повалился ниц, так и не закрыв глаза, опрокинув столик перед собой. Разлилось красное вино по всему полу... Это было так жутко, словно Гадес сам пришёл за нами и разит, кого захочет...
Кубок с вином выпал из моих рук, и Октавия, сидящая ниже меня, вскрикнула и бросилась к моим ногам, обнимая их. Никто так ничего и не понял, но все испугались до безумия.
- Не тряситесь! У него бывает такое! Он с детства падает и бьётся, как жертвенная коза, которой вонзают в горло нож.- Вскрикнул опьяневший Нерон.
Ужас объял меня. Я схватила Октавию за плечи, и, не одев сандалий, вскочила с ложа и побежала прочь. Губы мои тряслись, глаза стояли неподвижно, мутными лужами, в смятении забывая моргать. Меня бил озноб, а вслед нам, убегающим, сгорбленной Октавии и мне, летели смешки Отона и Нерона, визг и вопли испуганных женщин и негодование мужчин, расходившихся с проклятого пира...
Теперь это уже было просто убийство, ради убийства, и оно потрясло меня своим хладнокровием.
Пробуждение Нерона
Часто бывает, что, очнувшись от дурного сна, ты находишься под его впечатлением целый день, и только к вечеру успокоится смятённый сновидением дух... И я, проводив Британика в последний путь, я, видевшая как пылает его костёр, который не мог угасить ливень, до сих пор вижу в том пламени себя, и не сомневаюсь в том, что оно близится.
Британика перенесли на Марсово поле, где неожиданно уже было приготовлено всё для его погребения. Откуда такая спешка - никто не мог понять, и только сын, ещё пьяный после пира, в липких одеждах, с всклокоченными волосами, которые потеряли завивку от дождя, он вещал о том, что остался один из рода Клавдиев...Он, один... Да...ведь Британика уже не было...
Глупо было участвовать в этой страшной комедии, но я не должна была ничего пропустить. Теперь надо следить за всем, что делается кругом с удвоенной внимательностью.
Мне казалось, что действительность охватила меня шипами, связала мои члены колючим терновником и каждое движение приносит страдание- так велика опасность уколоться, пораниться и погибнуть...Октавия, вскоре после погребального костра перестала рыдать и её отчаяние сменилось на мертвенное оцепенение. Когда нас несли в моих октафорах назад, на Палатин, она не плакала, а только содрогалась своим мраморно - белым лицом, сейчас, так схожим с лицом покойной Валерии.
Бедная Октавия давно потеряла мать, и недавно - отца, да ещё, к тому же, при таких неприятных обстоятельствах. Я не знала, как её утешить, ибо моё утешение было бы больней её страданий. Она не любила Нерона, а Нерон не любил её, заигравшись с Акте. Октавия была нехороша собой, большеноса, губы её были тонки, а руки и ноги длинны и широки. При том, бледные волосы, вытрёпывались из - под парика жалкими прядями, и я могла понять, почему Нерон не идёт к ней на ложе...
Акте, впрочем, была не виновата в нелюбви сына к своей жене. Только та трещина, однажды возникшая на сердце Нерона росла вместе с неприязнью Октавии, которую она старалась скрывать, как умела, потому что добродетель и верность украшали её не меньше, чем краски и чужие волосы.
Она часто, в задумчивости, бродила по садам, мечтая, быть может, о простой любви, или заботе. Но Нерон, воцарившись, стал ещё более капризен. Иногда и мне казалось - а не перепутала ли чего мать Церера, дав ему женскую душу: с таким любопытством он смоктал сплетни и слухи, с таким жаром рассуждал о притираниях для лица и целебных мазях для тела, с такой изнеженностью примерял шелка.
Потерялись те нити, за которые я дёргала, в надежде оживить и подвинуть его, они истлели с появлением женщин в его жизни. Женщины, словно смахнули младенческие кисеи, в которые была облачена его неокрепшая душа, и своими любострастными руками кутали и плели сеть вокруг Нерона, успешней Арахны.
Так уж вышло, что смерть Британика принесла свои плоды и меня удалили из дворца, поселив в небольшом, бывшем доме Антонии. Клиентела моя распалась, и, мало кто приходил с утренним визитом. В те дни мне не позволялось видиться с Октавией, которую Нерон совсем загнал в угол и крайне редко выводил на публику, только уж в самые важные моменты, когда требовалось, чтобы рядом с цезарем всё- таки присутствовала жена цезаря, знаменующая собою надёжность и крепость правления.
Нет, Нерон стал кровожаден и глуп. Он стал много играть на кифаре и петь, и порою, во многие дни, его видели совсем часто за этим занятием. Он и раньше достойно пел и играл, слагал стихи и исполнял чужие комедии, любя особо старика Плавта, но теперь, его восхищение, даримое самому себе, и всё учащающиеся грязные пирушки, с непотребными плясками и конкубинами самой подлой породы, его развлечения, со временем, ставшие всё более разнузданные и растленные, выглядели так ужасающе- гадко, что я даже стала сравнивать их с забавами Тиберия, с его гусями, которым он сворачивал шеи в порыве своей гнусной похоти.
Похоть, боль и грязь, они всегда идут рука об руку, и эти руки сплелись кругом шеи Нерона, увлекая его на самое дно. Когда он лишил меня моих германцев, оставив дом только под охраной рабов, я вознегодовала и призвала сына к себе.
Он вернулся, с моими же германцами, поцеловал и обнял меня, сыграл свою новую песнь и увёл назад моих телохранителей.
Так ни слова и не сказав об Октавии, запертой им во дворце, как в прочной клетке, где за каждой колонной перистиля стоял соглядатай и шпион.
Неронова неприязнь коснулась и меня, да так, что порог опустел совсем, а гады, ищущие добычи, вылезли из нор, чтобы жалить меня в моём одиночестве.
Казалось порою, что моё былое величие навсегда угасло и порушено моими же руками.
Тишина липла к языку, как чешуя, и не с кем было перекинуться словом. Лихорадочно бились мысли - что бы придумать, как бы поступить, чтоб сын вернулся к матери на грудь, чтоб снова его послушная голова склонялась передо мною в покорности и согласии.
Ветер рвал занавеси на окнах и пришла осень.
Однажды, ко мне вошёл вольноотпущенник Криспа, Виталий, и поведал о том, что творится во дворце цезаря, из которого меня удалили. Довольно! Нужно действовать, ибо минуты равны смерти.
Я глядела в узорный прямоугольник имплювия, слушая рокотание воды у ног, откинувшись на ложе, и мне чудилось, что это не вода течёт, а как раз моя кровь - так звонко было в ушах.
Октавию пытались обвинить в государственном перевороте, который она, видите ли, намеревалась совершить, выйдя замуж за родственника Клавдия, Рубеллия Плавта.
Не без моей помощи, конечно, она должна была совершить его, ибо я, испуганная переменами в Нероне, собрала достаточно денег, чтобы подкупить достаточно людей.
Но- Нерон побоялся поднять руку на жену и мать, и он этого не сделает... Только если наветы на меня не будут громогласны и не дойдут до его души раньше, чем мои ласки.
Я была совершенно одна, как и сейчас, но ни одна слеза не дрогнула на моих веках. Я не давала ни малейшего повода себя жалеть, хотя мгновенно лишилась даже любовников. Как раз они, как показатель, весьма красноречивы...Только я возле императорского трона - они со мной. Как только клиентела разбежалась, подруги ссылаются на мигрень, а вольноотпущенники не ссужают больше денег - и любовники пропадают.
И некому целовать мои холодные колени. Жаль...
Довольно быстро похолодала и погода, не только в отношениях меня и сына.
Глядя в зеркало на своё отражение, я с горечью понимала, что его не удержать. Я померкла, как серебро, долго не балованное песком. У меня глаза были непомерно печальны и даже танцовщики, пляшущие для меня, не радовали глаз.
Окончилось моё недобровольное заточение тем, что пришлось ехать во дворец и оправдывать свою непричастность к заговору, которого вообще не существовало.
Этот заговор был от начала до конца выдуман моим врагом. Меня хотели вывести из равновесия, заставить переживать и биться в их липкой паутине...Но нет...они не знали Агриппину. Не знали, на что способна мать.
Нерон выслушивал меня, словно я проситель перед квестором, словно я клиент перед патроном. Не хватало мне только досужей тоги, чтоб отяжелить плечи в римской толкотне и суете.
Больно было смотреть на то, как сын, опустив глаза, слушает мои речи, в которых не было ни гнева, ни обиды. Я боялась даже тень бросить на себя, сказав нечто, порочащее мою невинность перед императором. И в то же время, страшно было говорить, ибо мои слова толковались так, как хотел император.
Сенека имел на него большое влияние, и теперь, сидя подле него, выслушивал меня с непринуждённо-наглым видом судьи.
А ведь я сама вернула его из ссылки. Сама позволила приблизиться к Агенобарбу, надеясь, что старый и умудрённый человек сможет вложить в его голову добрые и справедливые мысли.
Однако, оказалось, что Нерону не нужен Рим.И не нужен римский народ. И управление страной только мешают ему завивать и душить кудри, да играть на кифаре.
Прошло какое - то время, и Янус снова повернул годовое колесо. Наступил новый год и холода всё ещё мучали меня, покинутую и забытую, хотя, речи мои, все, сказанные в моём доме, об устройстве государства, о продажности и подлости сенаторов, о внешних и внутренних делах, рассуждения и умозаключения, доносились Нерону слово в слово, и он пользовался ими, обсудив их с Сенекой.
Зимняя тьма и холода заперли людей дома. Рабы плотнее перевязывали свои туники и натягивали кудлатые плащи. Но и они страдали от холода, как и во времена Колумеллы, имея одно рубище на все сезоны.
Глядя на своих раздобревших в городе рабов, я усмехалась над тем, как самодовольно и дерзко они чувствуют себя рядом со мною.
Недолгое время пробыв в Городе, где становилось неспокойно с каждой ночью, я удалилась в Байи.
Словно тревога повисла над Римом.Чудилось, что вернулись времена цезаря Гая Германика, и никто не поручится за свою жизнь.
Нерон натащил полный дворец конкубинов и девок. Он ходил с ватагой своих приближённых, в числе которых был и Парид, обвинивший меня в заговоре, и Отон, и все те, кто пристал к ним из любви к притонам и разврату.
С ножами под одеждами, они громили лавки на Субуре, пользуясь полной своей неуязвимостью и безнаказанностью, ибо телохранители императора всегда готовы были ввязаться в бой, завязанный самим императором! Рим недоумевал, видя такие зрелища! Ни инсулы, ни богатые дома не знали, что будет на другой день. Возбуждённый вином Нерон со спутниками бросался в подворотнях на запоздалых путников и торговцев и выпускал им кишки. Он задевал и задирался к болельщикам в цирке, устраивая побоища между сторонниками красных и зелёных, свистел, гудел и бесновался, а когда плебеи начинали молотить друг друга из-за цветов своих тряпок, прятался в носилки и заливисто смеялся, как визгливая лошадь, чересчур недовольная перетянутыми удилами.
Он стал завсегдатаем Мульвиева моста, и там не стыдился своих грязных желаний охотно употребляя плоть юношей и дев в своих развратных целях.
Женщинам и девицам самых высоких фамилий был стыд и беда от пьяной банды императора, в разодранных одеждах, с перевязанными головами и сверкающими мечами, носящейся по утихшему в ужасе Городу.
Нерону нравилось проливать кровь, как сок, не взирая на её цену, ибо только зрелище имело цену и всякое зрелище имело цель развлечь императора.
После того, как Нерон уставал резать и колотить, он растлевал и надругивался. После этого он мог часами играть на кифаре и петь гимны в честь Аполлона и Юпитера...
Боги чаяли ослепнуть, но не сотрясался Город и не низвергался на него град камней, с пошатнувшегося престола небесного, где они видели всё, творившееся на земле.
Поппея.
Я не буду грустить потерянному величию, ибо оно преходяще.
Так проходит наша жизнь, мимо нас, и помимо наших желаний, когда мы не умеем воспользоваться тем, что дано нам богами и растрачиваем себя на дешёвые дела и никчемные слова.
Сила богов в каждом из нас от рождения, но кто может чувствовать её так, как человек, наделённый высшей властью? Кому она может быть так же сладка, как человеку умеющему распорядиться своими капризами и увлечениями?
Но тот, кто причастен к божественной власти, не ценит простой красоты и не умеет глядеть, прищурив глаза. Он льстится всё заметить, но ленится познать, потому, целое видится ему несовершенным, а несовершенное кажется искусным.
Нерон хотел славы, не имея высокого таланта, и разнося себя по бесчисленным причудам. Голос его был не полётен, а противен. Сердце не трудолюбиво, а жадно. Зависть к чужому таланту и чужой красоте всегда гибельна и разрушительна. Так и он - разрушал и губил с отчаянием и злобой, которая так не к лицу императору...
Поппея Сабина была женой Отона, супругой прославленного рогоносца...
Отон, думая приблизиться к Нерону, подсунул под него свою жену, быстро сообразившую свою выгоду.
Не было и нет на свете женщины изворотливей и хитроумней Поппеи Сабины...
Ещё будучи замужем за Руфрием Криспином она предавалась прелюбодеяниям с Отоном, ничуть не стесняясь этого, хотя по Закону только добродетельная жена может быть прославлена в веках. Совесть? Нет, она не знала о совести. Только приключение достойно было её внимания, а приключением для неё приходился разврат и душегубство. Думаю, Поппея прославит себя этим, не хуже Мессалины.
Когда мы начинаем мучить других, мы понимаем, что этим хотим заглушить свои мучения, так вот, Поппея, низкая, грязная развратница с божественно - прекрасным лицом и телом, какие обычно бывают у тех жён, что добывают себе славу и богатство красотой, стала для меня непреходящей мукой, заняв в сердце Нерона то место, на которое целилась я.
Она стала появляться во дворце как раз в те дни, когда я была в жестокой опале, когда, против меня выдвигали страшные обвинения, будто бы я не мать, а змея, алкающая человеческой шеи.
Прекрасная женщина, коронованная такими внешними достоинствами, у ног мужчины, это беда - почище войны...и Нерон стал сражаться со мною, объединившись с ней...
Во дворце говорили, что она не принадлежит уже Отону, что живёт у Нерона, восхваляя его красоту и талант, но, когда только Нерон начинает гнуться под её лаской, как лакричная конфета от жары, Поппея убегает к своему мужу, пыля проклятиями и стенаниями.
Нерон, к тому времени округлился, входя в пору молодости, его подбородок пожирнел, а борода ещё больше стала похожа на пучок медной проволоки. Он стал пользоваться чужими волосами и редкими притираниями для лица, его разнежили руки рабов, и доступность любых желаний.
Он стал другим, днями и ночами, позабыв в Паренталии о предках, позабыв о Луперках в их священный День, позабыв Манов и Ларов в домашних нишах, пел и плясал, бесясь и кривляясь, изображая то мужа, то жену, то и того, и другую. Так ведут себя пьяные актёры, да и то, мне было бы стыдно рядом с ним.
А Поппея, с отвратительной любострастностью целовала его на пирах, играя с ним и забавляясь, потакая ему во всём, не стесняясь никого из общества, чтобы потом в очередной раз убежать к Отону, и нажаловаться на Октавию.
Судьба Октавии была несчастна и горька. Она, помутневшими глазами, равнодушно смотрела на то, как Поппея своей свежей страстью, горючей и ароматной, как букет весенних роз, кутает Нерона, погрязшего в пороке, которому, словно, наскучило всё, а это неподчинение, неравновесие и бесконечная игра на кифаре его души была ему внове. Она забавляла, эта игра, но и затягивала, ибо не было той силы, что могла бы оторвать своенравную Поппею от Нерона.
Нельзя было и мне попасть к сыну, чтоб поцеловать и обнять его. Если раньше мы часто засыпали вместе, коснувшись друг друга головами и перепутавшись волосами, я вдыхала нежный запах его юного тела и могла часами глядеть на то, как он спит, то теперь меня не пускали к нему ночью. Он больше не хотел материнских ласк, не хотел моих благословений...
Однажды, я даже подслушивала под дверьми, как он говорил с Поппеей о том, чтобы избавиться от Октавии.
Наступил уже поздний вечер и в окна задувал тёплый воздух, колыша занавеси. В опочивальне Нерона томно играла египтянка, чуть трогая свой заунывный систр и напевая песнь на своём языке. Поппея и Нерон говорили громко и цыкали на молодую певунью, когда она останавливалась, чтоб не отвлекать их разговор на себя, но она иногда смолкала, потупляя глаза от смущения.
- Играй Найла, играй, чтоб никто нас не подслушал!- Вскрикивал Нерон на неё.
Я уже подкупила телохранителей сына, чтоб они пропустили меня, хотя бы издалека увидеть его, тем более, что это были , в прошлом, мои люди, и, верные мне, несущие службу честно и исправно. Они сжалились под натиском материнской любви.
Нерон возбуждённо ходил по зале, выложенной красным мрамором, подобрав полы своей шитой золотом туники, время от времени, утирая пот со лба.
В этом году выдался жаркий июнь, и подходили иды, и зной не спадал. Рабы изнемогали на работах, обливаясь потом, ветры несли жар с юга, и дожди не проливались на землю с майских нон. Сохли посевы в полях и мычал скот, заедаемый слепнями. В храме Великой Матери кровь жертвоприношений уже приходилась по щиколотки жрецам, но дожди не шли, словно само Небо забыло о нас...
Но Поппея, в нежной прохладе Неронова дворца была свежа и благоуханна, как только что распустившаяся на грядке роза. Её волосы доставали завитыми локонами до подколенок, изливаясь ярчайшим германским янтарём, искрясь на солнце, как пласты золота. Насмешливые хитрые глаза, дымчато - стального цвета, глядели смело из- под длинных ресниц, тронутых египетской краской.
Поппея была так хороша, одетая, словно только для того, чтоб её поскорее раздели, убранная для того, чтобы подогреть страсть разрушить её убранство, что и я загляделась в простенок, прильнув своим морщинистым лбом к холодному травертину галереи.
Мне хотелось в тот миг, хоть на минуту стать той Агрипиной, которая с такой равнодушной храбростью когда-то отдалась брату, а потом, со змеиным расчётом, обвилась вокруг дядиной шеи, целуя и кусая бедолагу Клавдия для него...для того, кто сейчас бранится с этой чужой, прекрасноплечей и золотоволосой женщиной, допущенной ближе, чем я...
- Я не могу жить с Отоном! - Вскрикивала она, артистично ломая руки, вороша свои волосы, и презирая заботы рабынь...- Он целует меня, а всё ты перед глазами, Всё ты...И губы его мне противны, и руки его грубы по сравнению с твоими...
Нерон слушал её, присев на ложе.
Египтянка пробежала мимо меня, прижимая систр к полуобнажённой груди , и скрылась во мраке переходов.
- Ну, и что же ты хочешь от меня? Ведь я женат, у меня - Октавия. Мы оба несвободны...- Отвечал Нерон сипло, заглядываясь на Поппею.
Она продолжала гневно и резко, словно говорила не с императором, а с простолюдином, с одним из своих любовников, хотя, быть любовником Поппеи мог стать не каждый...Далеко не каждый.
-Но, ты же знаешь, как бывает...- Сказала Поппея тихо, присаживаясь к нему на колени. - Бывает же беда...
Нерон гладил её по спине.
- Но не с каждым, и не так часто. - Ответил он задумчиво, -пока что, живи так, и я не намерен принимать других решений.
Поппея вскочила, как ужаленная, оправила свои серебристые одежды и стала в нетерпении ходить по зале. Её голос был тих, но я прекрасно слышала те страшные слова, которые она говорила.
- Тогда я уйду. Уйду к мужу. Ибо положение любовницы унижает меня и оскорбляет.
- Мы живём не как любовники,- попытался возразить Нерон.
- Но не по закону manus!Я не чувствую себя вправе распоряжаться...даже...твоими подарками.
- Помилуй, Поппея, да кто мешает тебе ими распоряжаться?
Она повернулась, рассыпав волосы по плечам и вскинув голову.
- Если ты не примешь должного решения и не устранишь свою жену...мне всё равно как...ты это сделаешь...больше не говори мне прийти. Я не приду.
Она сорвала с шеи золотое ожерелье из тяжёлых конических лепестков и бросила Нерону под ноги.
- И твой первый дар забери. Я ухожу к мужу. Решай свои семейные дрязги. Дура Октавия и так тебе не жена, ты так и не обрюхатил её за всё то время, что пользовался её недолгим расположением.
У меня, казалось, волосы на голове встали дыбом. Да как она смеет наносить такие оскорбления императорскому семейству? Кто она такая? Очередная подстилка, наложница?
- К тому же, твоя мать, крутит тобой, словно шашкой над доской. И ставит тебя, на любую клетку, на которую ей захочется, даже не думая, понравиться ли это тебе. Она распоряжается Римом, она, и её любовники. А ты ждёшь, когда Город за твоей спиной перейдёт к какому - нибудь её новому Палланту!
Нерон молчал, опустив голову, как пес, которого журит хозяйка.
- Да-да...Она тобою руководит. И ты, ты об этом молчишь. Но я - то терпеть не стану, я не боюсь сказать любимому всё, что ему грозит. Если хочешь знать,- победоносно вещала Поппея, - мать твоя тоже вьёт вокруг тебя заговоры, не хуже чем шерсть на веретене.
То, что я увидела, повергло меня в ужас не меньший, чем при смерти Британика.
Нерон заплакал и ткнулся в высокий подголовник ложа, перебирая его пальцами. Другую руку он протянул к ней, к Поппее, призывая её к себе.
- Нет, я не пойду к тебе. Я ухожу к Отону. Пока ты не изменишь моё положение. И своё тоже.
Казалось, моё появление из - за двери нанесло столь сокрушительный удар этой своевольной женщине, что закачался дворец. Так она побелела, увидев меня внезапно.
Я долго собиралась к сыну, и оделась в золотое платье от горла до стоп расшитое жемчугом.
Волосы мои были убраны широкими косами, губы мерцали, покрытые золотистой помадой. Но взгляд, пусть уже немолодых глаз, был вернее меча. И был он страшен Поппее.
Нерон, услышав молчание Поппеи и шорох моих сияющих одежд, поднял голову.
На его лице отразилась беспомощность младенца, просящего законного молока.
- Я помешала вам...- Сказала я твёрдо, обращаясь к ней.- Так какое положение должен изменить Нерон?
Вслед убегающей Поппее я метнула взгляд полный ненависти.
- Матушка!- Выдохнул Нерон и бросился ко мне на грудь, увлекая меня за собой на ложе.
С полчаса он рыдал и клялся в том, что его заставляют и мучают, не позволяя нам видиться.
Следующие полчаса молчал, после, умолял простить его за всё то, что было сделано мне и Октавии.
Уже под утро мы ушли из дворца под покрывалами, укрывшись и говоря о сокровенном...Тогда он в последний раз был моим сыном, а я была его матерью...
Тогда мы были вместе в последний раз... *(продолжение следует)
Глава первая.
Дождь в Риме похож на Марсовы стрелы. Он гудит и шуршит, и всё напевно бормочет, смывая с крыш остатки человеческого и питая воздух духом Геликона...Как хорошо, когда он стреляет в смертных то холодными долгими пассами, то короткими ударами, похожими на удары фасций. И всё он смиряет, создавая на улицах образцовую тишину, сумеречную чистоту, поднебесный покой, разгоняя плебеев и всадников.
Как я люблю дождь в Риме, шествующий царственными шагами по Городу, судьба которого быть заодно с Богами, его напевный шёпот - голос няньки у колыбели, забывшей о покое, голос ногтей хозяина, в волнении постукивающего по мраморной столешнице, голос близкой прохлады в преддверии предосенья. Я люблю дождь, он дарит мне беспокойство, необходимое для действия.
И теперь он выступает кровавой испариной на жирных затылках патрициев, у которых не осталось иного удовольствия, как только услаждать своё нёбо пирами и мракобесием.
Они не знают, что ждёт их, ибо- одно из высочайших счастий не знать Грядущего, но я вижу в этом наказание, только наказание. Не сегодня, так завтра слетят их головы, и собаки их станут бездомны, а рабы разбегутся. Таков всевечный закон равновесия - и, да будет так...
Но мне не будет страшно, потому что римский дождь мой союзник и под его прозрачным пеллумом я иду на Субуру, где даже в холод кипит жизнь.
Когда на Понтийских островах со мной оставалась одна Полла, мы любили ворковать за пряжей, как вернёмся в город, и, как примут нас там...Я скучала о сыне, которого оставила со старой Лепидой, так далеко...Что без меня его щёки покроются пухом юности, без меня он будет бороть сверстников в поединках, без меня будет бегать по палестре, упражняясь с копьём и щитом. Всё это увидит старая гадина Лепида, а не я...В изгнании, с сёстрами я виделась часто, но они всегда были далеки от меня, хотя родились мы от одного чрева. Чудилось, что позже, будет и мне поднесена пиршественная чаша, но без яда, а полная божественного фалерна. Да, хотя бы бобовая каша, или жертвенный полбяный хлебец, но только чтоб напитал их Город своим очистительным духом, чтоб дали они моей душе успокоения и умирения...
Я хотела вернуться в Рим без Гая, без того, кого называли Калигулой, в Рим, без него, моего брата, который давал справедливые уроки унижения этим разомлевшим в довольстве бегемотам, словно они - священные животные египтян, и могут жрать, совершенно безнаказанно, всех, кого им на потребу кинут, только ради услаждения собственных желудков,
А эти блестящие всадники, патриции, возлежали на пирах, не считая рябчиков и рыб, забыв Колумеллу, который приказывал правителям - быть с народом, быть, как народ, и тогда бы они поняли его, и не глупили бы больше, и не кидали бы, вдруг, словно очнувшись от своего масляного сна, миллионы сестерциев на кровавую арену Цирка и Театра, чтоб заткнуть вонючие глотки бедноты из которых воют голодные кишки но они тише, чем звон мечей, развлекающих толпу гладиаторов.
Да, Империя извратила нравы, и сейчас, я чувствую, что вскорости, наступит то время, когда под жерновами загинет зерно, а муку размечут, так и не спекши из неё хлебов.
Разве можно, глядя в эту синезарную даль Понта, на белый Капри, на тонкожильчатый мрамор, своими розовыми пластами украшающий перистиль, на шумящую водицу, стекающую с крыши в имплювий, думать о Риме?
Можно...Можно и не замечать прелести платановых аллей, зелёных садов Октавии, широкого Марсова поля, можно, наконец, утерять нить воспоминаний о прогулках в портиках и о первых днях юности, но не забыть мне шумных взвозов и оглушающего крика в теснине Аргилета, навозных мостовых Велабра, грязной Субуры, орущей на все голоса, с её разношёрстными торговцами и рядами, с вечными водопроводчиками, разнимающими улицу, чтоб подвести воду в инсулы, благоухающие потроха в корзинах разносчиков, детские лепёшки на сале, которые так хорошо прихватить по дороге в школу... Да, этого не забыть.
Мои дюжие ливийцы так убаюкивающе носили мои октафоры по улицам, что даже занавеси не дрогали, когда приходилось останавливаться из- за клятых толпищ, покуда доберёшься до садов, на ту сторону Тибра...
Вот и сейчас - откидываю голову, и всё плывёт перед глазами, словно я - это тихая лодочка на медленных волнах, только на голове моей, уже не родные божественные локоны, которыми я укрывала себя до пят во времена стыдливого девичества, а германские белёсые кудри, уложенные витиеватой башней...О, юность...ты так помогаешь нам в старости, когда ничего уже не свято, и, кажется...всё уже далеко...
*******
Он позвал меня в полночь. Отчего же все преступления происходят под покровом ночи?
Накануне Луперкалий я была в оживлённом волнении. Дрожали перстни на моих пальцах, рабыня не могла уложить прядь к пряди.
В зеркале, блистающем медью, я глядела на своё молодое и глупое лицо. Долгоносое, крупноглазое, с двумя толстыми лепестками губ, которых не трогал ещё ни один смертный. Кудрями завивались над ушами золотистые волосы. Да, они были прекрасны...не тронутые сединой, живые и льющиеся, в кровавых руках моего брата...
Итак, он призвал меня в полночь.
Полла шла следом за мною, под тенью перистиля, неся в руках тёплый шерстяной плащ. На беду она сколола мою столу золотыми булавками на плечах. И я их потеряла. Это была цена моей невинности.
Гай встретил меня в темноте. Только три масляных лампиона бесчадно посверкивали справа и слева от его белого ложа, крытого леопардовыми шкурами и занавешенного косским шёлком пурпурного цвета. Гай сам отпер мне дверь, как только расслышал шёпот Поллы, принявшей мой плащ. Полла села у дверей, поодаль от центуриона, стоявшего на своём обычном месте , в тени от выхода в атрий.
В истомном полумраке были видны только очертания брата - курчавая голова, короткая туника, над которой смеялся весь дворец, и глаза, блеск которых так лихорадочно возвещал о его страсти... Глупый Гай думал меня обласкать, но только напугал, схватив за руки, за оба запястья, и усадив на ложе.
Рим уже утих. Только вдали слышалась деревянная колотушка, да где - то истошно вопила какая-то женщина. Видно, её схватили наши друзья, которые часом раньше, как только окончился ужин, вышли пошалить на Аргилет, облачившись в тёмные одежды и прихватив с собой ножи.
Гай тоже это услышал, замер, подбежал к окну и сквозь ставни стал прислушиваться, оскалившись, как волк.
- Слышишь ? Это недалеко от лупанария кричат! - Восторженно взвизгнул он, обратившись ко мне.- Пойдём к ним! Там - весело.
И тут же подскочил к ложу, как актёр на сцене, изменив настроение и вид.
Я сидела, вжавшись в леопардовый мех, чуя его под тонкой столой, которая вся светилась насквозь от хитрого света лампионов. Ладони мои успели вспотеть и сердце так и бесилось в груди, как от трясучки. Гай сел рядом, поглядывая на меня одним глазом, лишь слегка повернув голову.
- Ты боишься?- Спросил он меня, наконец, осведомившись.- Неужели и ты меня боишься?
Я опустила голову. И тут мне хотелось быть смелой, но слова, капали, как смола из раны дерева.
- Да, я - не исключенье, император. Если тебя боятся все, и даже мужчины, то, как могу я выделяться смелостью, являясь только женщиной?
Гай захохотал клокочущим смехом, идущим из глубины его мерзкой, лысой груди.
- Это правда...Но я хотел сказать совсем другое, а сказал - это! Зато я услышал то, что ожидал...
Меня не поколебали его слова. Да и что мне теперь терять?
- Славно. Вот и всё...теперь ты доволен.- Сказала я.
- Чем же?- Спросил он, укладываясь рядом со мною, и похлопал ладонью по ложу, приглашая лечь и меня.
- Я не хочу говорить. Мне это трудно, особенно сейчас, когда ты так недвусмысленно пригласил меня к себе на ночь. Истории с Друзиллой и Ливиллой мне хорошо известны. Особенно с Друзиллой, которую, ты, впрочем, и не прячешь. И выходит она от тебя всегда, облизываясь, как кошка, которую накормили сметаной.
Гай смешался.Он глядел вдаль, чему-то легко улыбаясь и на его лице было нехорошее выражение ложного стыда. Хотя, возможно, это было только ради смеха. Но мне было не смешно. С чего же он начнёт?
- Я всё вспоминал тебя маленькой, и мне становилось стыдно.- Вдруг начал он.- Я застыдился самого себя и своих дел, и тебя, и того, что мать и отец были бы недовольны мною...
- Тобой были недовольны многие. Недовольны они и сейчас. Этого достаточно.- Ответила я, съязвив, вспомнив, о Тиберии. - Ты достоин такого родича, но, даже ему далеко до тебя. Не хватает, разве, спринтиев - ни бы изрядно украсили твоё скучное существованье.
Гай поднял на меня голову и улыбнулся снова. В этот миг он был уродливее, чем когда злился.
- А за тебя им было бы ещё стыднее!- Вспомнил он родителей.
- С чего ты это заключил?
- Ты растёшь такой дрянью!- Крикнул он в сердцах и вскочил с ложа, смяв богатые покрывала.
- Я не дрянь. - Спокойно сказала я, ожидая этого.
- Но ты станешь ей. Я же не сказал, что ты : 'выросла дрянью'...Ты ей станешь.
- Разве тебе ведомы судьбы людей? Ты, хотя и император - но не можешь достоверно гадать по мне, даже вывернув мои внутренности наизнанку. Вдруг тебе захочется меня отравить...и я не вырасту дрянью...
Глаза его заблестели страшнее, и он тяжело свалился мне в ноги, охватывая мои колени липкими от сластей руками.
- Агриппина, сестрица, но не можем же мы, родившись в одной постели, быть разными?
- Можем.- Хладнокровно произнесла я, что было вполне мне тогда свойственно.
- Но я хочу сегодня быть тебе ближе матери!
- Тогда роди меня назад, ибо я не хочу делить с тобою ничего. Ни ложе, ни угощения.
Он засмеялся...Ах, как это было страшно!
Волчьи зубы Гая оскалились, блеснули в темноте, и снова он кинулся на шкуру своего роскошного ложа, прильнув ко мне разгорячённым телом. От него пахло, как от женщины, притираниями и маслами. Напомаженные волосы были уложены красивыми волнами. Так и льстилось мне вцепиться в них, а ещё лучше, если бы при этом, у меня был кинжал, или стилус. Ах, как бы этот Гай Калигула тогда взвыл - чем не Луперк?
Ветер трепетал в ставнях, как пойманная в силок птица. Стол с кушаньями был разобран почти до основания - недаром же Гаевы друзья разнесли по домам салфетки, разобрав остатки яств.
Ненавижу их всех! Я и мать, и отца, тогда готова была бранить за то, что они создали на свете таких чудовищ, как мы с Гаем... Скоро нестыдливое солнце прокатит по небесам в золотой колеснице, и своими священными лучами скользнёт по моему лицу, потерявшему невинность, а вместе с ней, и всё то лучшее, что ещё оставалось. Гай вот-вот захрапит от фалерна, густо благоухая хмелем, кокосовым маслом и жиром помады.
Минуту - и я решилась сбежать, соскользнув с покрывал. Но он настиг меня возле дверей, очнувшись от ложного сна, ухватив за запястья, и поволок обратно. Он хохотал, восторгаясь своим голосом, придумывая мне новые имена, обижая мою честь, которая пропала в тот час уже, как только Полла сколола золотыми булавками мою столу.
Одно движение - и захрустела ткань, посыпалось на мраморный холодный пол ожерелье.
- Немыслимая Агриппина, Неосторожная Агриппина, Агриппина Соблазнительная, Агриппина Невинная, Агриппина Сокрушённая...-Шептал Гай, обрывая меня, как майскую розу, только вместо лепестков была одежда, в которой он путался, сгорая от мужского нетерпения.
И в то время я была спокойна. Потому что нет минуты торжественней и чудесней, чем та, когда впервые тебя рушат, чтобы потом вознести.
Утро было мрачным. Я не могла уйти прочь от Гая, потому что спал он чутко, обвив меня руками до того прочно, что пришлось всю ночь думать и вспоминать кой - какие стихи душки Катулла, его любовника.
Всё бы ничего, но - с кем ещё так поступили, как со мной? Вот, завтра сдохнет Тиберий и брат станет императором, а он УЖЕ себя ведёт так, что может без зазрения совести пнуть весталку на форуме, и ничего ему не будет. Его только пожурят, только намекнут, что, де, Гай, осторожнее, для будущего императора Города, это - неприемлемо...
Наконец, когда его объятия распались, я ушла. Полла спала под дверью, в обнимку с моим - же плащом. Центурион округлил глаза, увидев меня в проёме дверей, лохматую, как бегущая Эхо, с растрёпанными волосами, и совершенно нагую.
Золотые булавки и сердоликовое ожерелье осталось у Гая. Потом, через много лет мне их вернули, но, брат был уже мёртв, а я уже была замужем за Гнеем Домицием.
Вот радость у меня была на другой день! Я завела себе двух любовников. И целую неделю, до самых февральских календ, ходила в венке из фиалок. Так мне хотелось проводить своё девство. Возлияниями и блудом. Чтоб стёрлась с лица навсегда краска смущения, покорно предоставляя поле для белил и румян.
Через неделю Гай снова позвал меня, ухмыляясь и ёрничая, он подарил мне жёлтое покрывало, и снова оставил на ночь.
Глава вторая.
Проклятый Тиберий! Он слишком долго жил, раскидывая своё поганое семя повсюду. Но, разве Гай - лучше? Он так хорошо был научен омерзению и гадостям, что страшно вспомнить эти чёрные дни. Я всем Ларам приказала закрыть глаза хлебным мякишем, чтоб они ослепли на дни правления Гая... Я не боялась его, пока он был жив, хотя и могла уснуть, а проснуться уже с оболом во рту...Нет. Я любила жизнь, и развлекала себя зрелищами тысяч смертей, как и все жители Рима, которые привыкли к ним, как к утреннему яйцу на завтрак. Мы так привыкали, считая, что станем смелее, но, становились бездушней и бесстрастней, и никто не жалел, что терял свою силу, уподобляясь тем самым мертвецам, остававшимся лежать в неприютных позах, в самом сердце Города, на божественно - золотом песке арены.
А мне сегодня было грустно. Я ходила вдоль берега моря и вспомнила, как Гай плавал на острова за останками наших братьев и матери. То, что он привёз тогда, было не похоже на злащёные тела гладиаторов, которых мы привыкли видеть мёртвыми...Тогда я впервые увидела лицо смерти, какое оно было на самом деле, и с тех пор глядела на свои руки, просыпаясь каждое утро, чтобы понять, сколько мне осталось до черноты и тлена? Теперь мы рядом, и это сладкое дыхание зольника, раздуваемого ветром, уже будоражит меня по ночам. Впрочем, грусть моя не потому... Ах, как шелковисто вьются волны, курчавясь барашками, и выплёвывая медузы, из красноречиво шепчущих, голубых ртов...
Перед чем - то ужасным или счастливым, мне всегда снится море...Словно, оно принесёт мне конец, как принесло мне Начало...И я чувствую это начало конца, медленно остывая от набегающих на мысли теней.
**********
Луций родился быстро. Это было хорошо, что не девочка, ибо я, так называемая, змея, родила себё змеёныша. Хотя, Гней Домиций и ненавидел меня, за что - то, он умудрился сделать мне ребёнка. Впоследствии было удивительно вспомнить о том, насколько я питала к нему идентичные чувства. Я только помню, что когда он приходил ко мне на ложе требовать исполнения долга, мне гораздо более нравилось его бесить, нежели удовлетворять и поэтому я часто притворялась спящей, или, попросту, мёртвой. Любила лежать с открытыми глазами, когда он поёрзывал, впопыхах, вспоминая о себе, как о мужчине, а не о существе жрущем и воняющем смрадным субурским лупанаром и конкубиновскими маслами. Правда, после я утешилась, заведя себе любовника, но это было после рождения сына, когда я небезразлично уяснила, что Луций не копия отца, а продолжение матери.
Когда сын был ещё в пелёнках, однажды, супруг ворвался ко мне, смяв складки уложенной накануне рабом тоги, и тем самым, погубив его работу, ворвался поглядеть на сыночка, а тот взял, за и схватил его за нос так крепко, что Гнеев нос сначала покраснел, словно платок фламиники, а потом посинел...И если бы я не отобрала малыша из рук отца, несмотря на мою дерзкую злобу в отношении мужа, будущего Нерона ждал бы не покорённый им город, а участь Гаевой дочки, которую разбили о стену центурионы.
Гней вопил, кропя меня вонью поношений, он называл меня шлюхой, и грязной развратницей, вызывая во мне усмешку, ибо я искренно не понимала его тавтологии и укромно косилась на ярящегося супруга, укачивая своего драгоценного малыша. А спокойствие моё всегда выводило Гнея из терпения.
- От тебя родится, разве что, крокодил, который пожрёт и тебя саму, и всех вокруг!- Орал муж.
- Ну и что?- Отвечала я самодовольно.
- Ты самая страшная ошибка в моей жизни! И лучше бы погас боярышник в твоих руках, когда ты шла к моему дому в брачный вечер!- Не унимался он, тыча пальцем в воздух.
- Испугал!- Чистосердечно оправдывалась я, навивая на пальцы мягкие локоны новорождённого Луция.
- Да будут прокляты Лары твоего рода, пустившие на свет клубок змей, которые не дают ничего, кроме подлого урожая!
- Уже дали!
- При твоём сыне я бы постыдился быть его матерью! Ибо он вырастет - и отомстит тебе за меня!
Да, на это я тогда не обижалась, зная, что невозмутимость ранит больнее ярости.
А Гней Домиций уходил, наступая на порушенную тогу, оставляя меня пылающей и гневной, вроде жаровни в бедной инсуле, которая нежданно прогорела, а хозяин в это время сидит на астийских играх.
Теперь все его тогдашние слова значения не имеют, ибо он сдох, пополнив подземные закрома, вместе с Гаем и всеми моими братьями и сёстрами, да простят меня маны и гении. Откровенно говоря, никогда ещё мне не хотелось остаться во всём свете одной, как тогда, чтоб кругом не было никого, кроме меня и сына.
Даже рабыни в мужнином доме убирали меня, чрезмерно загоняя заколки в волосы. Они не любили меня, навроде, им передалась нелюбовь к хозяину, и хотя я была доброй доманой по первому праву мануса, никто не радовал меня, кроме сына и мурен в бассейне, на вилле в Баулах.
Между тем, новый император начал, опять же с яиц, а окончил вовсе не яблоками, а фасциями...Ибо суд был для него слаще и интереснее Мессалины, развлекающей весь Город своими мерзкими похождениями, пока её навек не охладили в Ламиевых садах. Вот с ней, я подолгу любила побеседовать, и, несмотря на своё невозможное любострастие, Валерия была добра. Ну и что, что, довольно часто, она мазала лицо свинцом, а соски красила красной помадой...Вполне достойно быть женщиной, если ты ей родилась, и весьма стыдно быть женщиной, если тебя изволили выплюнуть на этот свет в мужском обличье. Валерия не извращалась, а охотно, и без разных гадостей доказывала Клавдию его прямое отношение к роду тех старых козлов, которые так любят потереться о молодую пышную красоту, своими гадкими останками, лишь бы в них зажглось ещё раз, лишь бы вспыхнуть больными членами, полапать жизнь, стылыми, вывороченными пальцами смерти.
Действительно, лично мне Валерия не была омерзительна, и её искусное облизывание, всех, напропалую, ребят, могла только веселить такую прожжённую гадину, как я. Ну да, мы вместе любили шёлк, причём - пурпурный шёлк, ибо нам всегда было что показать, и мы не стеснялись этого. Жаль, всё - таки, что она умерла и мне не с кем поворковать о мужчинах на старости лет...Нам было что вспомнить! О, да...
Однако, когда началась та глупая суета вокруг овдовевшего Мессалиной Клавдия, и бабьё, вульгарно тряся подолами стол так и пыталось занять левое место на ложе подле императора, откуда хорошо есть, и всё видно, и впереди не маячит причёска соперницы...Хотя, что я говорю! Возлежать на ложе за обедом, я начала только при Нероне, а
дурак Клавдий 'чтил' традиции.
Слава богам, и его прибрали!
Если правду говорить, я не собиралась его соблазнять. Так вышло. Однажды, я пришла к нему, и была полночь, это я хорошо помню. Так , как он был жуткий грязнуля, и ходил всегда обляпанный, смешной, и льстил бы себе дурацкими слюнями, я сама вымыла ему руки померанцевой водой. Дядюшка робел передо мной, но я этого не видела... И темнота позволила вымыть ему ещё и ноги, а потом...А потом я стала женой императора. Хотя и не первой, но зато последней...И какой я была плохой женой!!!
Мессалина, однажды, сидя со мною за пряжей, сказала мне дорогие слова, которым и цены нет.Тогда же я запомнила их, как лучший ритор.
- Агриппина, мужчины забывают, что не они правят на этом свете, а мы. Всё в мире случается из - за нас, женщин, мы- причина всего. Но никогда не говори им об этом, пусть думают, что мы этого не знаем.Говори с ними о нарядах, причёсках, пей и ешь с ними, люби их...но правь молча. Женщина - может всё. Руководя мужчиной мы начнём и закончим войну, построим и разрушим город, родим или убъём...Тайна творения дана женщине свыше и всё мы можем, когда захотим!
Так она сказала мне. И я похоронила эти слова до сих пор, чтоб теперь мой сын узнал об этом и ужаснулся тому, что могут сделать с ним женщины.
Глава третья.
Отравить Британика? Да, он должен стать императором, но только - зачем? Я хочу Нерону славу и честь Городу... А Британик...Он мог бы славно править, и мы бы не получили тех бед, которые сейчас окружают нас.
А мне нравится смотреть на то, как люди умирают... Это так интересно, наблюдать, что то, что стыдилось миг назад, теперь, подобно животному, лижет свои предсмертные слюни и вопит о пощаде. Наверное, я у Гая научилась, или, за моей спиной реет тень Тиберия...Но мне нравится, и это уж ничего не поделаешь, обычай, императорского дома Цезарей - Клавдиев...
Я даже не знаю, о чём думают женщины, выходя за стариков, находясь сами, ещё в поре цветения. Я оплела Клавдия только для сына, и более того, стараясь ночью решать свои дела, которые днём приходилось откладывать, добилась того, что он стал послушен и мирен в моих руках. Он сетовал и плакал мне на обманы предыдущих жён, он называл меня 'деточкой', всех его женщин я осмеивала вместе с ним, всех бранила, поддакивая ему, и, если это насторожило бы любого другого мужчину, то Клавдий распалённо желал жалости, сворачиваясь в собачонку у моих ног.
Удивительно было и то, что я, его племянница, обойдя более сильных и красивых претенденток, победив их, не стала зарываться...и моя роль была неприметна ровно до тех пор, пока Клавдий не помер от кушаний, поданных мною на усладу его желудка.
Говорили, что это была я. И что это была случайность... Но они не знают, что такое любовь матери, и любовь власти - тоже...Редкие люди осознают себя, дорвавшись до этой любви. Вот я и совсем сдурела тогда.
Если бы Мессалина не сыграла бы свадьбу при живом муже, да ещё при муже - императоре, то навряд ли бы Луций стал тем, кем он стал...А тут - случай на руку сыграл...За это сын не сказал мне спасибо.
Та орава детей, которых наплодил Клавдий во время своих трёх супружеств , уже не мешала мне, когда я стала его новой женой. Он старался прятать от меня подросшего до власти Британика, а я старалась чаще показывать ему Луция, играя на его отцовских чувствах, что плохо, де, быть мальчику без отца...Малец тоже уже умел делать отчаянные глаза, упражняясь в артистизме, пугая Клавдия и мягча его тупое сердце. Словом, мы его уговорили, и Луций стал Нероном, сыном Императора.
О , горазд же был Клавдий пожрать! Именно так только можно сказать о нём, потому что прорва пищи попадала в его объёмное брюхо...Правда, он страдал страшными болями от своих пирований, но это не мешало ему жить дальше, легкомысленно заявляя, что он хочет убить себя, как только чувствует эту боль. На этом то он и погорел, объевшись отравленных грибов.
Смешно сказать, что мы женились в Новый год, и в тот день я получила в дар столько золота, серебра, шёлка, пурпура и драгоценностей, что их несли за мною семьдесят всадников.
Я справедливо могла сказать, что Клавдий был совсем ручной, но его прихотливая изнеженность и бабьи капризы сводили меня с ума. Он любил пиры, во время их он добрел, упивался, наедался и становился, эдаким добряком, жадно глотая вина и пищу. К тому же, видя красивых женщин, еле сдерживался, чтоб не засмеяться своим отвратным смешком... И положение жены, то есть меня, для него всё более утрачивало свою важность. В одном мы были похожи - мы любили смотреть на смерть...и не могли пропустить ни игр, ни травли.
А ведь Клавдий не был дураком. Он был туп для всех, но в глубине души считал всех глупее себя, тем самым уподобляясь беззубой змее, которая потеряла своё единственное оружие, и надеется теперь только, что её не заметят, полагаясь на свою пронырливость и гибкость. Таков и Клавдий - врал, молниеносно и внезапно, искусно придумывая, по нужде - уворачиваясь, скользко, и всегда удачно.
Но прикидываться дураком, ещё до того, как он стал императором, было ему любо. Тут сыграл и случай, ибо, после правления тиранов, даже дураки видятся народу избавителями.
Вот так оно и вышло.
Ведь наш Город - он глуп. Его разум - это разум черни. Его глаза жадны, и они алкают зрелищ. Это глаза толпы. Лицо его - это не Квирины, чистота и аромат, а Коровий рынок, закровавленный театр и вонючая Субура - вот там он Город живёт и дышит, прерывисто и жадно. Город - это раззявленные рты нищеты и голодранцев, это мельтешащие клиенты, плебеи и трибуны. А мы, мы - властные, великие, выброшены из их миропонимания. Мы далеки от тех, кто может одним хлынувшим наплывом снести наши дворцы и сады, лишь только почувствовав спазмы голода, оказавшись без раздач...
Хорошо рассуждать о том, что Рим - город Божественный и Великий, любить его зной, журчание общественной воды в фонтанах, красный кармин избирательных кампаний на выщербленных стенах инсул, его придирчивых сплетников, сидящих во фруктовых лавках Аргилета...Я любила даже пыль Рима, которая никогда не украшала моих ног. И говор толп, виденный мною из просторного окна, выходящего на Форум, тоже был мне любезен, как живоносный исток, но только потому, что я сама никогда не была в толпе.
Я всегда страдала от одиночества, даже находясь среди людей...ибо была лишена свободы с детства, и только Мессалина несколько раз брала меня с собою в настоящий Город, тот, каким он был на самом деле.
Тот, кто хлебнул этой горькой истины, никогда не отрезвеет.
После Валерии Мессалины Клавдий не страдал долго. Он сумел справиться с собою, обозлившись на неё. После его третьего брака, место рядом оставалось вакантным....Я молодец...
При Тиберии мы могли ждать жестокости, при Гае - неожиданности, а при Клавдии - всего. То, что вчера было плохим, сегодня становилось хорошим, а назавтра вообще забывалось намертво. ' Как? Это сделал я?' : Спрашивал Клавдий меня , и тут же отрекался от собственных поступков.
О, как он бесчинствовал! Он, впадая в гнев, был неумерен. Но, к ужасу всех, и находясь в покое, он был ещё неумереннее. Он творил безобразия, конечно, несравнимые с Гаевыми и Тибериевыми, тогда было намного хуже...Но все его безобразия блистали лицемерием.
Если Гай их творил от души, не стесняясь, не боясь и не стыдясь, удовлетворяясь и наслаждаясь ими, то Клавдий всё делал, то - исподтишка, то- чтобы сохранить лицо, тайно.
Ну, будет об этом...
**********
Пира не было. Он просто поел.
Мой мальчик Нерон заимел сильного соперника. Этого Британика. Да, Британик был сказочно хорош собой...он просто очаровывал сходством с Валерией, с её пухлыми губами, ровным носиком, тонкой красотой, которая могла родиться разве что от подобной же красоты. И губя его, я даже жалела не самого человека Британика, а чудный цветок его невинной красоты, сорванный и брошенный в тлен.
Какие уж тут Гемонии могли сравниться с моей тогдашней жестокостью!
Ведь я позволила сыну убить его, а могла бы и подумать...
По сути, все правления начинаются с того, что людям замасливают глаза, обещая раздачи и дары.
Но потом за эти дары, нужно- же взять своё?
Так вот, я сказала, что пира не было... Сейчас , уже трудно вспомнить, но это был октябрь. Нет, если бы Клавдий так не гладил при мне своего Британика, не позволял ему почувствовать себя будущим императором, не надел бы ему тогу совершеннолетнего, возможно, и сам был бы жив. Но Клавдий заспешил, засуетился...загрустил и стал есть грибы.
В тот вечер, задумчивости его не было предела, и я, даже посмеялась, когда принесли ужин, что задумался он. Стоя на пороге Бездны, из которой нет возврата.
Мы ели с разных подносов и тарелок. Потому что я знала, что Клавдиева еда сегодня не пойдёт ему на пользу. Он пил секстариями, и заставлял всё время плясать вокруг себя пятерых рабов.
Я старалась казаться весёлой, и хохотала, чтоб не показать, что у меня всё дрожит. И снаружи и внутри. И вовсе не от волнения, а от скрытого восторга. Завтра - Нерон станет императором!
Клавдий в задумчивости переходил от козлятины к ракушкам, от полбы к запеканке, и, пока дошёл до грибов, наверное, перемешал в себе весь ужин, запитый тремя секстариями вина.
Я только наблюдала, и старалась не есть много. Клавдий, возлежа выше меня, на другом ложе, изредка кидал взгляды на танцовщиков, которые кривлялись под музыку до того славно, что не хотелось глядеть на перекошенного Клавдия.
Не хотелось, но я глядела, пока он не дошёл до грибов, которые с удовольствием съел маленькой костяной ложечкой.
- Агриппина! - Крикнул он мне через залу, перекричав немногих гостей, подобострастно располагавшихся ниже, на украшенных серебром ложах.- Иди ко мне!
Я поднялась, размяв затёкшую спину, поправила тунику, одетую поверх тёплой столы , и , набросив паллу из тарентской серо - блестящей шерсти, подошла, и встала за спиной Клавдия.
Его голова светилась крупной проплешиной сквозь убранную сединой макушку. И она взмокла. Толстая шея, во многих местах порезанная неловким цирюльником, крепко держала крупную его голову.
- Жёнушка, присядь подле меня, а то отошла себе и удалилась. - Сказал Клавдий, жуя мои грибы.
Я дрогнула, боясь, что он и меня накормит эдакой вкуснотищей.
- Поешь. - Сквозь слюни говорил Клавдий, так и не поворачиваясь ко мне.
- Я, пожалуй, пойду прилечь. Мне что - то нехорошо, и я совсем не выспалась. - Ответила я, пригнувшись к мужниному уху, щекоча его взмокшие от усердия седины. -
- Ты, пожалуйста, не переходи на килики...после секстариев, или, из - за стола тебя вынесут и опять будут вызывать рвоту...
Клавдий, откинув назад руку, пригнул мою шею к своей правой щеке и громко поцеловал её, вымазав жиром и сметаной.
От омерзения меня чуть не замутило... Ведь мы в последнее время с супругом не ладили...То, что с ним не ладила я, это объяснимо. А он, видимо, просто хотел какого-то свежего мяса...и сожалел, что не может жениться в пятый раз.
Глупый, глупый Клавдий!
Среди ночи в мою спальню прибежали Клавдиевы постельничие, которые обычно переносили его, или готовили на ложе. Это были уже немолодые мужчины, но они были так напуганы, что я вскочила от ужаса, не произошло ли что с моим Агенобарбом.
Но потом, удивившись тому, что даже заснула, не ожидая действия яда, я пошла к мужу, накинув только длинное покрывало поверх туники.
Клавдий был зелен, но жив. Когда я увидала его поверх разбросанных и облеванных подушек, захотелось кричать и топать ногами.
Его вырвало - и только, но он - жив.
- Ты переел. И, верно, перешёл на килики, обойдя моё предупреждение. - Сказала я , спокойно оправляя волосы, который расплелись в сплошную рыжую волну и чуть не падали в Клавдиеву блевоту, разбросанную по ложу.
Тот слабо улыбнулся, так- же лёжа, подёргивая глазами и чуть слышно бормоча.
- Ты была права, а я - перешёл на килики. - Ответил он, хватая меня за запястье.
Я легко убрала руку от его холодных рук, и дала рабам убрать его, обмыть и перестелить постель.
- Нужно промыть тебе желудок, или опять начнутся боли.- Сказала я ему равнодушно.
- Принесите тазы, миски и...килики. - Поиздевалась я.- С водой. Будем промывать императора.
Нерон тоже всполошился вместе со всеми. Он бежал как раз мне навстречу, из своей комнаты, по едва освещённому переходу. Его стройная фигурка, ещё не потерявшая юношеской легкости, быстро приближалась к покоям отчима. А Британик спал.
- Матушка,- горячо зешептал он, - кто это поднял всех среди ночи? Что случилось?
Я схватила его за плечи и прошипела с самой возможной для меня серьёзностью:
- Иди, и промой ему желудок. И будь с ним, как сын. Пусть Британик спит, а ты, пасынок, бди. И бди так, чтобы дядюшка уже не увидел утра. Ты понял меня?
Нерон мотнул головой в знак согласия. Я так испугалась за сына, что сейчас жаждала только того, чтобы Клавдий поскорей прибрался.
Однако, метался весь дворец. И Нерон ещё раза два прибегал ко мне рассказывая с возбуждённым хохотом, как Клавдий всё блюёт и блюёт, и как он ловко всыпал ему наш любимый порошочек прямо в воду для промывания...
Наутро всё было кончено.
Я долго сердилась на свои ногти, которые, как - то, неохотно, царапали мне лицо в знак скорби. И, распустив волосы, качаясь и вопя, я долго играла пальцами, чтоб найти достойную им позу выражения отчаяния и горя...так мне хотелось проводить Клавдия достойно... Но из зеркала на меня глядела молодая ещё, прекрасная женщина, у которой не горе, но торжество рвалось из глаз искрами. Я за всё теперь буду награждена! Это - мой триумф...
И подарок Нерону к семнадцатилетию... Уж он распорядится Римом!!!
Глава четвёртая.
Мы не могли признать всенародно, что Клавдий умер. А умер он уже давно, и его даже выставили на холодок, умаслив и натерев благовониями. Словом, когда мой Нерон Агенобарб поехал на носилках в лагерь преторианцев, Клавдий уже давно умер и даже успел бы окоченеть, будь зима на дворе. Не хотелось бы, чтоб он портил нам жизнь и мы довольно скоро его похоронили.
Так уж получилось, что Галот отрезал ему палец перед сожжением, тот, который и всыпал яд в грибки. Жалко было смотреть на Клавдия, обвисшее лицо которого, после смерти всё подтянулось, завосковело и поумнело, кажется. Даже мне стало завистно, что я не доживу до таких лет.
Подле погребального костра, Нерон суетливо и нетерпеливо подёргивал ногами, но меж тем, без запинки, говорил о праведных делах названного отца, и о его верности отечеству и народу. Он желал приступить к власти поскорее, как застоявшийся в стойлах цирковой конь, ах, как ему хотелось! И его молодость вскоре осыпали благостнейшими словами и выражениями, так восхваляя юную мудрость и искренность молодого принцепса...Но, к сожалению, от оливы не дождёшься персиков. В кого ему быть хорошим?
В кого Нерону быть хорошим? Ну, право, не в меня же? Не в Гнея же...это просто смешно! И Нерон стал плохим... Да, не заставил себя ждать, хоть все и надеялись на благоразумие молодой его души.
Ах, клянусь Юноной, разве могут дети быть не похожи на дядю по матери? Вскоре, как он стал крепнуть телом, ум его расслабился, как у Гая...В те времена, когда ещё Мессалина потряхивала тирсом на своих вакхических забавах, Луций Домиций Агенобарб был мальчиком добрым и послушным, хотя тётка Лепида не преминула развратить его, тогда ещё младенческую душу, вседозволенностью и капризами. Я его держала, как породистого скакуна, натягивая и отпуская шёлковую узду, а гнусная Лепида всё ему позволяла...Пока Луция не приняли в род Клавдиев, у него была ещё надежда стать славным человеком и добрым консулом, но, то ли это имя Нерона так переменило его, то ли его подростковый возраст, то ли Акте...
Теперь я хочу вспомнить о тех днях, когда он потерял любовь ко мне и стал судить меня, не жалея...О тех горестных годах, когда из мальчика он стал юношей и женская любовь победила любовь материнскую.
****
Сменив свою претексту на юношескую тогу, Нерон изменился на глазах. Ещё до того, как я вышла замуж за Клавдия, унизив себя для возвышения сына, идя на эту мерзость с несомкнутыми веками, и, наблюдая, как горит мой брачный боярышник, деньги у меня были. И пошла я с Клавдием вовсе не из - за беспутности и алчной жадности к деньгам, хотя, наследство Криспа, моего промежуточного супруга, порядком истрепалось и подходило к концу.
Клавдий, любитель женщин и их раболепный слуга, был твёрд только в одном...в том самом... Но я сейчас не об этом, хотя эти краткие воспоминания на пороге моей бездны и тешат меня своей вызолоченной красотой, ещё не померкшей с течением времени.
Итак, богатство Криспа я благополучно потратила, гонку за право быть женою дядюшки - выиграла. Сына моего Клавдий усыновил, и уравнял в правах со своим сопляком. Но дальше Нерон повёл себя не так, как я ожидала.
Он, словно раб, которого выпустили из клятой эргастулы в последний раз глянуть на синеву Небес. Да. С таким остервенением и страстью стал жить мой дорогой сын... и я поняла, что не знаю его...
- Моя жизнь не то, что ты видишь...а то, чего ты не видишь.- Любил повторять он мне в то время, когда ещё ничто не мешало нам быть друзьями.
Если бы не Поппея, я нашла бы способ смирить его нрав. Но любовницы всегда слаще матерей, какими бы матери добрыми и мудрыми не были...Любовницы Нерона всегда побеждали меня без боя, смеясь над моими падениями и оступками, и не думали они в этот миг, кто падёт потом больнее, что они тоже - женщины и их красота охотнее расцветёт тленом, нежели бессмертием. Ибо нет смертельнее удара, чем равнодушный долговой поцелуй собственного ребёнка.
Акте, по существу, только ввела Нерона в мир любовных наслаждений, забыв меж тем, своё место...
Он много обещал, был непревзойдённо смел и ласков. Выступил в цирке, бежал вместе с легионерами в полном вооружении...Консул Нерон был благоразумен и незаносчив. Но пришёл день, когда он стал императором и власть застила ему глаза.
Ко мне, по первому времени, он обращался так - же ласково, ни в чём не упрекал Октавию, не обижал и не дразнил её.
Так было совсем недавно...
Но время - бегучий ветер, сметающий нежно, но навсегда. У него есть и зубы, и когти, спрятанные в мягких подушечках. Смирен ход времени, но от него становится жутко, когда ты ощущаешь себя никем и ничем перед богами...
Мне уже сорок, и я ещё молода, но волосы мои блестят сединами, а стола дряхлеет складками на пожухлой груди. Сегодня нет никого у моего порога, потому что в постели Нерона - Поппея Сабина, но и она падёт под ласковыми когтями времени и торжествует только миг, который, несомненно, пройдёт для неё.
Я, мать Нерона, сегодня - враг его. И меня он любил до безумия, и теперь с таким - же неистовством ненавидит.
Потому что в постели его - Поппея Сабина.
Мир вокруг него гибнет и гаснет, не пламенеет радость и воля его сейчас - это воля гривастого льва, вынужденного ждать, когда его охотница принесёт добычу...Сам же он - падали рад, потому что в постели моего льва - Поппея Сабина.
Женщины всегда творят, что хотят... Они во всём властны. Этого не признает ни один мужчина, но женщины знают это с рождения.
Жена Нерона, его двоюродная сестра Октавия, дочь Клавдия и сестра Британика, была несчастлива в браке. Она страдала всю свою жизнь, а сейчас её страданиям вообще нет предела. Британик умер. И это так- же случилось на пиру...Только моего распоряжения не было - умертвить его.
На пиру в тот вечер было много молодых людей, и все они радовались хмелю и вкусным кушаньям. Британику надлежало скоро одеть тогу, ведь он во всём был равен Нерону. Нерон веселился от души, издеваясь над ним, возлежа в гнусной компании своих новых дружков, которые всё сильнее толкали меня локтями от него и давали постоянные поводы, чтобы мой любимый сын смеялся и шутил самым непристойным образом.
Даже Акте заняла место возле его ног, несмотря на мою к ней нелюбовь. Хотя, если бы я знала, что появиться Поппея, я бы лелеяла чувство Нерона к Акте и оберегала бы его так, как только могла...Любовь их была чиста и пронзительна, как молния Юпитера, осветившая небо. Но ту грязь, которая стала приходить в душу Агенобарба после его воцарения, не мог очистить никакой поток даже самой незапятнанной, самой целомудренной любви, которую только могла дать ему Акте.
Она сидела у его ног с нардом наготове, чтоб растереть его стопы, и умастить грудь, а он показывал в непотребном смехе свои молодые зубы, вторя Отону и Сенециону, лежащим с ним рядом на ложе.
Британик возлежал поодаль, в окружении таких же детей, как и он сам, и вид его был подобен отцовскому в тот памятный мне пир. Губы Мессалины на лице сына, опустились углами вниз, и мрачная печаль была в его глазах. Видно было, что он переживал за то, что посмел открыть своё сердце Нерону. Совсем недавно, в игре, он сказал, и даже спел стихи, в которых сетовал на несправедливость своей горькой участи. На бездушное окружение и горькую долю отверженного сына императора, что приходится терпеть насмешки и издёвки неродного брата, которого его отец имел глупость усыновить в обход собственному сыну.
Нерон мог бы и не услышать этих речей, но он отверз слух и внял. Видимо, не без умных советчиков он понял, что Британик, открывая уста, становится опасен ему. И моя, далеко не чистая совесть уже поигрывала во мне нехорошими волнами, говоря о том, что я совершила глупость , так безболезненно и легко, доставив сыну власть.
Ведь если бы благоразумье взяло верх над безумьем, Нерон правил бы мудрее и честнее. Им стали руководить жестокие и жадные желания, а слабые потуги добродетели не произвели на свет мудреца.
Я впервые испугалась тогда его...увидев в нём не человека, а существо коварное и совершенно лишённое жалости.
Британик вообще не обладал хорошим аппетитом, а тогда ел с удовольствием, потому что на днях очень страдал животом и наголодался. Я подозревала, почему ему было плохо, а после и узнала о том, что Нерон вызывал к себе Локусту, патлатую ведьму...
Локуста, большая мастерица в приготовлении ядовитых зелий, появлялась во дворце ночью, и я ничего не знала о замыслах сына. О, какое злодеяние он надумал! Какое решил сотворить преступление! Он отравил Британика дважды, и только со второго раза - удачно...
Когда ему поднесли горячее питьё, Британик только омочил губы и чуть не обжёгся. Раб поспешил разбавить кипяток холодной водой, в которую уже влили яд.
Происходившее в отдалении от меня, не занимало нашу женскую половину, и, никто бы не заметил того, что происходило с бедным Британиком, если бы не воцарившаяся вдруг тишина.
Окружавшие меня женщины и девицы, сперва, оторопев, вдруг приходили в себя, и выбегали прочь, визжа, за ними метались и их спутники. Нерон возлежал, не обращая никакого внимания на помертвевшего Британика, который, словно окаменел, и лицо его побелело, как у мраморной статуи.Через миг, он уже повалился ниц, так и не закрыв глаза, опрокинув столик перед собой. Разлилось красное вино по всему полу... Это было так жутко, словно Гадес сам пришёл за нами и разит, кого захочет...
Кубок с вином выпал из моих рук, и Октавия, сидящая ниже меня, вскрикнула и бросилась к моим ногам, обнимая их. Никто так ничего и не понял, но все испугались до безумия.
- Не тряситесь! У него бывает такое! Он с детства падает и бьётся, как жертвенная коза, которой вонзают в горло нож.- Вскрикнул опьяневший Нерон.
Ужас объял меня. Я схватила Октавию за плечи, и, не одев сандалий, вскочила с ложа и побежала прочь. Губы мои тряслись, глаза стояли неподвижно, мутными лужами, в смятении забывая моргать. Меня бил озноб, а вслед нам, убегающим, сгорбленной Октавии и мне, летели смешки Отона и Нерона, визг и вопли испуганных женщин и негодование мужчин, расходившихся с проклятого пира...
Теперь это уже было просто убийство, ради убийства, и оно потрясло меня своим хладнокровием.
Пробуждение Нерона
Часто бывает, что, очнувшись от дурного сна, ты находишься под его впечатлением целый день, и только к вечеру успокоится смятённый сновидением дух... И я, проводив Британика в последний путь, я, видевшая как пылает его костёр, который не мог угасить ливень, до сих пор вижу в том пламени себя, и не сомневаюсь в том, что оно близится.
Британика перенесли на Марсово поле, где неожиданно уже было приготовлено всё для его погребения. Откуда такая спешка - никто не мог понять, и только сын, ещё пьяный после пира, в липких одеждах, с всклокоченными волосами, которые потеряли завивку от дождя, он вещал о том, что остался один из рода Клавдиев...Он, один... Да...ведь Британика уже не было...
Глупо было участвовать в этой страшной комедии, но я не должна была ничего пропустить. Теперь надо следить за всем, что делается кругом с удвоенной внимательностью.
Мне казалось, что действительность охватила меня шипами, связала мои члены колючим терновником и каждое движение приносит страдание- так велика опасность уколоться, пораниться и погибнуть...Октавия, вскоре после погребального костра перестала рыдать и её отчаяние сменилось на мертвенное оцепенение. Когда нас несли в моих октафорах назад, на Палатин, она не плакала, а только содрогалась своим мраморно - белым лицом, сейчас, так схожим с лицом покойной Валерии.
Бедная Октавия давно потеряла мать, и недавно - отца, да ещё, к тому же, при таких неприятных обстоятельствах. Я не знала, как её утешить, ибо моё утешение было бы больней её страданий. Она не любила Нерона, а Нерон не любил её, заигравшись с Акте. Октавия была нехороша собой, большеноса, губы её были тонки, а руки и ноги длинны и широки. При том, бледные волосы, вытрёпывались из - под парика жалкими прядями, и я могла понять, почему Нерон не идёт к ней на ложе...
Акте, впрочем, была не виновата в нелюбви сына к своей жене. Только та трещина, однажды возникшая на сердце Нерона росла вместе с неприязнью Октавии, которую она старалась скрывать, как умела, потому что добродетель и верность украшали её не меньше, чем краски и чужие волосы.
Она часто, в задумчивости, бродила по садам, мечтая, быть может, о простой любви, или заботе. Но Нерон, воцарившись, стал ещё более капризен. Иногда и мне казалось - а не перепутала ли чего мать Церера, дав ему женскую душу: с таким любопытством он смоктал сплетни и слухи, с таким жаром рассуждал о притираниях для лица и целебных мазях для тела, с такой изнеженностью примерял шелка.
Потерялись те нити, за которые я дёргала, в надежде оживить и подвинуть его, они истлели с появлением женщин в его жизни. Женщины, словно смахнули младенческие кисеи, в которые была облачена его неокрепшая душа, и своими любострастными руками кутали и плели сеть вокруг Нерона, успешней Арахны.
Так уж вышло, что смерть Британика принесла свои плоды и меня удалили из дворца, поселив в небольшом, бывшем доме Антонии. Клиентела моя распалась, и, мало кто приходил с утренним визитом. В те дни мне не позволялось видиться с Октавией, которую Нерон совсем загнал в угол и крайне редко выводил на публику, только уж в самые важные моменты, когда требовалось, чтобы рядом с цезарем всё- таки присутствовала жена цезаря, знаменующая собою надёжность и крепость правления.
Нет, Нерон стал кровожаден и глуп. Он стал много играть на кифаре и петь, и порою, во многие дни, его видели совсем часто за этим занятием. Он и раньше достойно пел и играл, слагал стихи и исполнял чужие комедии, любя особо старика Плавта, но теперь, его восхищение, даримое самому себе, и всё учащающиеся грязные пирушки, с непотребными плясками и конкубинами самой подлой породы, его развлечения, со временем, ставшие всё более разнузданные и растленные, выглядели так ужасающе- гадко, что я даже стала сравнивать их с забавами Тиберия, с его гусями, которым он сворачивал шеи в порыве своей гнусной похоти.
Похоть, боль и грязь, они всегда идут рука об руку, и эти руки сплелись кругом шеи Нерона, увлекая его на самое дно. Когда он лишил меня моих германцев, оставив дом только под охраной рабов, я вознегодовала и призвала сына к себе.
Он вернулся, с моими же германцами, поцеловал и обнял меня, сыграл свою новую песнь и увёл назад моих телохранителей.
Так ни слова и не сказав об Октавии, запертой им во дворце, как в прочной клетке, где за каждой колонной перистиля стоял соглядатай и шпион.
Неронова неприязнь коснулась и меня, да так, что порог опустел совсем, а гады, ищущие добычи, вылезли из нор, чтобы жалить меня в моём одиночестве.
Казалось порою, что моё былое величие навсегда угасло и порушено моими же руками.
Тишина липла к языку, как чешуя, и не с кем было перекинуться словом. Лихорадочно бились мысли - что бы придумать, как бы поступить, чтоб сын вернулся к матери на грудь, чтоб снова его послушная голова склонялась передо мною в покорности и согласии.
Ветер рвал занавеси на окнах и пришла осень.
Однажды, ко мне вошёл вольноотпущенник Криспа, Виталий, и поведал о том, что творится во дворце цезаря, из которого меня удалили. Довольно! Нужно действовать, ибо минуты равны смерти.
Я глядела в узорный прямоугольник имплювия, слушая рокотание воды у ног, откинувшись на ложе, и мне чудилось, что это не вода течёт, а как раз моя кровь - так звонко было в ушах.
Октавию пытались обвинить в государственном перевороте, который она, видите ли, намеревалась совершить, выйдя замуж за родственника Клавдия, Рубеллия Плавта.
Не без моей помощи, конечно, она должна была совершить его, ибо я, испуганная переменами в Нероне, собрала достаточно денег, чтобы подкупить достаточно людей.
Но- Нерон побоялся поднять руку на жену и мать, и он этого не сделает... Только если наветы на меня не будут громогласны и не дойдут до его души раньше, чем мои ласки.
Я была совершенно одна, как и сейчас, но ни одна слеза не дрогнула на моих веках. Я не давала ни малейшего повода себя жалеть, хотя мгновенно лишилась даже любовников. Как раз они, как показатель, весьма красноречивы...Только я возле императорского трона - они со мной. Как только клиентела разбежалась, подруги ссылаются на мигрень, а вольноотпущенники не ссужают больше денег - и любовники пропадают.
И некому целовать мои холодные колени. Жаль...
Довольно быстро похолодала и погода, не только в отношениях меня и сына.
Глядя в зеркало на своё отражение, я с горечью понимала, что его не удержать. Я померкла, как серебро, долго не балованное песком. У меня глаза были непомерно печальны и даже танцовщики, пляшущие для меня, не радовали глаз.
Окончилось моё недобровольное заточение тем, что пришлось ехать во дворец и оправдывать свою непричастность к заговору, которого вообще не существовало.
Этот заговор был от начала до конца выдуман моим врагом. Меня хотели вывести из равновесия, заставить переживать и биться в их липкой паутине...Но нет...они не знали Агриппину. Не знали, на что способна мать.
Нерон выслушивал меня, словно я проситель перед квестором, словно я клиент перед патроном. Не хватало мне только досужей тоги, чтоб отяжелить плечи в римской толкотне и суете.
Больно было смотреть на то, как сын, опустив глаза, слушает мои речи, в которых не было ни гнева, ни обиды. Я боялась даже тень бросить на себя, сказав нечто, порочащее мою невинность перед императором. И в то же время, страшно было говорить, ибо мои слова толковались так, как хотел император.
Сенека имел на него большое влияние, и теперь, сидя подле него, выслушивал меня с непринуждённо-наглым видом судьи.
А ведь я сама вернула его из ссылки. Сама позволила приблизиться к Агенобарбу, надеясь, что старый и умудрённый человек сможет вложить в его голову добрые и справедливые мысли.
Однако, оказалось, что Нерону не нужен Рим.И не нужен римский народ. И управление страной только мешают ему завивать и душить кудри, да играть на кифаре.
Прошло какое - то время, и Янус снова повернул годовое колесо. Наступил новый год и холода всё ещё мучали меня, покинутую и забытую, хотя, речи мои, все, сказанные в моём доме, об устройстве государства, о продажности и подлости сенаторов, о внешних и внутренних делах, рассуждения и умозаключения, доносились Нерону слово в слово, и он пользовался ими, обсудив их с Сенекой.
Зимняя тьма и холода заперли людей дома. Рабы плотнее перевязывали свои туники и натягивали кудлатые плащи. Но и они страдали от холода, как и во времена Колумеллы, имея одно рубище на все сезоны.
Глядя на своих раздобревших в городе рабов, я усмехалась над тем, как самодовольно и дерзко они чувствуют себя рядом со мною.
Недолгое время пробыв в Городе, где становилось неспокойно с каждой ночью, я удалилась в Байи.
Словно тревога повисла над Римом.Чудилось, что вернулись времена цезаря Гая Германика, и никто не поручится за свою жизнь.
Нерон натащил полный дворец конкубинов и девок. Он ходил с ватагой своих приближённых, в числе которых был и Парид, обвинивший меня в заговоре, и Отон, и все те, кто пристал к ним из любви к притонам и разврату.
С ножами под одеждами, они громили лавки на Субуре, пользуясь полной своей неуязвимостью и безнаказанностью, ибо телохранители императора всегда готовы были ввязаться в бой, завязанный самим императором! Рим недоумевал, видя такие зрелища! Ни инсулы, ни богатые дома не знали, что будет на другой день. Возбуждённый вином Нерон со спутниками бросался в подворотнях на запоздалых путников и торговцев и выпускал им кишки. Он задевал и задирался к болельщикам в цирке, устраивая побоища между сторонниками красных и зелёных, свистел, гудел и бесновался, а когда плебеи начинали молотить друг друга из-за цветов своих тряпок, прятался в носилки и заливисто смеялся, как визгливая лошадь, чересчур недовольная перетянутыми удилами.
Он стал завсегдатаем Мульвиева моста, и там не стыдился своих грязных желаний охотно употребляя плоть юношей и дев в своих развратных целях.
Женщинам и девицам самых высоких фамилий был стыд и беда от пьяной банды императора, в разодранных одеждах, с перевязанными головами и сверкающими мечами, носящейся по утихшему в ужасе Городу.
Нерону нравилось проливать кровь, как сок, не взирая на её цену, ибо только зрелище имело цену и всякое зрелище имело цель развлечь императора.
После того, как Нерон уставал резать и колотить, он растлевал и надругивался. После этого он мог часами играть на кифаре и петь гимны в честь Аполлона и Юпитера...
Боги чаяли ослепнуть, но не сотрясался Город и не низвергался на него град камней, с пошатнувшегося престола небесного, где они видели всё, творившееся на земле.
Поппея.
Я не буду грустить потерянному величию, ибо оно преходяще.
Так проходит наша жизнь, мимо нас, и помимо наших желаний, когда мы не умеем воспользоваться тем, что дано нам богами и растрачиваем себя на дешёвые дела и никчемные слова.
Сила богов в каждом из нас от рождения, но кто может чувствовать её так, как человек, наделённый высшей властью? Кому она может быть так же сладка, как человеку умеющему распорядиться своими капризами и увлечениями?
Но тот, кто причастен к божественной власти, не ценит простой красоты и не умеет глядеть, прищурив глаза. Он льстится всё заметить, но ленится познать, потому, целое видится ему несовершенным, а несовершенное кажется искусным.
Нерон хотел славы, не имея высокого таланта, и разнося себя по бесчисленным причудам. Голос его был не полётен, а противен. Сердце не трудолюбиво, а жадно. Зависть к чужому таланту и чужой красоте всегда гибельна и разрушительна. Так и он - разрушал и губил с отчаянием и злобой, которая так не к лицу императору...
Поппея Сабина была женой Отона, супругой прославленного рогоносца...
Отон, думая приблизиться к Нерону, подсунул под него свою жену, быстро сообразившую свою выгоду.
Не было и нет на свете женщины изворотливей и хитроумней Поппеи Сабины...
Ещё будучи замужем за Руфрием Криспином она предавалась прелюбодеяниям с Отоном, ничуть не стесняясь этого, хотя по Закону только добродетельная жена может быть прославлена в веках. Совесть? Нет, она не знала о совести. Только приключение достойно было её внимания, а приключением для неё приходился разврат и душегубство. Думаю, Поппея прославит себя этим, не хуже Мессалины.
Когда мы начинаем мучить других, мы понимаем, что этим хотим заглушить свои мучения, так вот, Поппея, низкая, грязная развратница с божественно - прекрасным лицом и телом, какие обычно бывают у тех жён, что добывают себе славу и богатство красотой, стала для меня непреходящей мукой, заняв в сердце Нерона то место, на которое целилась я.
Она стала появляться во дворце как раз в те дни, когда я была в жестокой опале, когда, против меня выдвигали страшные обвинения, будто бы я не мать, а змея, алкающая человеческой шеи.
Прекрасная женщина, коронованная такими внешними достоинствами, у ног мужчины, это беда - почище войны...и Нерон стал сражаться со мною, объединившись с ней...
Во дворце говорили, что она не принадлежит уже Отону, что живёт у Нерона, восхваляя его красоту и талант, но, когда только Нерон начинает гнуться под её лаской, как лакричная конфета от жары, Поппея убегает к своему мужу, пыля проклятиями и стенаниями.
Нерон, к тому времени округлился, входя в пору молодости, его подбородок пожирнел, а борода ещё больше стала похожа на пучок медной проволоки. Он стал пользоваться чужими волосами и редкими притираниями для лица, его разнежили руки рабов, и доступность любых желаний.
Он стал другим, днями и ночами, позабыв в Паренталии о предках, позабыв о Луперках в их священный День, позабыв Манов и Ларов в домашних нишах, пел и плясал, бесясь и кривляясь, изображая то мужа, то жену, то и того, и другую. Так ведут себя пьяные актёры, да и то, мне было бы стыдно рядом с ним.
А Поппея, с отвратительной любострастностью целовала его на пирах, играя с ним и забавляясь, потакая ему во всём, не стесняясь никого из общества, чтобы потом в очередной раз убежать к Отону, и нажаловаться на Октавию.
Судьба Октавии была несчастна и горька. Она, помутневшими глазами, равнодушно смотрела на то, как Поппея своей свежей страстью, горючей и ароматной, как букет весенних роз, кутает Нерона, погрязшего в пороке, которому, словно, наскучило всё, а это неподчинение, неравновесие и бесконечная игра на кифаре его души была ему внове. Она забавляла, эта игра, но и затягивала, ибо не было той силы, что могла бы оторвать своенравную Поппею от Нерона.
Нельзя было и мне попасть к сыну, чтоб поцеловать и обнять его. Если раньше мы часто засыпали вместе, коснувшись друг друга головами и перепутавшись волосами, я вдыхала нежный запах его юного тела и могла часами глядеть на то, как он спит, то теперь меня не пускали к нему ночью. Он больше не хотел материнских ласк, не хотел моих благословений...
Однажды, я даже подслушивала под дверьми, как он говорил с Поппеей о том, чтобы избавиться от Октавии.
Наступил уже поздний вечер и в окна задувал тёплый воздух, колыша занавеси. В опочивальне Нерона томно играла египтянка, чуть трогая свой заунывный систр и напевая песнь на своём языке. Поппея и Нерон говорили громко и цыкали на молодую певунью, когда она останавливалась, чтоб не отвлекать их разговор на себя, но она иногда смолкала, потупляя глаза от смущения.
- Играй Найла, играй, чтоб никто нас не подслушал!- Вскрикивал Нерон на неё.
Я уже подкупила телохранителей сына, чтоб они пропустили меня, хотя бы издалека увидеть его, тем более, что это были , в прошлом, мои люди, и, верные мне, несущие службу честно и исправно. Они сжалились под натиском материнской любви.
Нерон возбуждённо ходил по зале, выложенной красным мрамором, подобрав полы своей шитой золотом туники, время от времени, утирая пот со лба.
В этом году выдался жаркий июнь, и подходили иды, и зной не спадал. Рабы изнемогали на работах, обливаясь потом, ветры несли жар с юга, и дожди не проливались на землю с майских нон. Сохли посевы в полях и мычал скот, заедаемый слепнями. В храме Великой Матери кровь жертвоприношений уже приходилась по щиколотки жрецам, но дожди не шли, словно само Небо забыло о нас...
Но Поппея, в нежной прохладе Неронова дворца была свежа и благоуханна, как только что распустившаяся на грядке роза. Её волосы доставали завитыми локонами до подколенок, изливаясь ярчайшим германским янтарём, искрясь на солнце, как пласты золота. Насмешливые хитрые глаза, дымчато - стального цвета, глядели смело из- под длинных ресниц, тронутых египетской краской.
Поппея была так хороша, одетая, словно только для того, чтоб её поскорее раздели, убранная для того, чтобы подогреть страсть разрушить её убранство, что и я загляделась в простенок, прильнув своим морщинистым лбом к холодному травертину галереи.
Мне хотелось в тот миг, хоть на минуту стать той Агрипиной, которая с такой равнодушной храбростью когда-то отдалась брату, а потом, со змеиным расчётом, обвилась вокруг дядиной шеи, целуя и кусая бедолагу Клавдия для него...для того, кто сейчас бранится с этой чужой, прекрасноплечей и золотоволосой женщиной, допущенной ближе, чем я...
- Я не могу жить с Отоном! - Вскрикивала она, артистично ломая руки, вороша свои волосы, и презирая заботы рабынь...- Он целует меня, а всё ты перед глазами, Всё ты...И губы его мне противны, и руки его грубы по сравнению с твоими...
Нерон слушал её, присев на ложе.
Египтянка пробежала мимо меня, прижимая систр к полуобнажённой груди , и скрылась во мраке переходов.
- Ну, и что же ты хочешь от меня? Ведь я женат, у меня - Октавия. Мы оба несвободны...- Отвечал Нерон сипло, заглядываясь на Поппею.
Она продолжала гневно и резко, словно говорила не с императором, а с простолюдином, с одним из своих любовников, хотя, быть любовником Поппеи мог стать не каждый...Далеко не каждый.
-Но, ты же знаешь, как бывает...- Сказала Поппея тихо, присаживаясь к нему на колени. - Бывает же беда...
Нерон гладил её по спине.
- Но не с каждым, и не так часто. - Ответил он задумчиво, -пока что, живи так, и я не намерен принимать других решений.
Поппея вскочила, как ужаленная, оправила свои серебристые одежды и стала в нетерпении ходить по зале. Её голос был тих, но я прекрасно слышала те страшные слова, которые она говорила.
- Тогда я уйду. Уйду к мужу. Ибо положение любовницы унижает меня и оскорбляет.
- Мы живём не как любовники,- попытался возразить Нерон.
- Но не по закону manus!Я не чувствую себя вправе распоряжаться...даже...твоими подарками.
- Помилуй, Поппея, да кто мешает тебе ими распоряжаться?
Она повернулась, рассыпав волосы по плечам и вскинув голову.
- Если ты не примешь должного решения и не устранишь свою жену...мне всё равно как...ты это сделаешь...больше не говори мне прийти. Я не приду.
Она сорвала с шеи золотое ожерелье из тяжёлых конических лепестков и бросила Нерону под ноги.
- И твой первый дар забери. Я ухожу к мужу. Решай свои семейные дрязги. Дура Октавия и так тебе не жена, ты так и не обрюхатил её за всё то время, что пользовался её недолгим расположением.
У меня, казалось, волосы на голове встали дыбом. Да как она смеет наносить такие оскорбления императорскому семейству? Кто она такая? Очередная подстилка, наложница?
- К тому же, твоя мать, крутит тобой, словно шашкой над доской. И ставит тебя, на любую клетку, на которую ей захочется, даже не думая, понравиться ли это тебе. Она распоряжается Римом, она, и её любовники. А ты ждёшь, когда Город за твоей спиной перейдёт к какому - нибудь её новому Палланту!
Нерон молчал, опустив голову, как пес, которого журит хозяйка.
- Да-да...Она тобою руководит. И ты, ты об этом молчишь. Но я - то терпеть не стану, я не боюсь сказать любимому всё, что ему грозит. Если хочешь знать,- победоносно вещала Поппея, - мать твоя тоже вьёт вокруг тебя заговоры, не хуже чем шерсть на веретене.
То, что я увидела, повергло меня в ужас не меньший, чем при смерти Британика.
Нерон заплакал и ткнулся в высокий подголовник ложа, перебирая его пальцами. Другую руку он протянул к ней, к Поппее, призывая её к себе.
- Нет, я не пойду к тебе. Я ухожу к Отону. Пока ты не изменишь моё положение. И своё тоже.
Казалось, моё появление из - за двери нанесло столь сокрушительный удар этой своевольной женщине, что закачался дворец. Так она побелела, увидев меня внезапно.
Я долго собиралась к сыну, и оделась в золотое платье от горла до стоп расшитое жемчугом.
Волосы мои были убраны широкими косами, губы мерцали, покрытые золотистой помадой. Но взгляд, пусть уже немолодых глаз, был вернее меча. И был он страшен Поппее.
Нерон, услышав молчание Поппеи и шорох моих сияющих одежд, поднял голову.
На его лице отразилась беспомощность младенца, просящего законного молока.
- Я помешала вам...- Сказала я твёрдо, обращаясь к ней.- Так какое положение должен изменить Нерон?
Вслед убегающей Поппее я метнула взгляд полный ненависти.
- Матушка!- Выдохнул Нерон и бросился ко мне на грудь, увлекая меня за собой на ложе.
С полчаса он рыдал и клялся в том, что его заставляют и мучают, не позволяя нам видиться.
Следующие полчаса молчал, после, умолял простить его за всё то, что было сделано мне и Октавии.
Уже под утро мы ушли из дворца под покрывалами, укрывшись и говоря о сокровенном...Тогда он в последний раз был моим сыном, а я была его матерью...
Тогда мы были вместе в последний раз... *(продолжение следует)
Голосование:
Суммарный балл: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор









1.Чётко отвечать: зачем? для кого?( У Светония всё изложено лучше);
2.Избегать избитых персонажей, а, если трудно, - избитых их трактовок
3.Помнить, что чрезмерность эротики в тексте всегда дурновкусие.
В истории полно нравственных уродов. Гораздо похвальнее рассказать о ком-нибудь вроде Камилла или Корнелии
- матери Гракхов.