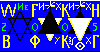-- : --
Зарегистрировано — 123 418Зрителей: 66 505
Авторов: 56 913
On-line — 19 545Зрителей: 3841
Авторов: 15704
Загружено работ — 2 122 889
«Неизвестный Гений»
Эссе о писателях и художниках
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |

Черный Лавкрафт и его разоблачение
(сборник «За гранью времен»)
Прочитав первый в своей жизни рассказ Говарда Филипса Лавкрафта, я наполнился настоящим восторгом. Чего скрывать: в то время я еще любил мистический жанр в литературе, но по иронии судьбы тот же самый Лавкрафт мою любовь окончательно и погасил. «Воистину! – помнится, воскликнул я тогда, - воображение этого человека невероятно! Оно рисует не просто потусторонний мир: этот мир прямо-таки «сверхпотусторонний», со своими жуткими, сюрреалистическими, не оставляющими надежды законами, столь страшно и убедительно описанными!» Произнеся эту тираду, я без промедления взялся за следующий рассказ.
Однако, следующий рассказ оставляет почему-то двойственное впечатление. С одной стороны, я пугаюсь, но, с другой стороны, не так чтобы очень сильно. Мало того, в душу закрадывается подозрение в том, что мой испуг не более, чем самовнушение: возможно, я испугался, только потому, что мне самому так хотелось. Что ж, я списываю свое странное впечатление на неудачность рассказа, – были же у Лавкрафта и неудачные рассказы, – и принимаюсь за третий, с многообещающим «страшным» названием, скажем, «Данвичский кошмар».
После «Данвичского кошмара», однако, остается и вовсе нелепое ощущение. Вроде бы описано «страшно», и с фантазией автора все более-менее в порядке, но остается какое-то странное чувство: представлять описанное страшно, а читать – нет. То есть, я понимаю, что на месте героев рассказа, я, несомненно, перепугался бы до смерти, наблюдая ужасные события, происходящие в этом треклятом Данвиче. Но как ЧИТАТЕЛЯ рассказ меня уже не пугает. Бог его знает, может быть, с него лучше было начинать? На этой стадии ко мне приходит серьезное отрезвление, и за четвертый рассказ я принимаюсь уже, скорее, для очистки совести, ни на что особенно не надеясь, но бессознательно все же лелея в душе маленький «авось»: вдруг наступит какой-никакой мистический катарсис. Но катарсиса не наступает, и я без особого воодушевления дочитываю остальные рассказы и отбрасываю Лавкрафта в сторону, чтобы никогда больше к нему не возвращаться.
Может быть, я просто придираюсь? В конце концов, мнение любого отдельно взятого индивидуума, как известно, субъективно. Даже гении ошибались в своих суждениях. Например, Гете не любил Бетховена и Гофмана, а Лев Толстой терпеть не мог Шекспира. При этом ни Гете, ни Толстого не упрекнешь в плохом понимании литературы и искусства. И если мнение столь гармоничной личности, как Гете, о таком «безумце» как Гофман, еще можно понять, то неприязнь Толстого к Шекспиру с трудом поддается осмыслению. Ну, да ладно. В моем случае мог сыграть роль обыкновенный контраст: за Лавкрафта я взялся сразу после «Доктора Фаустуса» Томаса Манна. «Фаустус» – безумно трудное для чтения произведение, откровенно скучное для непосвященных и с содержанием, не оправдывающим своего объема, но оно все же несопоставимо по своей значимости с творениями Лавкрафта (некоторые скажут, что произведения столь разных жанров нельзя сравнивать. Почему же? Сравнивать можно. Есть простой критерий: сопоставление результатов, которых добился каждый из сравниваемых писателей в своем собственном жанре. Манн добился в философском романе гораздо большего, нежели Лавкрафт добился в мистике). Но лично я сам (субъективно, естественно) все же считаю себя объективным. У меня нет персональной неприязни к Лавкрафту и каких бы то ни было причин для нее. Напротив, его незавидная судьба, историю которой я вычитал из предисловия к книжке, вызвала у меня сочувствие и желание сопереживать, в том числе, и на уровне чистой эстетики, то есть, за чтением его страшных историй. Иначе говоря, начинал я за здравие. Но закончил почти за упокой: магическая притягательность Лавкрафта от рассказа к рассказу угасала. Я понял постепенно, что у этого писателя не может быть большого числа серьезных поклонников. Недаром его идеи, как и идеи его преемника Стивена Кинга, находят наиболее живое воплощение в одном из самых пустяшных современных жанров, жанре голливудского ужастика самого что ни на есть пошлейшего качества. Сомневаюсь также, что у Лавкрафта найдется много поклонников в России: скорее, это будут просто фанаты, типа гóтов, надо полагать, на ура принимающих все его совокупное творчество по причине его «готичности». Серьезные поклонники могут быть только у выдающихся писателей, к каковым мы не относим авторов, безнадежно застрявших в одном жанре. Такие авторы довольствуются когортами фанатов или же «поклонников», которые, как и фанаты, не могут жить без их творчества, но, в отличие от последних, относятся к своей зависимости иронически, ни в коем случае не считая такого писателя своим кумиром. Подобная доля самоиронии свойственна, например, многочисленным серьезным и несерьезным (по)читателям Дарьи Донцовой, в числе которых имеются и мои собственные знакомые.
Все свои знания о Лавкрафте я почерпнул из рецензируемого сборника «За гранью времен» издательства «Азбука», ранее нигде, к сожалению, с Лавкрафтом не соприкоснувшись. Я много слышал о нем как об авторе рассказов ужасов и философских работ, держал в руках его книги, но не представлял себе ни их особенностей, ни достоинств, и даже не знал точно, когда Лавкрафт жил на свете.
Из этой самой книжки я узнал, что при жизни писатель почти не получил признания. Успехом пользовалась лишь его небольшая новелла «Дагон», и, по всей видимости, успех этот был непродолжителен: одним коротким рассказом нельзя надолго завладеть вниманием читающей публики, для этого нужен роман или, по меньшей мере, повесть. Лавкрафт не сумел «развить» свой успех и умер в безвестности. Но после смерти к нему не замедлила прийти мировая слава. Тем самым его судьба косвенно подтвердила мысль одного литературного героя о том, что творцы для того, чтобы завоевать посмертное признание, должны получить хоть какое-то признание при жизни. Не получив при жизни вообще никакого признания, не получишь его и после смерти. Это похоже на правду: неудачник Ваг Гог при жизни, говорят, продал всего одну или две картины – но ведь продал же! Не сделай он этого, как знать, может, и не превратился бы в посмертного гения. Здесь пахнет почти Лавкрафтовой мистикой (хотя в действительности большинство «невероятных» явлений вполне объяснимо без всякой мистики). Судьбы Ван Гога и Лавкрафта в чем-то были схожи.
Среди современных ценителей Лавкрафта автор предисловия к сборнику называет Борхеса и уже упомянутого Стивена Кинга. Выбор имен должен внушить читателю мысль о том, что России пришло время отставить скептические усмешки и начать относиться к Лавкрафту серьезно. На самом деле эта отсылка к авторитетам вовсе не убедительна: она рассчитана лишь на тех, кто читает книги единственно из соображений «интеллектуальной» моды, не пытаясь их понять, прочувствовать или хотя бы вынести из них что-то полезное для себя. Борхес – всегда актуальный персонаж, чье мнение ценится высоко, по каковой причине оно автором предисловия и приводится. Кинг свою актуальность подрастерял, но он по-прежнему один из самых успешных писателей современности, поэтому тоже авторитет. Однако, думаю, ни Борхес, ни Кинг не помогут Лавкрафту стать «модным» писателем в России хотя бы на короткий срок: больно уж он заумен для широкой публики (и это не всегда есть хорошо). Однако, он уже успел прочно занять свою готическую нишу, и потому имеется опасность причисления его к рангу великих напрямую, в обход моды; а великим он, по моему мнению, ни в коем случае не является (попытку обоснования этого тезиса см. ниже).
Кинг хвалит Лавкрафта просто потому, что испытывает слабость к мистическому жанру. Я думаю, любой мало-мальски интересный мистический автор рано или поздно заслуживает похвалу Кинга. А похвалы его ничего не стоят: Кинг ошибался в своих выводах не меньше, чем Зигмунд Фрейд. Лавкрафт и Кинг ограничены в одинаковой степени: первый ограничен своим «безграничным» воображением, не требующим знания реальной жизни, второй – крайне субъективными психологическими переживаниями и не бог весть каким житейским опытом. Ни тот, ни другой ничего нового не сообщают читателю и ничему полезному его не учат. Можно сказать, что духовная составляющая искусства в их книгах отсутствует, потому что читатель не выносит из их произведений ничего, кроме какого-нибудь примитивного чувства. Кинг написал всего один стоящий роман, в дальнейшем спекулируя на его успехе, и Лавкрафт, по всей видимости, создал всего один-два стоящих рассказа. Так что, вполне возможно, что один просто нашел в другом родственную душу.
Что касается Борхеса, то этот несколько однообразный и потому переоцененный постмодернист, по-видимому, оценил в Лавкрафте только одну сторону, а именно силу воображения, которая не могла его не пленить. Рискну предположить, что к эстетической стороне лавкрафтовых историй, то есть, к их языку и композиции, Борхес остался равнодушен, поскольку эта сторона, как мне кажется, у Лавкрафта развита крайне слабо. Это значит, что, говоря о творчестве Лавкрафта, мы говорим не о самих рассказах как о самобытном художественном явлении, а только об их содержании. Откровенно говоря, реакция Борхеса на Лавкрафта меня несколько сбивает с толку, и я предпочел бы вовсе о ней не говорить, так как плохо представляю себе данный предмет. Дарую читателям возможность самостоятельно разобраться в этом вопросе; надеюсь, что среди них найдутся индивидуумы, которые хорошо знают творчество обоих писателей, и имеют возможность проводить между ними определенные параллели.
В любом случае, я считаю, что даже в рассказе, ограниченном определенными жанровыми рамками, в данном случае, мистическими, недостаточно просто беллетризированного описания потусторонних явлений, чтобы можно было счесть рассказ выдающимся. Ведь мистический рассказ, как и любой другой – это, прежде всего, литературное произведение, поэтому, помимо чисто жанровых, он должен иметь и собственно литературные достоинства: очевидную художественную составляющую, писательское мастерство, оригинальную и, вместе с тем, классичную композицию и т.д., – да мало ли чего можно потребовать от авторов, которых желают записать в гении. Располагает ли вышеперечисленными качествами Лавкрафт? Давайте посмотрим.
На первый взгляд, творчество Лавкрафта принадлежит мистической романтической традиции американской литературы, начатой В. Ирвингом и продолженной Э. По, А. Бирсом и отчасти Н. Готорном. Но, на самом деле, Лавкрафт не относится ни к какой традиции: это был просто человек, полностью ушедший в себя, писавший для себя и ориентировавшийся в быту столь плохо, что его странные рассказы, по крайней мере, прочитанные мною, вообще почти не затрагивают эту сферу.
Странность этих рассказов объясняется странностями самого Лавкрафта: в детстве его заставляли носить девчоночью одежду, с раннего возраста мальчика мучили ночные кошмары, отец его сошел с ума, мать изводила истериками – это, в общем, и неудивительно, поскольку такой необычный ребенок не мог родиться у нормальных родителей. Странности характера, помноженные на меланхолический склад, ведут к одиночеству: кто захочет дружить с субъектом не от мира сего? Одиночество таланта, в свою очередь, дает пищу замысловатой фантазии, поскольку зачастую у таланта нет возможности реализовать свой потенциал каким-то иным образом. Само же по себе одиночество штука больше грустная, чем отрадная, оттого и фантазии получаются мрачноватые и болезненные, чтобы не сказать больше. Безудержный, фантастический полет воображения – почти верный признак одиночества души, если только писатель искренен и не пишет на потеху массам. Здесь мы говорим о воображении субъективном, воображении ради самого воображения, часто заслоняющем общечеловеческие мотивы, а не стимулирующем их, как, например, в «Фаусте» Гете. Такое «субъективное» воображение мы встречаем у Лавкрафта, у По, у Гофмана , у Гоголя, у Андерсена, у Льюиса Кэрролла. Одиночество, как правило, не самодостаточно и остро нуждается в общении, но это общение принимает странные формы, не изменяющие самой его сути (по-настоящему одинокие люди остаются таковыми всю жизнь); отсюда легендарные сто тысяч писем, написанные Лавкрафтом. Он общался с людьми, но это была единственная форма общения, известная ему.
Однако, не будем предаваться сантиментам по адресу нашего героя, покуда они не привели нас на опасный путь всепрощения, и взглянем на эстетику Лавкрафта критически.
Сразу скажем, что художественная пластика, или «пластицизм» в строгом терминологическом смысле в произведениях Лавкрафта отсутствует (о, сколько прелести в действительности подразумевает этот «строгий» термин!) – отсутствует то, что «роднит всех великих мастеров» независимо от темы, стиля и жанра. Другими словами, отсутствует своеобразное «золотое сечение», что применительно к литературным произведениям я бы охарактеризовал, как сочетание интересной истории и соответствующего художественного стиля в целях максимального воздействия на образованного читателя. Подобное сочетание может быть бесконечно разнообразным, в зависимости от эпохи, жанра и цели автора. Сие бесконечное разнообразие не коснулось Лавкрафта. У него отсутствует то, что в полной мере обнаруживается, например, в близких по жанру рассказах Эдгара По. Тем не менее, у Лавкрафта есть своя собственная писательская эстетика; о ней мы и будем говорить в дальнейшем.
Так вот. Эта эстетика, во-первых (упомянем сразу самую главную ее составляющую, которая, по моему мнению, и есть источник всех его субъективных неудач), заключается в стремлении во что бы то ни стало впечатлить читателя – стремлении столь сильном и неодолимом, что иногда можно почти «увидеть» воочию, как лихорадочно строчит он свои ужасающие истории, лишь бы не сбиться, не дать померкнуть в сознании удачно найденному образу. Такое стремление было бы похвальным, если бы Лавкрафт умел, как Пушкин или Лермонтов, в минуты гениального озарения создать шедевр одной лишь силой мимолетного, преходящего мгновения: это то самое чувство, которое способен испытать поэтически одаренный человек, который, не будучи великим творцом, не умеет облечь его в совершенную музыкальную, живописную или литературную форму. Вот и Лавкрафт не Пушкин, и ему этого не дано. Лихорадочное возбуждение разгоряченного нервического ума при наличии определенного художественного таланта вполне может приниматься за гениальность, но на самом деле такое допущение – большая ошибка. У Лавкрафта все заканчивается поспешными, поражающими иногда удивительной силой воображения, но все же поспешными, сумбурными, словно необработанными рассказами. Эта сумбурность, в общем, и есть та самая персональная лавкрафтова «эстетика». Очень даже вероятно, что сам писатель сознательно оставлял некоторые свои истории в таком «необработанном» виде, считая, что подобным приемом он сильнее воздействует на читателя. Вот рассказ «Грезы в ведьмовском доме», должный ужасать, но вызывающий лишь раздражение своим бессмысленным, бессюжетным нагромождением приснившихся образов. Естественно допустить, что в грезах, то бишь, во снах, вообще обнаруживается довольно мало «логики», и многие сны действительно являются нагромождениями образов: так уж устроен человеческий мозг. Более того, слово «грезы» Лавкрафт вынес даже в заглавие, чтобы предупредить все вопросы. На первый взгляд, ничего не вызывает возражений. Но дело в том, что в случае с Лавкрафтом мы имеем дело не со снами, и не с грезами как таковыми, а с литературным произведением. Реальность может быть сколько угодно сумбурной и запутанной, но произведение, передавая сумбурность реальности, само по себе должно быть цельным и эстетически завершенным. Этого добиться непросто. Неудачную и непроработанную структуру «Грез…» можно сравнить с повестью Гофмана «Повелитель блох»: интересно и вполне романтически начавшись, она довольно быстро переходит в серию нелепых бурлесков и после первого прочтения никак не складывается в голове в законченное художественное целое. Но даже в этой, не очень удачной книге Гофман не устает поражать нас изяществом и живостью фантазии, ужасая и веселя одновременно, а новелла Лавкрафта при всей ее стилистической неряшливости еще и вовсе лишена жизни, угрюма и мрачна. Больше ясности и хотя бы несколько вразумительных диалогов придали бы ей жизнеподобия – в конце концов, персонажи должны быть жизнеподобными, чтобы вызывать к себе хоть какое-то сочувствие – но к написанию диалогов, то есть, к передаче на письме особенностей устной речи персонажей, разговаривающих друг с другом, Лавкрафт, к сожалению, был почти совершенно неспособен. А что толку в книжке, говорила Алиса Лидделл, если в ней нет ни картинок, ни разговоров? Главный герой писателя, от лица которого, как правило, ведется повествование, вообще крайне редко разговаривает, чаще слушает других или выражается риторически, поэтому вместо диалогов в рассказах Лавкрафта фигурируют почти исключительно монологи: герои высказывают свои мысли касательно неких зловещих событий (не успев, как правило, ничего высказать толком – это его фирменный прием) или описывают различные безумные наваждения, вызывая в слушателях вполне естественную дрожь, оторопь, ужас, что угодно, но только не ответные реплики. О себе же самих персонажи писателя вообще почти никогда ничего не рассказывают.
Может быть, Лавкрафту не важны были люди. Может быть, ему прежде всего хотелось описать некоторую пограничную ситуацию, явление потусторонней силы, чтобы напугать читателя до смерти. Но при столь безжизненных персонажах сама эта идея мертва. Что должно нас пугать? То, что зловещая сила безжалостно уничтожила некий второстепенный персонаж, едва намеченный беглым штрихом? Не думаю, что это так уж ужаснет нашего привычного ко всему обывателя. Каждый день мы читаем и слышим о гибели людей в автокатастрофах, терактах, наводнениях, землетрясениях и военных действиях. Огромное количество людей гибнет в фильмах-катастрофах, выходящих на экран. В каждом бандитском сериале беспрестанно убивают кого ни попадя. Положа руку на сердце, признайтесь: так ли сильно это вас трогает? У рядового обывателя, который периодически сталкивается с негативными воздействиями, вырабатывается предусмотренная природой защитная реакция, иначе эти воздействия давно свели бы его с ума. Но как раз эстетическая составляющая, понимание искусства у обывателя развиты слабо, поскольку книги, которые он читает, и фильмы, которые он смотрит, носят массовый характер, и, как правило, имеют низкий художественный уровень. Рассказы же Лавкрафта не только не развивают в читателе эту эстетическую составляющую, но рассчитывают, по большому счету на то же, на что рассчитывают и средства массовой информации, а именно на примитивный шок. Однако от подобного негатива наш читатель оказывается худо-бедно защищен.
Короче говоря, настоящих, «живых», дышащих героев у Лавкрафта нет. Поэтому нет у него и живой, настоящей реальности. Нет ощущения достоверности происходящего (как у того же Эдгара По). По удавалось достигать такого ощущения путем максимально «осязательного» описания всех деталей обстановки, в которой происходили мистические события (при том, что эти детали могли не иметь решающего значения в развитии событий, а всего лишь служили их фоном. Лавкрафт, по всей видимости, воссоздание такого фона считал излишним). Кроме того, По был по натуре хорошим психологом, что вообще характерно для одаренных людей нервического склада. Это позволяло ему довольно тонко описывать различные душевные состояния, отнюдь не ограниченные чувством страха, сколь бы разнообразным оно ни было. Лавкрафту же бытовая обстановка и вообще объективная реальность не даются, равно как и психология персонажей, которые хотя бы однажды должны, наконец, овладеть какими-нибудь другими чувствами помимо «всеобъемлющего ужаса». Все его рассказы мистичны насквозь, от первых до последних строк. У него даже самая будничная обстановка обрисована сплошь зловещими красками, с ходу предрекая ужасную развязку, потому что такой подход не требует сколько-нибудь детального описания быта и характеров героев. Поэтому мы не чувствуем самого процесса проникновения мистической угрозы в реальность: вся реальность уже изначально оказывается пропитана угрозой. Если бы, например, бытовая обстановка была описана традиционным стилем, а мистическая часть живописалась иными, более яркими и выразительными средствами, такой контраст имел бы большее художественное воздействие. Но у Лавкрафта не только мистическая часть, но и весь рассказ напоминают странный, лихорадочный, больной сон, а описание деталей, не имеющих непосредственного отношения к этому «сну», сведено к минимуму, поскольку автор ошибочно считал такие детали второстепенными. Реальность описана бегло, нереальность – очень досконально. Соотношение этих двух компонентов нарушено. Ощущение достоверности не достигнуто, и бояться поэтому нечего.
Сервантес говорил, что любой вымысел тем лучше, чем он правдоподобнее. Неудача Лавкрафта – прямое следствие отступления от этого принципа. Читателя можно увлечь, разбудив в нем чувство сопереживания, каковое чувство может родиться только по отношению к чему-то живому и трепетному, другими словами, правдоподобному. Героем художественного произведения может быть кто угодно: инопланетянин, страшное с виду чудовище из другого измерения или вообще предмет, который в обычной жизни является неодушевленным (оживший диван или холодильник, например), но симпатию или сопереживание вызовет только такое существо, которое имеет понятные нам человеческие черты, которое живет и дышит, которое правдоподобно. «Неправдоподобный вымысел» не вызовет никаких чувств, кроме лишь обыкновенного любопытства. Такое любопытство срабатывает в нас, когда мы смотрим с середины какой-нибудь разрушительный боевик: поскольку мы не знаем, что, собственно, происходит, то нам совершенно наплевать, кто сейчас погибнет, а кто останется жить, главное, что нас интересует за отсутствием человеческого фактора – это зрелище.
Перед тем, как коснуться «зрелищной» составляющей в творчестве Лавкрафта, я хотел бы упомянуть о том, как он описывает чувство страха – обязательный атрибут любой разновидности искусства ужасного. Тут обнаруживается любопытная и даже неожиданная особенность.
Чувство страха, которое то и дело испытывают персонажи писателя – это, конечно, страх перед «потусторонним». Однако, чувство страха само по себе, страх вообще, не имеет прямого отношения к потустороннему; это вполне обыкновенная физиологическая реакция на определенного рода внешние раздражители, объясняющаяся химическими процессами, протекающими в человеческом мозге. Поэтому чувство это относится, прежде всего, к реальности. А поскольку с реальностью Лавкрафт не дружен, то и чувство страха описывается им очень поверхностно, с использованием всех мыслимых, существующих за столетия до Лавкрафта, клише. Непростительная ошибка! Что может быть существеннее в повести ужасов, как не достоверный, сильнейший, всепоглощающий страх? Описание его в идеале должно быть максимально реалистичным и детальным, чтобы разбудить такое же реальное, завораживающее или, напротив, отталкивающее чувство в читателе. Что же мы видим у Лавкрафта? Мы обнаруживаем, что страх, снедающий его героев, в каждом конкретном случае описан несколькими словами – не самыми банальными, но опасно граничащими с банальностью:
- «монотонный холмистый пейзаж внушал мне непонятный ужас» («Дагон»),
- «ужас немыслимый, невообразимый и почти невозможный» («Показания Рэндольфа Картера»),
- «невыразимый страх сковал мне члены» («Безымянный город»),
- «ужасающие подозрения, от которых мороз подирал по коже» (там же),
- «я содрогнулся от ужаса» (рассказ с оптимистическим названием «Праздник»),
- «у нас холодела кровь в жилах и замирало сердце» («Цвет из иных миров»),
- «Совершенно обезумев от ужаса, я бросился бежать» («За гранью времен»),
- «мною овладел неодолимый ужас и сдавил меня в объятьях черного панического страха» (вот это уже неплохо; рассказ «Тварь на пороге»),
- «Мне показалось, что я схожу с ума» («Дагон»).
Вы, возможно, полагаете, что нечестно цитировать писателя или кого бы то ни было, вырывая фразу из контекста? Ничего подобного, отвечу я. Контекст в данном случае не играет никакой роли. Дело в том, что все эти немыслимые, панические и невыразимые страхи полностью лишены какого-либо контекстуального развития. Описания чувства страха одиноки у Лавкрафта. Они вот так просто торчат в тексте там и сям в том виде, в каком я их привел, и связаны с остальным текстом, так сказать, чисто формально, то есть, тематически, но не стилистически. Эти описания даны не для того, чтобы разнообразить экспрессивный диапазон, а просто потому, что они требуются по закону жанра. Представьте себе серьезный фильм, в котором герой совершает какой-нибудь недостойный поступок, после чего на экране выскакивает титр с надписью «так делать нельзя», и на этом фильм заканчивается. Уверен, что у зрителя такой финал вызовет непроизвольный смех, на который создатели фильма не рассчитывали. Причина этого проста. В художественных произведениях стоит избегать прямолинейности, и любые идеи нужно учиться выражать посредством óбразов: например, показать результат недостойного поступка, и это уже будет художественный образ. Удачно найденный образ призван быть более ярким, нежели простое цитирование морали, поскольку саму по себе мораль мы и так знаем наизусть, однако истинного ее значения и последствий ее нарушения можем себе не представлять, и художественное произведение призвано дать нам такое представление (или, напротив, убедить нас в бессмысленности всякой морали, опять-таки, с помощью образов). Лавкрафт же описывает страх слишком прямолинейно, не создавая его художественного образа. Например, он приводит описание чего-то невообразимо ужасного, после чего сцена резко обрывается и выскакивает «титр»: «мне показалось, что я схожу с ума». Следующая сцена, опять происходит что-то невообразимое, героем овладевает неодолимый ужас и – трах! – снова «титр». Конец сцены, начало следующей. И так весь рассказ. Нет стилистически выверенных переходов между сценами.
Когда Набоков в своих лекциях по зарубежной литературе сравнивал стиль Диккенса и Флобера на примере романов «Холодный дом» и «Госпожа Бовари», он отмечал, что у Флобера все повествование идет сплошным потоком и представляет собой единое целое, при этом каждая глава плавно и незаметно перетекает в следующую, не разрушая цельности повествовательного потока. Такие плавные переходы от одной главы к другой Набоков назвал "структурными переходами". У Диккенса структурные переходы отсутствуют: все его романы как бы склеены из множества отдельных рассказов, которые связаны между собой лишь общими событиями и персонажами, и каждый из которых имеет свое логическое и сюжетное завершение. Любую главу из любого романа Диккенса, в принципе, можно печатать в качестве отдельного рассказа, снабдив ее необходимыми сюжетными комментариями . Структура произведений Лавкрафта представляет собой слабое подобие романов Диккенса: его рассказы, даже самые скромные по объему, склеены из неуклюжих маленьких бессюжетных лоскутков, сшитых между собой весьма грубыми нитками и крайне неискусно, так что все швы торчат наружу. Этими швами и служат те самые фразы, которые мы приводили: «мне показалось, что я схожу с ума» или «я содрогнулся от ужаса». Хорошо еще, что описания всевозможных страхов сами по себе достаточно разнообразны: Лавкрафт нечасто повторяется. Недаром говорят, что в английском синонимов слова «страшный» больше, чем в любом другом языке. Поэтому почитатели Лавкрафта настаивают, что знакомиться с его творчеством нужно в подлиннике, поскольку в переводе теряется красота слога. Что ж, видимо, мне предстоит еще одно серьезное испытание.
Как бы то ни было, если все эти приемы Лавкрафта как-то и действуют, то только на нервы. Автор без устали повторяет по сути одно и то же (несмотря на разнообразие прилагательных), и не просто повторяет, в «ужасном» рассказе без этого не обойдешься, но повторяет монотонно и неубедительно, словно его заставляли писать рассказы силой. Да, он предположительно писал в мистическом порыве. Но этот порыв, как я уже говорил, не был истинным вдохновением. Это было «псевдовдохновение», вдохновение не слога, но воображения. Истинного литературного вдохновения его ужасы лишены: таково мое субъективное мнение, мнение строгого и придирчивого критика. Они призваны пугать, но вместо этого только непонятным образом раздражают. Он пугает, а мне не страшно, говорил Толстой о Леониде Андрееве. Повторением однообразных приемов Лавкрафт забавным образом похож на как будто совсем не похожую на него Лидию Чарскую (с тем отличием, что последняя при жизни пользовалась огромным успехом). Чарская писала повести для девочек-подростков и взрослых с неприхотливыми вкусами, в которых маленькие героини постоянно попадают в экстремальные ситуации, целуются друг с другом, закатывают бесконечные истерики и непрестанно хлопаются в обморок (интересующихся отсылаю к остроумному отзыву на Чарскую Корнея Чуковского) .
Ради сюжетного разнообразия герои Лавкрафта тоже периодически падают в обморок, не успевая сообщить некую крайне важную информацию, которую нам очень хотелось бы узнать. Вот еще один коронный элемент его «эстетики»: оставлять читателя, как представляется Лавкрафту, в мучительных сомнениях по поводу истинной сути случившегося. Это отсутствие той самой зрелищной составляющей, о которой мы говорили выше. Да, искушенным ценителям «ужасного» жанра известно, что недосказанность будит воображение много сильнее, нежели полное разоблачение тайны. Чудовище, ревущее и скребущееся за стеной, страшнее чудовища, разломавшего эту стену и вырвавшегося на волю (по крайней мере, в книгах и в кино). Нераскрытая тайна будит любопытство, иногда мучительное. Если она интересно подана, хочется в нее проникнуть, прикоснуться к ее зловещим секретам. Но Лавкрафт попросту не знает чувства меры в сокрытии тайны. С одной стороны, он хочет оставить ее нераскрытой и потому волнующей, а с другой стороны, постоянно о ней напоминает, как будто боится, что читатель о тайне забудет и ему станет неинтересно. Но раскрывать ее Лавкрафт все-таки не хочет. У него в рассказах постоянно всплывают какие-то жуткие обстоятельства, «о которых не стоит знать человеку». Ну ладно, не стоит и не стоит. Тогда и постоянно напоминать о них не стоит, достаточно лишь один раз предупредить, и мы все поймем. Но этот автор напоминает нам о непостижимости тайны из рассказа в рассказ с постоянством одержимого. Так Паниковский изводил Корейко: «Дай миллион, дай миллион, дай миллион!». Наверно, кому-то из читателей на самом деле, в конце концов, станет страшновато от такого необъяснимого упорства, но лично мне от этого становится скучно, и я бы вежливо намекнул Лавкрафту, что тайна порядком надоела, повторов и напоминаний уже достаточно, большое спасибо, но, к сожалению, сделать это никак невозможно.
Я могу сравнить лавкрафтову «недосказанность» с малобюджетным фильмом ужасов, продюсерам которого не хватило средств на то, чтобы воссоздать на экране кровожадного монстра, пусть даже он является главным героем ужасных событий, легших в основу картины. Если фильм получился хороший, эта недосказанность пойдет ему только на пользу, сохранив атмосферу таинственности и ужаса, которую не стоит нарушать. Но если фильм неудачен, недосказанность его вконец испортит: малый бюджет будет выпирать слишком уж неприлично. Эх! – скажет расстроенный зритель. – Если уж фильм такой дурацкий, дайте нам хотя бы зрелище! Но ни о каком зрелище не может быть и речи.
Истории Лавкрафта можно назвать стилистически малобюджетными. Эти истории явно переоценивают силу своего воздействия на читателя. Лавкрафт считает, что его сильнейшее, бредовое, больное по сути воображение заставит образованного человека забыть об эстетических погрешностях самих рассказов. Он подробно описывает разложение и распад человеческой плоти под воздействием зловещей силы – кожа стареет и принимает пепельно-серый оттенок, у героев отваливаются высохшие органы, человек буквально разлагается на части – но сила эта оказывается всего лишь «Цветом из иных миров», некими световыми лучами непонятного предназначения, неизвестно откуда взявшимися (что такое «иные миры», Лавкрафт, понятное дело, не сообщает) и поэтому не такими уж и страшными. В рассказе «Показания Рэндольфа Картера» герой, спустившись в жуткое подземелье, в ужасе кричит по телефону оставшемуся на поверхности напарнику о том, что увидел нечто из ряда вон выходящее, и при этом столь часто повторяет слова «ужасно», «непостижимо» и «чудовищно», что рассказ, в конце концов, превращается в глупую комедию. Нужно ли говорить о том, что герой погибает, унеся свою тайну в могилу.
Попробую все вышесказанное резюмировать следующим образом: «таинственность» Лавкрафта не столько интересна (это означало бы, что рассказчик действительно скрывает некую тайну, страшась раскрыть ее нам), сколько надуманна (рассказчик, похоже, и сам не знает той тайны, которую собирался нам раскрыть).
Итак, как рецензент, я могу с грустью констатировать, что Лавкрафт не выполнил задачи, которую он перед собой поставил: сохранив «тайну под покровом тайны», придать новое измерение «ужасной» истории. Вышло наоборот: словно спохватившись, что столь тонкий принцип может не сработать, он сам сводит собственную концепцию на нет, перегружая тайну донельзя зловещими намеками и тем самым только снижая ее воздействие.
Возможно, он отчаянно хотел, чтобы его поняли, и духовное одиночество представлялось ему одной из тех страшных химер, от которых можно избавиться, лишь поведав о них другим людям – подсознательное желание «совсем по Фрейду»? А, может, поведав о своих химерах, он надеялся на сочувствие, понимание или даже любовь? Я не знаю ответов на эти вопросы. В книге, лежащей передо мной, их не так просто обнаружить.
Поскольку по художественным приемам все рассказы данного сборника более-менее схожи друг с другом, выделить из общего потока какие-то самобытные произведения непросто. Но, как мне кажется, мне удалось это сделать, и я хочу кратко остановиться на них. Таких произведений два: это повесть, давшая заглавие сборнику, и рассказ, его заключающий, с красноречивым названием «Тварь на пороге».
«За гранью времен» - одно из самых известных творений Лавкрафта, наглядно демонстрирующее силу его воображения и самобытную натуру. Некоторые отрывки из нее сегодня могут показаться избитыми, но только потому, что их давно уже зацитировали донельзя, одну за другой превращая оригинальные идеи писателя в самые пошлые банальности. Хотя непосредственно по произведениям Лавкрафта было снято совсем немного картин, отголоски этих произведений слышны в доброй половине американских фильмов ужасов. Придуманная Лавкрафтом адская книга «Некрономикон» стала одним из заметных персонажей искусства «ужасного». «Некрономикон» упоминается и в этой повести, но речь в ней идет о другом: о могущественной расе неких высокоразвитых существ, обладающих внеземным разумом, помнящих свое прошлое, «живущих настоящим» и наперед знающих будущее. Лавкрафт создает впечатляющую картину глобального доминирования этой расы, посылающей свое коллективное сознание на миллионы лет вперед для внедрения его в сознание наиболее развитых представителей других форм жизни, в том числе, и нас с вами. Это делается в защитных целях, поскольку выясняется, что сим «сверхчеловеческим» существам в далеком будущем грозит опасность истребления со стороны совсем уж потусторонней и сверхъестественной расы жутких монстров, чем-то, как ни странно, напоминающих людей (ищите, в этом, если хотите, скрытый смысл). Главный герой, послуживший «оболочкой» для такого инопланетного сознания, овладевает исключительными интеллектуальными способностями, хотя за обладание ими ему приходится расплачиваться периодическими обмороками (sic!) и амнезией. Границы времени перестают существовать для него, как и вообще всякие другие границы, и он приобщается к цивилизации избранных, пусть и скрытно, почти тайком, но тем более впечатляющими кажутся нам его свидетельства.
Что типично для Лавкрафта, эта маленькая повесть или большой рассказ (a long short story, как говорят американцы) поражает не столько литературными достоинствами, сколько силой выдумки. Воображение писателя «строит» города с огромными зданиями невероятной архитектуры, создает удивительные растения, необъятные хранилища всевозможных знаний и живописует странных, чтобы не сказать больше, обитателей этого причудливого мира, без преувеличения, не похожих больше ни на каких известных науке или искусству существ. Прошлое, настоящее и будущее сливаются в единый поток, в грандиозный пространственно-временной континуум, так что возникает даже желание соединиться с ним, почувствовать себя частью вечности. Возможно, схожее чувство испытывает человек, который, смотря на звезды, вдруг осознает, что он в буквальном смысле обращает взор в прошлое, ведь свет звезд летит к нам сквозь десятки, сотни, тысячи световых лет. Тогда пространство вдруг превращается во время, и человек ощущает себя частью новой, незнакомой, волнующей бесконечности. Но печальный мистик Лавкрафт на этом не останавливается и рисует зловещую картину грядущей гибели на первый взгляд неуничтожимой цивилизации от потусторонней силы, существующей воистину «за гранью времен». Такое сюжетное решение впечатляет: поразив воображение читателя картинами беспредельного могущества разума, писатель показывает, что даже этот разум смертен, и тем самым возвращается на круги своя, к пессимистической философии. Как и полагается, читатель не вступает в непосредственный контакт с потусторонним сознанием, но на этот раз оказывается так близко к нему, что почти явственно ощущает его смертельное дыхание.
Однако, из вдохновенных заоблачных фантастических далей нам предстоит спуститься на бренную землю и увидеть, что даже эта грандиозная по выдумке повесть все же не лишена худших авторских клише и, пусть она является самым крупным по объему произведением сборника, для столь масштабной сверхзадачи ее размеры слишком малы. Лавкрафт опять поспешен, он, как и прежде, торопится закончить повесть в срок, положенный его терпением; в то время как эта идея, несомненно, стоит того, чтобы переработать ее в роман, и если сделать это действительно талантливо, автор такого романа окажет большую услугу всей фантастической литературе.
«Тварь на пороге» - рассказ больше камерный и посвящен единичному событию, в которое вовлечены всего несколько лиц: сам рассказчик, его друг, жена друга и ее умерший, но продолжающий незримо «присутствовать» отец. Речь уже в который раз идет о переселении то ли душ, то ли сознания, но уже на более приземленном уровне, не допускающем и тени размаха и грандиозности предыдущей повести. Тем не менее, у этого рассказа есть важное преимущество, благодаря которому его можно считать наиболее удачным из коротких новелл рецензируемого сборника и, возможно, одним из самых удачных произведений Лавкрафта вообще. Здесь писатель ПОКАЗАЛ нам «тварь на пороге» - как в прямом, так и в переносном смысле. Мы, наконец, воочию увидели материальное воплощение настоящего зла, в данном случае злодеяний, творимых безумной колдуньей, манипулирующей слабовольным мужем даже после своей смерти; и не просто увидели, но как будто прикоснулись ко злу рукой, вздрогнув от ужаса и отвращения. Существо не нанесло нам физического вреда, но мысль о его пугающей близости и о том, что оно МОГЛО бы сделать с нами, если бы только захотело, выражена достаточно ярко. В этом рассказе Лавкрафт, по моему мнению, сумел, наконец, достичь ощущения настоящей реальности нереального: почти осязаемого, натуралистичного, пугающе близкого.
Таковы два успешных произведения Лавкрафта из сборника «За гранью времен».
Хочу в завершение попытаться дать свое обоснование причин легендарного статуса этого писателя в среде любителей соответствующей литературы и его авторитета среди прочих авторов в жанре «хоррора» и мистики.
Таких причин, по моему мнению, три:
1. Американское происхождение писателя.
2. Его странная и самобытная натура.
3. Его искренность.
Каждый из этих пунктов требует пояснения.
Американское происхождение любого деятеля искусства, науки, бизнеса и по большому счету вообще любого социального и культурного феномена, как правило, работает в пользу этого феномена. Любой продукт американского происхождения, мало-мальски заслуживающий внимания, пользуется этим вниманием сполна (хотя путь к нему часто бывает тернистым). Американец абсолютно уверен в том, что американский продукт – лучший из всех. Такова особенность американского менталитета. Эта особенность вечна и неистребима, потому что свою уверенность американцы усваивают в раннем детстве, если не всасывают с молоком матери. Поэтому в США она характерна как для любителей масскульта, так и для «нишевой» аудитории, какими бы разными ни были представители этих противоположных групп. Если талантливый американский продукт не вписывается в рамки массовой культуры, то в этом случае он получает культовый статус произведения для избранных, каковой статус приклеивается к нему с таким же точно рвением, с каким в Америке пропагандируется массовая культура, разве только в меньших масштабах. «Избранная» американская публика в этом отношении не отличается от всего остального американского народа, просто восторг этой публики направлен в несколько иное русло. Этот восторг по отношению к «немассовым» явлениям в силу своей американской же природы иногда вырастает до столь внушительных размеров, что явлению, лежащему в его основе, удается выйти из культовых рамок и стать самым что ни на есть массовым феноменом. В качестве примера можно привести фильм «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино.
В этом и заключается одна из причин посмертной известности Лавкрафта: восторг его американских поклонников превысил все разумные пределы и возвел его в ранг мистических гениев. Будь Лавкрафт выходцем из какого-нибудь другого географического региона, например, России, уверен, он пользовался бы гораздо меньшей известностью, а, может, и до сих пор прозябал бы в забвении. Называйте эту точку зрения как хотите – субъективизмом, национализмом, шовинизмом, чем угодно, но в ней есть доля жизненной правды.
Вторая причина заключается-таки в самобытности Лавкрафта. Он самобытен прежде всего потому, что в его нездоровом теле склонность к мистике и богатейшее воображение боролись с душевной неуравновешенностью и не до конца развитым талантом. Это странное сочетание делает его не очень удачные в художественном плане рассказы не похожими ни на какие другие (вспомним в этой связи «персональную» лавкрафтову эстетику). Они оказываются какими-то очень удачно неудачными, не в последнюю очередь благодаря желанию Лавкрафта любой ценой добиться впечатления, в чем, собственно, и заключается его искренность, третья, по нашему мнению, причина успеха писателя. Довольно часто – далеко не всегда, но часто – его мистический эскапизм сотворен искренними душевными порывами. Поэтому невозможно совсем не впечатлиться его рассказами. Этим он отличается от Стивена Кинга, чьи поздние книги почти лишены настоящего чувства, будучи жалкими, выхолощенными копиями его давнего и относительно удачного романа «Сияние». Поэтому Лавкрафт и заслужил частичку своей славы.
Лавкрафта, само собой разумеется, нельзя ставить в один ряд с По или Гофманом по причине прозаической – недостаток художественного таланта. Писательская эстетика По сама по себе безупречна, с поправкой на болезненность его тем, а по сравнению с Лавкрафтом выглядит и вовсе совершенной. Однако воображение последнего само по себе ничуть не уступает, если не превосходит фантазию По. Вероятно, Лавкрафту просто недостало душевного здоровья, чтобы привести в порядок свои мысли и дисциплинировать свой талант. По значению для американской литературы Лавкрафта можно сравнить с Амброзом Бирсом: эти авторы примерно равны по размеру дарования, хотя произведения Бирса в силу обстоятельств более приближены к реальной жизни, поскольку многие из них основаны на его собственном опыте). Бирсу, как и Лавкрафту, изредка удавался пугающий контакт с «нереальной реальностью» (рассказ «Заколоченное окно»). Были ли у Лавкрафта большие удачи, помимо упомянутых нами, - об этом я, к сожалению, не могу судить. Ищите и, возможно, обрящете.
Бедная Лолита
«Лолиту» Набокова несколько раз запрещали, и поделом: мир прекрасно обошелся бы без этой книги. Вспоминая самое имя маленькой героини, я не могу вызвать на ум никаких сколько-нибудь приличных ассоциаций – все почему-то донельзя неприличные. Если вам мало моего личного примера, подумайте, наконец, о своих собственных ассоциациях или об ассоциациях своих хороших знакомых. И здесь даже не важно, читали ли вы сами эту книгу.
Господа присяжные заседатели! Я требую минуту внимания к своей речи – речи критика «Лолиты». С горечью признаюсь себе, что уже, пожалуй, слишком поздно: «Лолита» давно и безоговорочно оправдана, и поэтому моя речь не сделает резонанса и не принесет никакой пользы. Но тем более она искренна и бесхитростна: нет ничего искреннее и бесхитростнее речи критика, отчаявшегося привить читателю должный вкус. И пусть вас не смущает мой напыщенный тон: он всего лишь скрывает растерянность перед столь блестящей толпой ценителей искусства, пребывающего в негласной моде.
Не сомневаясь, что моя речь будет краткой, я, тем не менее, не знаю, с чего начать, поскольку меня несколько подавляют ваши насмешливые взгляды. Пожалуй, проще всего будет разбить мои нападки на несколько пунктов, которые сами по себе не совсем бессвязны, однако выстроены довольно сумбурно. Но ведь эта речь все равно не имеет большого практического смысла, так что ее бессвязность в данном случае не является серьезным недостатком.
Скажу вначале несколько слов в защиту этого несомненно пошлого произведения (но не в защиту пошлостей, заключенных в нем).
Как писал сам Набоков в комментариях к «Лолите», те критики, которые нещадно хулили его книгу, прямо называя ее порнографической и извращенной, делали это либо с чужих слов, либо едва взглянув на ее крамольную тему, либо не дочитав книги и до середины. Я готов согласиться с этими доводами, поскольку, к сожалению, они есть очевидный факт, не нуждающийся в доказательствах. Как всякий опытный автор, желающий привлечь внимание читателя, но вместе с тем пытающийся и высказать какие-то свои собственные мысли или продемонстрировать владение словом, Набоков выводит скабрезные детали в начало книги, а по мере углубления повествования (хотя здесь нет никакого «углубления» как такового) переходит на более отвлеченные лирические нотки, и даже вплетает в сюжет подобие детективной интриги. По-видимому, такая манера вполне отвечает логике развития отношений Гумберта Гумберта с его возлюбленной нимфеткой: в начале романа мы наблюдаем неудержимую патологическую страсть героя, в его конце – довольно унылую повседневную рутину. Однако, в более самобытном произведении изменение манеры повествования или хотя бы самого сюжета придало бы произведению многомерность: например, книга начинается одним манером, продолжается уже иначе и, наконец, заканчивается совсем неожиданным образом. Но Набоков лишь отодвигает тему педофилии на второй план и более ничего не предпринимает как художник. Этого мало для придания книге многомерности, и ее вполне изысканный язык также не соответствует цели. Набоков, несомненно, восхищался Джойсом и Прустом, которые умели весьма старательно писать «ни о чем» и ради этого изобретали (особенно Джойс) изумительные стилистические приемы. Но «Лолита» - это отнюдь не книга «ни о чем». Напротив: она имеет вполне осязаемый «крамольный» сюжет, чему порукой ее скандальная слава.
Придраться, однако, можно и к стилю. Роман был написан на английском, затем переведен самим автором на русский. Претензий к качеству перевода у меня нет: все-таки, автор переводил свою собственную книгу со всей причитающейся любовью и тщанием. Но орфография некоторых слов смущает. Было ли принято во времена Набокова писать, словно бы сознательно коверкая правила, «на вскидку», «от роду», «на показ», «на чеку», «навождение», «безпристрастный»? Именно так и обстоит дело у Набокова: раздельные написания даны слитно, слитные раздельно, звонкие и глухие согласные перепутаны, чередующиеся гласные расставлены безграмотно. Возможно, таковы были правила русской орфографии в то время, но лично я в этом сомневаюсь: скорее всего, живя вдали от родины, Набоков просто позабыл их.
Далее: роман одномерен. Я уже выразил выше эту мысль и хочу сейчас к ней возвратиться. В свое время, в «Лекциях по зарубежной литературе» сам Набоков остроумно объяснял одномерность/многомерность художественных произведений с помощью придуманных им «колей» и «стрелок». Не откажу себе в удовольствии процитировать:
«Романы можно разделить на «одноколейные» и «многоколейные».
В одноколейных – только одна линия человеческой жизни.
В многоколейных – таких линий две или больше.
Одна или многие судьбы могут непрерывно присутствовать в каждой главе, или же автор может применять приём, который я называю большой или малой стрелкой.
Малая – когда главы, в которых деятельно присутствует основная жизнь или жизни, чередуются с главами, в которых второстепенные персонажи обсуждают эти центральные судьбы.
Большая – когда в многоколейном романе автор полностью переключается с рассказа об одной жизни на рассказ о другой и потом обратно. Судьбы многих персонажей могут подолгу развиваться врозь, но многоколейному роману, как литературной форме, присуще то, что раньше или позже эти многочисленные жизни начнут пересекаться.
«Госпожа Бовари», например, - это одноколейный роман почти без стрелок. «Анна Каренина» - многоколейный с большими стрелками».
Давайте применим эту теорию к самому набоковскому произведению. Если мы присмотримся к структуре «Лолиты», то увидим, что в ней присутствуют линии двух главных персонажей: рассказчика Гумберта Гумберта и его «возлюбленной» Долорес-Лолиты. Интересно, что в самых разнообразных произведениях, как в плохих, так и в хороших, рассказчик оказывается наиболее статичным из всех героев. Это объясняется чисто психическими причинами: когда повествование ведется от первого лица, автор невольно ассоциирует себя с рассказчиком, а поскольку себя самого человек воспринимает обычно в статике, а не в динамике (человеческое «я» всегда существует «здесь и сейчас»), то и в произведении развития характера рассказчика часто не происходит (если, конечно, не охватывается большой период времени, включающий взросление героя, как, например, в «Больших надеждах» Диккенса: в этом случае, развитие характера есть вынужденная необходимость).
В «Лолите» линия развития Гумберта Гумберта отсутствует и есть лишь линия развития несовершеннолетней героини. Главный герой не меняется с годами, потому что он давно сформировался как личность, и меняется одна лишь Лолита. Мать Лолиты погибает едва ли не в самом начале книги, поэтому ее можно вовсе не брать в расчет. Большинство же остальных персонажей появляются эпизодически и на «большие стрелки» не тянут.
Таким образом, в самой «Лолите» обнаруживается не более одной «малой стрелки» и всего одна «колея». Такое свойство романа я назвал выше «одномерностью». Упомянутый роман Флобера, если использовать подобную терминологию, тоже «одномерен», но зато ведь это Флобер.
Коснемся кратко моральной подоплеки романа Набокова.
Прежде всего, написан он был из-за денег. Набоков бедствовал, таланта у него было в избытке, а наличности не хватало, это никак его не устраивало, да и никого бы не устроило на его месте. Так родилась «Лолита». Ее «идея» и сюжетец не ахти какие и могли быть выдуманы и им самим, но, как считают некоторые литературоведы, особенно те, которые Набокова недолюбливают, даже эти простенькие идея и сюжет были списаны с опубликованной ранее книжонки малоизвестного итальянского автора, которую наш литератор всего лишь раздул в полноразмерный роман (справедливости ради заметим, что роман ничего не потерял при этом) и стяжал себе скандальную славу. Это все, что касается истории создания романа: маловато для "величайшего романа о любви", каким его иногда именуют пиарщики от литературы, разбрасывающиеся щедрыми эпитетами в предисловиях дорогих изданий.
Набоков, очевидно, презирал морализаторство, по крайней мере, в литературном произведении. Но мы с вами знаем, что циники – это романтики наоборот, и многие циники остаются романтиками на всю жизнь, несмотря на весь свой показной цинизм. Здесь имеет место парадокс личностного «романтизма»: отрицая мораль, циник так или иначе ограничивает свой круг восприятия жизни и не видит многих очевидных вещей, и эта сознательная близорукость по своей природе очень близка близорукости романтической.
Цинику приходится, поскольку он не может иначе реализовать свои циничные помыслы, хотя бы на страницах своих произведений избавляться от сковывающих его цепей морали, поэтому многие «аморальные» писатели, освободившись от химеры морали в своих книгах, в жизни совершенно не страшны, инфантильны и даже забавны. Энтони Бёрджесс написал однажды в предисловии к «Заводному апельсину», что «прирожденная трусость заставляет романиста наделять воображаемых персонажей грехами, которые ему лично слабó совершить». Сидни Шелдон сформулировал эту мысль по-другому: если бы на свете было меньше писателей, то было бы больше насильников, грабителей и убийц.
Вот вам примеры «аморальности». Набоков пишет в своей «Лолите» о «встречных нимфетках», к которым он, «будучи законоуважающим трусом, не смел подступиться». До странности простенькое суждение «рафинированного эстета». Неужели, помимо закона, нет еще и (бог с ней, с моралью) простой, природой данной житейской логики? Набоков ли это говорит или Гумберт Гумберт? В свете того, что я написал несколькими строками выше, это вполне очевидное «сбрасывание оков морали», которые иначе не удается сбросить. Да, господа присяжные, вы прекрасно меня поняли: я считаю, что это слова не Гумберта, но самого Набокова.
Здесь вообще аморальность весьма тонко просчитана, как мог только сделать умный «аморальный» негодяй (постараюсь не переходить на личности): люди с естественными наклонностями, не имеющие пристрастия к педофилии, объявляются «законоуважающими трусами»; главный герой имеет нервический ранимый склад характера и по этой причине противопоставляется «брутальным мерзавцам», поскольку не смеет овладеть Лолитой или вообще любой нимфеткой насильно, по крайней мере, на первых порах. Надо это понимать таким образом, что личности, не относящиеся к педофилам, все сплошь брутальные мерзавцы, и из всех людей на свете, равно плохих и хороших, Гумберт Гумберт заслуживает наибольшего сочувствия. Это низкий, коварный прием, это удар ниже пояса. Герой романа, несомненно, заслуживает сочувствия, но сочувствия исключительно врачебного.
Часто говорят об иронии и пародийном характере «Лолиты». Пусть меня черт возьмет, но я не вижу в книге никакой иронии, по крайней мере, пародийной. Те сентенции автора, которые приводились мною выше, пусть даже мне одному на всем белом свете, но все же видятся совершенно серьезными, мало того – прямо-таки выстраданными. Ей-богу: так может говорить только самый настоящий охотник за детьми. И автор его почти оправдывает. То есть, он высказывается от его лица. А когда автор ведет повествование от первого лица, возникающая "интимизация" процесса чтения и сопереживания позволяет читателю симпатизировать герою больше, чем при любом другом типе повествования (вспомним слова Кроша, героя Анатолия Рыбакова о том, что такое «писать от первого лица»: «не «он пошел», а «я пошел», не «ему надавали по шее», а «мне надавали по шее»).
Как видите, господа присяжные, собственно писательского слога я почти не касаюсь. Здесь мое мнение совпадает с общепринятым: Набоков превосходный стилист, и критиковать его слог суть дело неблагодарное. Сам автор «Лолиты» считал, что литература – это пища для ума и чувств в том смысле, что хорошего читателя прежде всего должны увлекать эстетика произведения и его художественные качества, а не собственно содержание, поскольку в беллетристике все равно все выдумка, не отвечающая правде жизни. С одной стороны, «Лолита» как будто написана по набоковским лекалам. В ней главное не тема, а стиль, а тема лишь служит предлогом для бесконечных изощренных стилистических упражнений, должных порадовать «хорошего читателя». Но с другой стороны, как мы уже говорили, написана она была в корыстных целях, поэтому мы в действительности имеем дело со случаем, когда Набоков поступился своими собственными эстетическими принципами.
Вот этот факт, господа присяжные заседатели, и есть то самое «но», которое вызывает мою очевидную неприязнь. Это сознательное ренегатство делает не совсем честными попытки автора объявить содержание книги второстепенным, а ее эстетические достоинства первостепенными. Быть может, с «Лолитой» дело обстоит именно так. Быть может, «Лолита» вовсе не крамола, а действительно роман о любви, пусть и не величайший. Быть может, ее художественное значение первостепенно, а скандальная тема второстепенна. Но прославилась она не поэтому.
Каждый раз, когда развращенный любитель клубнички путешествует по Интернету и натыкается там на Лолит, мы знаем, кого за это благодарить. Каждый раз, когда тема педофилии всплывает в произведениях искусства (далеко не все из которых являются искусством), мы знаем, кто стоит у ее истоков. Не будь Набокова, был бы кто-нибудь другой, возразите мне вы. Не будь Набоковской Лолиты, была бы Роза, или Жанна, или Натали. Что ж, может быть, и так. Никто на свете, кроме господа бога, не знает, что было бы, если бы обстоятельства сложились иным образом. Однако, обстоятельствам было угодно сложиться именно так. И волею судьбы за спиной каждой Лолиты на свете стоит писатель Набоков.
________
«Шагреневая кожа» Бальзака – пример потрясающей, шокирующей гениальности. Повесть длинна – это правда. «Недержание мысли», как говорил про Бальзака пошлый герой Анатолия Рыбакова – что ж, при желании эту сентенцию можно назвать диагнозом. Мысль его действительно неудержима и покрывает своим нешуточным размахом все, что находится в поле ее досягаемости. Хармс писал про Жана-Жака Руссо: откуда тот все знал, и как детей пеленать, и как девиц замуж отдавать! Бальзак наверняка вызывал в Хармсе еще бóльшую досаду: его мысль не останавливается вообще ни перед чем, будь то наука, искусство или женщины, она проникает всё и вся. Но КАКАЯ это мысль! Какая сила убеждения! Какое потрясающее ощущение высшей правоты! Ради этого безумного ощущения мертвящей власти денег над человеком, о которой, казалось бы, и сказать давно уже нечего, ради этих неопровержимых доводов, приводящих в бешенство, ради неуничтожимой шагреневой кожи стоит снова и снова погружаться с головой в избитую истину, чтобы увидеть ее в совершенно новой инкарнации. Я не оговорился; для тех, кто не читал Бальзака, а только лишь о нем слышал, сильнейшее воздействие его мысли будет совершенно в новинку. Его прекрасная Полина, конечно, никогда не жила и не будет жить на свете: эта совершенная в своей красоте и добродетели женщина не менее фантастична, чем прозрения социалистов-утопистов. Она далеко не так впечатляет, как стендалевская Матильда де ла Моль. Сама повесть временами растянута, временами слишком коротка. Недостатки Бальзака можно перечислять еще долго. Но прочитайте эту повесть, и вы поймете, что ей совершенно не нужен ни психологизм Стендаля, ни натурализм Флобера, ни романтизм Мериме. Она – высочайшая вещь в себе, моральный абсолют. Читая жизнеутверждающую классику, посвященную любви, радости и красоте, мы понимаем, что жизнь прекрасна, и что стоит просто жить, очистившись от пошлости и скверны; что стоит, наконец, забросить самую эту классику и броситься в пучину любви и наслаждений, сообразно с тем, как эти вещи понимает каждый; ведь жизнь проходит и нужно торопиться. Но, читая Бальзака, мы понимаем еще больше: что удовольствия тщетны, и это правда; что классику читать все-таки стоит; что искусство способно возвысить человека до умопомрачительных высот; что главное – это моральный стержень в человеке. Никто и никогда не сумел и не сумеет рассказать об этом лучше него. Не смогу и я!
Об Уиткине и не только
Посмотрел черно-белые фотографии Джоэла-Питера Уиткина. Для этого я не стал ходить на выставку или покупать дорогущие каталоги, а просто залез в гугль: в случае необходимости Интернет – это наше все. Удивительно, что даже на слово «Уиткин», введенное в поиск на русском языке, гугль выдал достаточно большое количество его фотографий, способных с избытком наполнить слабонервных шокирующими впечатлениями. Несомненно, столь грандиозные по меркам нашего бедного рунета результаты объясняются фактом выставки, а ТАКИЕ фотографии не стоит упускать случая показать любопытствующим.
Скажу сразу: не слышал раньше об Уиткине, а если и слышал, то не помню, когда и где. Меня лично это скорее радует, чем огорчает, так как позволяет надеяться, что многие другие образованные любители живописи, кино и отчасти фотографии тоже никогда о нем не слышали. Я надеюсь на это потому, что, по моему мнению, без Уиткина совершенно спокойно можно обойтись даже образованному человеку.
Как рассказывают, фотограф Уиткин, будучи еще ребенком, однажды стал свидетелем того, как маленькой девочке оторвало голову во время автокатастрофы, и эта самая голова выкатилась ему прямо под ноги, и он хотел ее потрогать, но родители не дали ему этого сделать, поскорее уведя его с места аварии.
Этот прискорбный факт приводится поклонниками и комментаторами Уиткина либо с целью сообщить определенную информацию, либо вообще без всякой видимой цели. Если верно первое, то возникает вопрос: почему пресс-релизы из всей биографии Уиткина, несомненно, богатой и другими событиями, приводят один-единственный факт? На этот вопрос возможны два ответа: или остальная биография Уиткина менее интересна, или же приводимый факт имеет большее значение для правильного понимания творчества художника, нежели вся остальная биография. Тогда выходит, что Уиткин начал фотографировать трупы и людей с физическими уродствами потому, что увидел в детстве отрубленную человеческую голову, и это неоднозначно отразилось на его неокрепшей психике. Авторы пресс-релизов не подозревают, что легендой про голову выносят врачебный приговор художнику, которого в противном случае еще худо-бедно могли бы посчитать вменяемым индивидом и творцом общечеловеческого значения, однако после такого рассказа воспринимать его «нормальным» человеком, скорее всего, неверно. По всей видимости, он не нормальный человек в том смысле, в каком этот термин понимают психиатры.
Отсюда увлечение темами смерти, давно и порядочно приевшимися значительной части нашего культурного общества в целом и мне в частности, и вообще всем тем, кто хочет быть «в теме» и поэтому буквально через раз в своих благородных поисках вынужден натыкаться на очередной кровавый фильм, очередной шокирующий спектакль, очередные патологические фотографии. Ничего не поделаешь – приходится привыкать.
Это – безотрадный факт современной культурной жизни, который совершенно очевиден для всех тех, кто неравнодушен к культуре, и постепенно, наконец, начинает осознаваться даже теми, кто к ней равнодушен. Объясняется все просто: любое искусство по мере своего развития постепенно становится все более натуралистичным. Этот процесс столь же необратимый, как и повышение цен: экономическая наука гласит, что цены на все товары в долгосрочной перспективе всегда повышаются, независимо от политического строя и общественных отношений, и это правило не знает исключений. В отдельных случаях можно попытаться объяснить возрастающую натуралистичность искусства особенностями того или иного национального характера или какими-нибудь историческими потрясениями, или, наоборот, полным отсутствием таковых, но приведенная выше аксиома в целом верна вне зависимости от каких бы то ни было характеров или потрясений. Творчество Уиткина, по крайней мере, кажется ничуть не затронутым ни национальным характером, ни историческими потрясениями: его произведения «академичны» по манере исполнения, лишены национальных особенностей и потому могли быть созданы кем угодно и где угодно, разумеется, при наличии у их автора некоторого таланта. Фотографии Уиткина отражают исключительно его личные потрясения, но выражается это в не художественной манере, которая суха и безжизненна, а в выборе темы. Иначе говоря, они представляют собой констатацию факта. Только хронической и неизлечимой погруженностью в унылые видения отрезанной детской головы и можно объяснить завидное постоянство, с которым Уиткин обращается к макабрической тематике. У Эдгара По, Гофмана и Достоевского тоже не все было в порядке с головой, однако эти мрачные художники создавали иногда замечательные юмористические произведения. Диапазон Уиткина значительно более скромен.
Тема для размышлений: причина «некротизации» современной культуры заключается еще и в том, что творцы-дебютанты зачастую не умеют воспринимать свое творчество со стороны. Их собственные работы кажутся им оригинальными и самобытными, отличными от прочей шоковой терапии. Но когда эти работы появляются на свет, со стороны становится хорошо заметно, что они по своей сути ничем от нее не отличаются. Субъективно желая выразить что-то новое и как следует встряхнуть потребителя, чтобы завоевать скандальную известность, дебютанты не понимают, что если главной своей целью художник ставит провокационность, то он рискует столкнуться с досадой и раздражением этого самого потребителя, уже успевшего употребить килограммы, если не тонны подобного продукта.
Стоит отметить еще один любопытный современный «культурный» феномен, который состоит в постепенном изменении психики и кругозора реципиентов, то есть, потребителей культуры. Многие реципиенты, особенно те, кто помоложе, вообще знать не знают, что существует классическое наследие, которое отличается от мейнстрима, но при этом не отличается явной патологией. То есть, огромный и наиболее важный пласт человеческой культуры оказывается на периферии современного сознания. «Продвинутая» молодежь смотрит кровавые фильмы Такаши Миике и не подозревает о существовании Бергмана. «Продвинутая» молодежь читает угрюмого, сексуального озабоченного Уэльбека и понятия не имеет о существовании Акутагавы. Это опять-таки легко объяснимо: «радикальное» искусство легче продвинуть, чем искусство просто хорошее, но не «радикальное» в современном понимании. Яркое свидетельство тому – закрытие Музея кино, показывавшего старые классические фильмы, в то время как фестивали трэша живут и процветают. Однако, гораздо труднее поддается объяснению тот факт, что многие «прогрессивные» критики считают, что наше общество до сих пор недостаточно поглощено темой неизбежной смерти и что по какой-то таинственной причине надо делать так, чтобы оно было поглощено ею постоянно. Например, с помощью выставок Джоэла Уиткина и Андреса Серрано. Но вот почему именно нужно не забывать о смерти, понять не так-то просто.
В газете «Коммерсантъ», в статье, посвященной выставке Уиткина, читаем такой софизм:
«Убежденный католик, Джоэл Питер Уиткин говорит о смерти, так как он верит в бессмертие (?). Именно поэтому (?) считает себя вправе предъявлять тот самый труп, от которого так хотело бы избавиться современное сознание, «вытеснившее» смерть как нечто неудобоваримое и едва ли не непристойное».
Это забавное утверждение было бы смешным, когда бы, выражаясь словами Лермонтова, не было таким грустным. Само собой, читатель должен понимать, что это всего лишь реклама, и потому она полна тайных смысловых ловушек, или, попросту говоря, завлекательно лжива. Лично мне было в диковинку узнать, что общество, оказывается, «вытеснило» смерть из своего сознания. Крайне любопытно было бы узнать, как ему удалось это сделать, когда весомую часть эфира занимают криминальные боевики, бандитские сериалы на любой вкус, дорожные патрули, кровавые документалки о разборках и репортажи о чеченских боевиках и терактах с большим количеством человеческих жертв, происходящих с подозрительной регулярностью. Очевидно, автор статьи в "Коммерсанте" либо где-то что-то напутал, либо использовал непроверенную информацию. Другое дело, конечно, видеть смерть столь неприкрашенную и жуткую, как у Уиткина, да еще и обрамленную в талантливую высокохудожественную обертку, что делает ее воздействие стократ сильнее, нежели боевики, идущие по ТВ в прайм-тайм.
Так или иначе, общество не может «вытеснить» смерть, потому что оно просто не в состоянии это сделать – именно потому, что страх смерти глубоко запрятан в подсознании его членов. Любой психиатр знает, что человек весьма часто думает о смерти. Многие бедняги вообще постоянно о ней думают, и в качестве примера мы можем привести американского фотографа Джоэла-Питера Уиткина. Поэтому напоминать о смерти снова и снова, да еще таким жестоким образом, как это делает Уиткин, просто излишне. Людей ведь шокируют шокирующие фотографии именно потому, что они высвобождают их подсознательные страхи. А о подсознательных страхах человеку нет смысла напоминать: они сами напоминают о себе при каждом удобном случае. Для человека самым что ни на есть распрекрасным выходом из ситуации было бы напрочь забыть о смерти: зачем о ней думать лишний раз, если она все равно рано или поздно наступит? Общество не пытается «вытеснить» смерть, напротив, оно навязывает ее нам через ТВ и прочие средства массовой информации, активизируя наши подсознательные страхи; а отдельно взятый индивид действительно пытается ее «вытеснить» из своего подсознания, но тут на него как снег на голову обрушивается Уиткин, и все усилия несчастного индивида идут прахом. Над этим стоит задуматься.
Если не считать вполне естественного врожденного страха смерти, присущего большинству человеческих существ, то «вытеснение» индивидом из своего подсознания мыслей о смерти, по моему мнению, можно объяснить защитной реакцией организма на большое количество этой смерти на экранах и в печати. Когда зрелищ смерти слишком много, неважно, в каком виде и под каким соусом они подаются, индивид пытается от них как-то абстрагироваться и имеет на это полное право. Индивид обращается к искусству, думая, что, может быть, в нем он найдет какую-то психологическую защиту. Все-таки, высокое искусство и суровая жизнь – это две разные вещи, которые не являются зеркальным отражением друг друга. Индивид в душе надеется, что искусство может его как-то отвлечь и утешить. Интересно, что это мнение неквалифицированного и в целом далекого от искусства индивида оказывается интуитивно верным: «отвлечение» и «утешение» действительно являются важными атрибутами настоящего искусства. Но только не современного.
Почитав газеты и проштудировав разнообразные источники культурной информации, я сделал любопытное наблюдение: вместо того, чтобы дать откровенное и честное объяснение эпатажной составляющей творчества художников, рецензенты используют абсурдный прием, который почти безотказно действует на «думающее», но все же глупое (потому что оно на это покупается) поколение: они объявляют, что художник эпатирует публику потому, что он на самом деле добрый и пушистый. Этот интересный стилистический прием стал модным веянием среди критиков, и применяется по отношению к любому скандальному художнику, будь тот литератором, живописцем, фотографом или режиссером. Например, в точности то же самое, что и об Уиткине, пишут о фотографе Андресе Серрано: он, оказывается, глубоко верующий человек. Мишель Уэльбек неожиданным образом оказывается очень ранимым и тонким человеком. Ким Ки Дук – очень добрым и приятным в общении человеком. Рю Мураками – весьма стеснительным и застенчивым человеком, и т.д., и т.п. А режиссер Начо Серда, снявший картину Aftermath, посвященную некрофилии, тоже, оказывается, католик – совпадение? Любопытно, что католики (Уиткин, Серрано и Серда) так живо интересуются трупами и всем, что с ними связано.
Раскрою вам тайну: доля правды в части таких утверждений есть, но она очень небольшая и все равно в ней больше не правды, а журналистских уловок. Так писать принято для того, чтобы реципиент задумался над этим необыкновенным парадоксом творчества и отнесся к скандальному художнику более серьезно, чем ему хотелось бы, и чем, может быть, этот художник заслуживает. То есть, читатель начинает искать свои собственные трактовки и приходит иногда к неожиданным выводам, которые возвышают творчество эпатажного художника в его глазах, а на самом деле суть не что иное, как самовнушение и гипноз. "Думающему" реципиенту не приходит в голову, что его обманули элементарно простым софизмом, хитро заманивающим его туда, куда он иначе не пошел бы, и правильно бы сделал.
Это все равно, как если насильник в ответ на вопрос, почему он насиловал своих жертв, взял бы и брякнул: я насиловал их только потому, что очень любил. Или нацбол сказал бы: я материл президента на публике, потому что в действительности я его глубоко уважаю. Или богач сказал бы: у меня так много денег, потому что я их презираю. Я могу придумать с ходу еще десятка три таких глупостей, а дураки будут думать, что в них есть скрытый сокровенный смысл. В них нет ничего, кроме обыкновенного очковтирательства и жалких оправданий, поверьте мне. Глупцы довольствуются тем, что ищут смысл во всяком слове, говорил гетевский Мефистофель. На самом же деле большинство эпатажных художников занимается эпатажем ради денег и ради самого эпатажа, исповедуя принцип Портоса «я дерусь просто потому, что дерусь». Но если незабвенный Портос честно выражал свои принципы, не стыдясь их и плюя на общественное мнение, многие современные художники, несмотря на свою эпатажность, внимательно прислушиваются к этому мнению, потому что им нужны деньги. Эта максима столь же избита, сколь и истинна.
Конечно, никакому художнику, в том числе, и Уиткину, нельзя запретить заниматься фотографией, тем более, что фотограф он весьма талантливый и зарабатывает на своем искусстве заслуженные деньги. Однако же преувеличивать его значение – значит заниматься либо откровенной глупостью, либо обыкновенной рекламой, только скрытой.
Кроме того, Уиткин не совсем эпатажник. Он просто больной человек, у которого не получается снимать иначе, как трупы в жутких позах и живых мутантов, поскольку его неудержимо влечет к теме смерти и уродства. Большой талант его испорчен травмированной психикой, и можно только догадываться, каких высот достиг бы он, если бы не отрезанная детская голова…
Когда мы читаем о смерти у того же Шекспира или Достоевского, мы испытываем не чувство отвращения или шока, а возвышенную печаль, порождаемую только истинным искусством; когда же мы видим все то же самое в искусстве современном, эффект часто бывает противоположным, то есть, отвращение или шок. Такую реакцию мы испытываем потому, что только истинное искусство способно возвысить человеческие эмоции до уровня отстраненных переживаний, как ни странно, благотворно воздействующих на психику. Об этом писал Джойс в «Портрете художника в юности». «…трагическая эмоция статична, – говорит герой Джойса Стивен Дедал. – Вернее, драматическая эмоция. Чувства, возбуждаемые неподлинным искусством, кинетичны: это влечение и отвращение. Влечение побуждает нас приблизиться, овладеть. Отвращение побуждает покинуть, отвергнуть. Искусства, вызывающие эти чувства, – порнография и дидактика – неподлинные искусства. Таким образом, эстетическое чувство статично. Мысль останавливается и парит над влечением и отвращением».
Но перед произведениями Уиткина мысль не парит. Уиткин низвергает мысль обратно в страх, в примитивный шок, в темные глубины подсознательного. Нормальный неглупый человек, то есть, человек, специально не интересующийся трупами и их фотографированием, и в общем и целом далекий от искусства, обязательно почувствует отвращение, глядя на его произведения. Такой же нормальный человек, но с утонченным восприятием эстетического, тоже почувствует отвращение, но при этом оценит талант художника и его мастерство выстраивать композицию, почти не уступающее выдающимся мастерам прошлого. Человек с утонченным восприятием эстетического, но ненормальный, интересующийся макабрическими темами и с мертвой душой, не почувствует отвращения, а испытает лишь безумный и бездумный восторг. Наконец, нормальный человек, но тугодум и ни черта не смыслящий в искусстве, скажет: круто, блин!
Интересно было бы мысленно представить себе Уиткина в процессе работы. Вот седовласый степенный господин выпрашивает в каком-нибудь морге труп, жадно глядя на него горящим взором художника. Вот он готовит труп к фотосессии, что наверняка требует проведения над ним каких-нибудь манипуляций; выстраивает вокруг него сюрреалистическую зловещую бутафорию; повторяет эти процедуры снова и снова, добиваясь максимального эффекта... Жутковато. Ведь на месте этого трупа мог бы быть кто-нибудь из вас, господа. Какой-нибудь утонченный любитель фотографии мог бы разглядывать вашу отрубленную голову, насаженную на что-нибудь этакое, и глубокомысленно бормотать при этом: да, интересно… весьма оригинально… очень забавный ракурс… пожалуй, есть в этом что-то… кого-то мне эта башка напоминает, что ли… какого-то знакомого… ну, да неважно… важно, что это Искусство с большой буквы, а оно, как известно, требует жертв.
Уиткин – мастер композиции. У него превосходное чувство пластики, он безупречно выстраивает пространство своих фотографий, будь то минимальные камерные этюды или сложные многофигурные построения, в которых, несомненно, угадывается знание классической живописи и скульптуры. Иногда он прямо заимствует сюжеты из произведений старых мастеров, такие как «художник в своей мастерской», «распятие», композиции голландских натюрмортов и т.д. Однако это лишь внешняя сторона произведения искусства, а именно форма, которая не имеет большого значения до тех пор, пока не соединится в чудесной пропорции с содержанием, чтобы представить взору нечто принципиально новое, то есть, «третье измерение» искусства, которое именно и заставляет нас восхищаться, сострадать и сопереживать. Это «третье измерение» является качеством, выделяющим мастера из круга внешне ему подобных и соединяющим в неразрывное целое персональный художественный стиль и глубину замысла. Например, картины Рембрандта покоряют нас потому, что для передачи тонких душевных состояний в них используется весьма уместная техника – искусство светотени и (особенно в поздний, самый выразительный и печальный период художника) нарочито грубое наложение густой, насыщенной краски, которая словно бы приняла в себя его собственную душу. Рембрандтовский стиль соединился с рембрандтовскими эмоциями, породив пластическое «третье измерение», которое призвано наполнять нас искренней печалью и состраданием к людям, или хотя бы любовью и благодарностью к самому художнику.
Кроме того, есть и искусство, в котором на первом месте не глубина содержания (ее там может вообще не быть), а формальная завершенность и качество исполнения, но которое, тем не менее, занимает достойное место в павильоне общечеловеческих ценностей как пример формы, доведенной до абсолюта и перешедшей поэтому в вещь, ценную саму по себе. Вспомним голландского живописца Яна Вермера Делфтского: его картины ценятся исключительно за утонченное построение композиции и изощренную манеру исполнения, которая столь совершенна, что даже голландские современники Вермера, которые, как известно, своей живописной техникой превосходили вообще любую классическую школу, уступали ему в техническом мастерстве. Как видим, чтобы снискать славу одними только формальными достижениями, не заботясь о понятности их содержания и скрытом смысле, нужно быть Вермером.
Но Уиткин не Рембрандт и не Вермер. Рембрандтовская эмоциональность у него отсутствует, а чувство стиля и качество исполнения, хотя и похвальные, не выдерживают сравнения с Вермером. А все на свете, как известно, познается в сравнении. Никакой любви и благодарности в случае с Уиткиным «нормальный» зритель, как правило, не испытывает. Глядя на фотографии художника, можно выделить только два элемента: одиозный замысел и кропотливое исполнение. Больше ничего нет: ни протеста против смерти, ни жалости к умершей модели, ни желания доискаться причин, ни, наконец, символики, имеющей под собой какую-нибудь основу. Труп становится циничной бутафорией, неодушевленной вещью. При этом, правда, нельзя сказать, что Уиткин совсем уж равнодушен к модели: напротив, он еще более уродует ее, изменяя ее внешность или помещая в соответствующую обстановку, оттеняющую ее уродство. Например, безрукой и безногой женщине он «накладывает» на глаза и рот какие-то жуткие черные провалы, чтобы она была похожа не на женщину, пусть даже уродливую, а черт знает на кого. Понятно: он ведь делает это, потому что убежденный католик, и если вы не видите здесь никакой связи, то, значит, вы ничего не смыслите в искусстве: читайте газету «Коммерсантъ». Таковы «эмоции» самого Уиткина. Эмоции же, порождаемые его произведениями в зрителях, ограничиваются примитивным шоком или восхищением композиционными достоинствами, реже тем и другим вместе. Можно сказать даже, что композиционное мастерство направлено именно на усиление впечатления от смерти. Смерть выпячена столь характерно, что впечатление от нее как от одного из элементов произведения, сильнее, нежели впечатление от всего произведения в целом (многие ошибаются, принимая первый шок от Смерти или Уродства как элементов произведений Уиткина за эстетическое впечатление от произведений в целом). Смерть выходит на передний план, разрушая целостность восприятия. В истинно выдающемся произведении наличествует гармоничное сочетание всех компонентов. У Уиткина же Смерть поражает более остальных компонентов – возможно, так и было им задумано, но если это действительно так, то это плохой замысел. Художественная гармония в его фотографиях тем самым нарушена. Самая суть его персоны остается весьма печальной: это художник, зацикленный на теме Смерти и преданный ей столь самозабвенно, что его творчество являет собой пример поразительного однообразия и крайней поверхностности. Какая-либо глубина замысла и даже пространства в его произведениях отсутствует: они все, образно говоря, «плоские» по восприятию. В них есть только то, что мы видим. Картинами старых мастеров можно любоваться годами. Фотографии Уиткина интересны лишь до тех пор, пока не пройдет первый шок. Когда он проходит, они перестают впечатлять. Кроме того, сама композиция хороша, но изображенные объекты слишком, чересчур, подчеркнуто физиологичны. Не стоит говорить в этой связи о каком-то новом понимании искусства или расширении его границ: любое значительное «новое» искусство незаметно опирается на классические принципы, что и делает его собственно искусством. Принципы классической эстетики невозможно полностью отвергнуть, как невозможно опровергнуть Библию: с ними можно только спорить. Фотографии же Уиткина, на первый взгляд опираясь на классические принципы «золотого сечения», в действительности разрушают саму возвышенную суть этих принципов, делая это сложным технически, но примитивным по замыслу способом: живые персонажи заменяются трупами или уродами. Это добавляет произведениям Уиткина определенного внешнего эффекта, но отнюдь не глубины содержания. Поэтому Уиткин лишь занимает свою скромную нишу, как и любой, пусть даже талантливый, художник, зацикленный на одной-единственной идее, что лишает его общечеловеческого значения.
К сожалению, любое искусство имеет право на существование, в том числе, и искусство Уиткина, радуя людей со странными психическими наклонностями. Оно, выражаясь циничным современным языком, по-своему «прикольно». В этом смысле, почему бы ему не быть. В этом, собственно, и заключается его значение: оно чисто функциональное и призвано зрелищно разнообразить классические тенденции, только лишь с той целью, чтобы каждый индивид мог найти в обширных закромах культуры то, что в наибольшей степени отвечает его вкусу и пристрастиям. Для таких любителей скажу, что приблизительно то же самое, что и Уиткин, делает уже упоминавшийся Андрес Серрано, но он значительно менее талантливый и более коммерческий художник (хотя и более разнообразный по тематике).
Поразмышляв над произведениями Уиткина, я сделал такой вывод: Смерть – это всего лишь Смерть, и только. А мы с вами существуем в Жизни. Смерть занимает в жизни человека всего лишь одно мгновение. Соответственно, внимание, уделяемое ей, тоже должно занимать отведенное ему «мгновение». Бывает, конечно, так, что смерть занимает в жизни человека больше места, чем того хотелось бы – скажем, в минуты скорби о смерти близких; но разве Уиткин сможет в этом случае облегчить его страдания? Скорее, наоборот.
Хочу-таки сделать напоследок комплимент художнику: его фотографии, ни более, ни менее, сподвигли меня на написание этой статьи. В умении провоцировать Уиткину не откажешь. Однако, как мы уже знаем, это умение для него – невеселый удел нарушенной психики плюс обычная кропотливая работа. Провокация получается у него не потому, что он провоцирует сознательно, а как бы сама собой: его мировосприятие, по-видимому, изменено до такой степени, что это трудно себе представить. Уиткин есть таков, каков он есть: странный фотохудожник, смотрящий на мир совершенно другими глазами.
Примеры фотографий Уиткина:
Человеческая голова на блюде (хочется спросить – и что?).
Прекрасная обнаженная (живая, между прочим) женщина с половым членом между ног (совершенно то же самое встречается в произведениях Андреса Серрано. Также нечто подобное можно увидеть в порнофильмах. В последних гермафродиты менее симпатичны внешне, но используются с вполне определенной целью: сексуально возбуждать извращенцев или тех, у кого, извините, по-другому не стоит. Какие цели преследовали Уиткин и Серрано? Было бы забавно, если бы оказалось, что разные: результат-то совсем даже одинаковый).
Жуткие уродцы обоего пола – без рук, без ног, безобразно толстые, с тремя грудями и прочими атрибутами, которые часто принимаются почему-то за художественные находки, а на самом деле суть обыкновенные физические уродства.
Отрубленные стариковские головы, слившиеся в поцелуе (уж здесь, господа, говорите, что хотите, но это эпатаж чистой воды. Самое интересное: если приглядеться, то можно с ужасом обнаружить, что голов на самом деле не две, а одна, просто разрубленная пополам. Почему она разрублена пополам? Потому что это эпатаж чистой воды).
Человеческая голова, прикрепленная к собачьему телу (зачем? – см. выше).
Человек на настоящих шарнирах (по всей видимости, мертвый).
И т.д.
Как видно из описаний, Уиткин фотографирует не только трупы. Живые персонажи на его фотографиях – это, в основном, страшненькие мутанты, потому что будь они обыкновенными людьми, они бы сильно проигрывали трупам по своему воздействию.
Все фотографии прекрасно стилизованы, многие раскрашены от руки таким образом, чтобы нельзя было разобрать, где фотография, а где рисунок. Сочетание реальных персонажей со странными фантасмагорическими рисованными существами интересно. Рецензенты пишут, что иногда рисунки на фотографиях Уиткина невозможно отличить от реальных фотографических образов. Это неправда: их очень легко можно отличить друг от друга, потому что рисунки подчеркнуто фантастичны. Тем не менее, они весьма впечатляюще вписаны в общую композицию. Произведения Уиткина похожи одновременно на картины мастеров Возрождения и на творения сюрреалистов первой трети двадцатого века, которые также занимались фотографией.
В заключение хочу высказать одну «оригинальную» мысль, которая должна быть по достоинству оценена в наш век «нонконформизма»: если вы способны найти фотографии в Интернете или выпросить альбом у знакомых, то на фотографические выставки ходить не стоит (стоит, только если вы преданный поклонник или просто желаете убить время). Фотографии – это не картины, которые по возможности нужно смотреть в подлиннике, чтобы оценить цвет, свет и колорит, правильное восприятие которых может иметь критическое значение (как, например, на картинах Вермера). Фотографиями совершенно спокойно можно полюбоваться в фотоальбоме и даже в Интернете, если у вас есть хороший качественный монитор с большим экраном. Поверьте, что они нисколько от этого не потеряют. Тем более, фотографии Уиткина, у которых никакой новый цвет или колорит не изменит их одномерной сущности.
«Возвращение» Звягинцева
Идя на этот фильм, я уже знал, что он победил на Венецианском фестивале и, следовательно, его стоило посмотреть. Посмотрел.
Первая половина немного медитативная, и в ней ничего особенного не происходит, кроме «разборки» с хулиганами, которая заканчивается несколько неопределенно – не совсем так, как хотелось бы. После этого опытные киноманы начинают подозревать фильм в бесконфликтности, но, как потом оказывается, зря. Вообще, фильм надо смотреть, не зная развязки – в данном случае это особенно важно.
«Возвращение» – один из тех фильмов, которые сняты на грани искусственности и художественности. Тонко чувствующий пластику кино зритель эту грань уловит: в какие-то моменты фильм едва заметно фальшивит, но каждый эпизод все же заканчивается «правильно», в том смысле, что проглянувшая было некоторая натянутость и неестественность деталей сглаживается вполне логичным, органичным завершением эпизода в целом. Общее впечатление остается – все-таки художественность. Во второй же половине неожиданное развитие событий заставляет зрителя сопереживать, в том числе, и вышеупомянутых эстетов, и тогда способность к рассудочному созерцанию эстетических достоинств фильма на время теряется. Фильм, таким образом, выигрывает, завоевывая на свою сторону и тех, и других.
Картина, несомненно, представляет собой законченное эстетическое целое. В ней действуют настоящие, живые люди, которые одновременно являются и типажами, такими символическими фигурами (особенно отец). Визуально «Возвращение» напоминает фильмы Тарковского, но действие все же динамичнее: больше шума, больше движения. Соответственно, меньше глубины. С технической точки зрения в дебюте Звягинцева не прослеживается любительских черт, что часто бывает характерно для полнометражных дебютов многих других режиссеров, в том числе будущих знаменитостей (достаточно вспомнить, например, неуклюжий дебютный опус Фассбиндера «Любовь холоднее смерти»). Камера движется красиво и плавно, пейзажи захватывают своей чувственностью, и по моему мнению, их грандиозная красота показана не взглядом фотографа, снимающего приятную картинку для журнала о природе, а взглядом действующих лиц, искренне любопытствующих и восхищающихся ею: взглядом человека, сидящего в сумерках у костра и глядящего на розовый речной закат. Все ракурсы подобраны очень удачно, что должно весьма радовать зрителя, любящего всякие эстетские штучки: темные силуэты на фоне неба, скудные интерьеры а-ля «Сталкер», оригинальные углы съемки – не хуже того же Тарковского. Все очень четко и хорошо видно, и это идет фильму на пользу, не в последнюю очередь потому, что большая часть действия происходит на природе, и избрание другой кинематографической манеры было бы ошибкой: природа играет в фильме огромную роль. Вообще, фильм словно бы и делался с расчетом на фестивальную победу. Все в нем очень скрупулезно просчитано: и содержание, и художественная манера, и возможное воздействие на зрителя. Но в этом нет ничего плохого, если режиссер добавляет в фильм хотя бы частичку себя самого. В «Возвращении» же, несомненно, есть частичка Звягинцева.
Звягинцев, как уже было сказано, – режиссер-дебютант. В каждом дебютном фильме есть свои минусы. Рассмотрим один из них – может быть, единственный. Он заключается в том, что режиссеру в силу его молодости, возможно, недостает жизненного опыта. То есть, его художественный интеллект и талант обгоняют его жизненный опыт. Главная мысль в фильме выражена исключительно образно (правда, она неоднократно высказывалась и раньше): о катастрофическом разрыве между прошлым и нынешним/будущим поколениями, о неспособности современных молодых собственными силами правильно построить свою жизнь . Однако недостаток как раз жизненного опыта, вероятно, заставил режиссера упростить структуру фильма, ограничить ее диапазоном своего собственного понимания конфликта. Отсюда минимализм картины, из которого, в свою очередь, истекает и ее символизм: когда в фильме всего три основных героя, без символизма не обойтись, он будет «вылезать» там, где, может быть, режиссер и не задумывал, зритель сам будет его искать, иначе фабула будет казаться ему слишком простой. Но есть и намеренно символические кадры: лежащий на кровати отец изображает «Мертвого Христа» Мантеньи, что может намекать на его возможную будущую гибель, и не просто гибель, а гибель за людские грехи. Отец передает старшему сыну свои часы, которые остаются у того на руке и показаны дважды как бы случайно. Сама цель поездки на остров неясна; более того, режиссер целенаправленно показывает тайные манипуляции отца с неким предметом, полученным из рук неизвестных, но не дает им никакого объяснения. Среди финальных кадров, изображающих черно-белые фотографии, снятые во время путешествия, нет ни одной фотографии отца: только улыбающиеся, счастливые лица детей. И даже упрямый младший сын, которому зритель симпатизирует и верит, что все его ребяческие выпады искренни, на самом деле лжет, когда кричит, что прыгнет с вышки и разобьется, если отец не перестанет его тиранить: он бы в любом случае струсил, как струсил в начале фильма, побоявшись прыгнуть с вышки в воду. Фильм не случайно начинается с этого, тоже символического, эпизода.
В целом «Возвращение» можно представить как некую библейскую историю о вере, послушании, возмужании и многих других вещах. Люди здесь живые и настоящие, потому что актеры хорошо играют, и одновременно символы, потому что так было изначально задумано, хотя многие символы в фильме, повторяю, не несут смысловой нагрузки и видятся зрителю по причине аскетичности картины.
Как бы то ни было, как дебют картина исключительна. Осознание зрителем того, что она победила в Венеции и логичный настрой увидеть шедевр, возможно, могут несколько умалить ее воздействие. Такая история случилась у меня в свое время с «Гражданином Кейном». Поэтому настраивайтесь просто на хороший фильм. И тогда, может быть, вы поймете его так, как хотел режиссер.
Замечательный, чудесный «Сон в летнюю ночь»! Если читать одну-единственную комедию Шекспира, то именно эту. Она самая волшебная; она самая сказочная; она самая прихотливая; она вся о велениях сердца. Она же и самая смешная из всех: воистину это комедия любым его комедиям. Чего стоит одна лишь сцена перебранки между четырьмя любовниками! Но и эта сцена здесь не лучшая; немного воображения, и перед вашим взором во всей красе заблистают удивительные чудеса. Возможно, вы встречали подобное в книгах и раньше, но не в столь изысканном произведении и не у столь великого автора. Как и все комедии Шекспира, «Сон» условен: в конце концов, мир всего лишь театр. Но театр для Шекспира – это и вся жизнь; поэтому жизнь здесь бьет ключом. Зачем только в конце пьесы герои так долго саркастически комментируют представление, поставленное им на потеху? Ведь и так всем ясно, что представление это – несусветная глупость. Все же спишем этот «недостаток» на комедийную условность.
Только полюбив Шекспира, можно понять, почему завистники прозвали его «коллективом авторов»: наверно, им тяжело было мириться с тем, что индивидуальность может быть столь гениальна.
Центральный рассказ цикла «Дублинцы» считается ранним шедевром Джойса. Эта точка зрения имеет свои основания, но зиждется на допущении, что подобная тематика до Джойса не разрабатывалась. Так ли это? У меня нет в этом полной уверенности. Не будем здесь касаться подтекстов и скрытых смыслов: они нам известны и мы вполне с ними согласны. Скажем о другом. Сегодняшний читатель с определенным багажом прочитанных книг за спиной и способный на самостоятельные суждения об искусстве, определенно почувствует, что тема рассказа не нова и отношения героя с женой стали уже почти банальны своей предсказуемой холодностью. Но если бы мы и предположили, что ничего подобного до Джойса в литературе не существовало, мы вполне обнаружим в рассказе другие недостатки, нарушающие его литературную эстетику: он перенаселен персонажами точно так же, как стол в доме, где происходит действие, перегружен яствами (хотя, само собой разумеется, что одно вытекает из другого). Большое количество действующих лиц требует от хорошего писателя проработки характеров каждого из них или создания мгновенно запоминающегося образа, иначе для чего было вводить их в повествование. Безусловно, в произведении, претендующем на бытовую и психологическую достоверность, не обойтись без второстепенных персонажей, иначе достоверность не будет достигнута; но такие персонажи и должны оставаться «второстепенными», и смысл, им придаваемый, также является второстепенным смыслом. Если же какой-нибудь «второстепенный» эпизод наделяется особым смыслом, то линия этого эпизода должна иметь продолжение или выводиться из произведения с помощью умозаключений. Но, имея дело с «Мертвыми», мы, как мне кажется, не можем вывести из второстепенных эпизодов такой смысл. Горничная Лили горько сетует Габриэлю на мужчин, и мы ждем продолжения ее истории, чувствуя, что ее яркая реплика сделана не просто так и будет иметь последствия; однако Лили больше не появляется в рассказе, а лишь однажды упоминается вскользь и ее слова не имеют никаких смысловых последствий. Мистер Дарси в ответ на просьбы спеть, ворчит, что простудился и петь не может; несомненно, это указание на некие стороны его характера, но этот характер никак не проявляет себя в дальнейшем, и по моему субъективному восприятию сцена оказывается излишней. Джойс наделяет своих персонажей индивидуальной внешностью и характеристиками, однако он делает это просто «потому что»: действия автора не ложатся совершенной литературной пластикой в повествование, а кажутся всего лишь талантливым следованием руководству по сочинению хорошего рассказа (даже при том, что собственно писательский талант Джойса неоспорим). Что ж, Джойсу было всего 25, когда он написал «Мертвых», а для такого возраста рассказ смотрится вполне шедевром.
Патология и наивность
Хотелось бы мне, чтобы маркиз де Сад попал в руки к Зигмунду Фрейду. О, какая это была бы встреча! Читавшие «Жюстину» наверняка хотя бы раз полюбопытствовали, что было бы, если бы какой-нибудь из «героев» романа, проповедующих культ личной вседозволенности, сам угодил в лапы такого же, а то и худшего подонка, и сполна испытал все страдания, причиненные им своим несчастным жертвам. Конечно, отвратительный катарсис, который предлагают читателю книги де Сада, не мог содержать и малейшего намека на торжество справедливости; и любой читатель, одаренный хотя бы минимальным интеллектом, уже почти в самом начале столь достойного чтива заподозрит, что подобный роман ничем хорошим не закончится. Однако попрание справедливости и добродетели у Сада изображено с такой прямолинейной наивностью, что наравне с ужасом книга вызывает почти смех. Хотя его антигерои и признают, что следуя их собственной логике, любой негодяй может прикончить их самих, в «Жюстине» этого почему-то не происходит. Сад маниакально преследует свои собственные «эстетические» цели, при этом особо не заботясь о собственно литературных достоинствах книги или ее правдоподобии. Если его «стиль» сегодня и имеет какое-то воздействие, то лишь потому, что его произведения были написаны в 18 веке, что само по себе несколько необычно для современного читателя, так что сам колорит эпохи, никак, правда, не отраженный в шедеврах Сада, можно при желании спутать с литературным талантом их автора. Сейчас пишут в одной манере, раньше писали в другой – только и всего. Любой из знаменитых старших современников Сада, которых он успел застать, появившись на свет, будь то Филдинг, Стерн или Ричардсон, несравненно выше его по таланту, причем настолько, что сравнивать его с ними просто не приходится. Сад прежде всего известен не как писатель, а как Маркиз де Сад, основоположник радикального садизма и прочих извращений в литературе. В этом, собственно, и заключается его эстетический вклад в художественную историю человечества. Что касается его крупного значения в таких-то и таких-то областях, то подобные разговоры мы оставим на совести тех, кто ничего не смыслит в литературной эстетике и писательском слоге. Сад – никудышный автор. Психология его персонажей смехотворна, их поступки и реплики абсурдны, его знание жизни до убогого ограниченно, и его «Жюстина» не сообщает нам ничего нового и познавательного, за исключением половых извращений и «абсолютной свободы», которые как «явление искусства» уже давно всем приелись, хотя и по-прежнему могут шокировать тех, кто возьмется за Сада впервые. Справедливости ради скажем, что «приелись» они благодаря именно Саду, и именно он, возможно, был первопроходцем полнейшей разнузданности в литературе. Только ради этого его книгам можно уделить некоторое внимание, но забудьте о том, чтобы относиться к ним серьезно: ничего фантастичнее, нелепее и глупее садовских сюжетов никогда не существовало в истории слова. Послушать только, как отпетые разбойники, извращенцы и матереубийцы произносят вдохновенные монологи, все сплошь на одну и ту же тему «плевать я хотел на мораль и т.д.», и любому читателю, если только у него остался хоть какой-то вкус, станет, пожалуй, не по себе от столь несусветной глупости. Вы когда-нибудь видели отъявленных злодеев, разглагольствующих, словно профессора изящной словесности? Если и видели, то только в другом глупейшем продукте человеческой пошлости, а именно в голливудских боевиках, говорить о которых мне вовсе не хочется – о них все ясно и без слов. Видимо, Саду так хотелось выразить свои несусветные взгляды на этот мир, что он вовсе позабыл о каком-либо правдоподобии. Его славе это, к сожалению, не помешало, мало того, на неправдоподобии она и зиждется, что можно объяснить либо досадным недоразумением, либо безграничностью человеческой глупости, либо, в конце концов, тем, что Сад стечением обстоятельств оказался первым на этом дурацком поприще. Пожалуй, если верна вторая причина, то самого маркиза сей прискорбный факт весьма бы позабавил: ведь утверждение об этой самой людской глупости есть один из его нигилистских постулатов.
Забавно, что ограниченность садовской «психологии» иногда заходит так далеко, что некоторые поклонники считают его эскапады намеренной черной комедией – господа, ради Бога…
Давно известна упомянутая парадоксальная параллель между Садом и Голливудом, что позволяет приклеить Саду ярлык предвестника современной массовой культуры. Абсурдный вывод – но весьма похожий на правду. Пусть так. Но ведь неглупого человека нет необходимости убеждать в том, что массовая культура есть наиболее отвратительная из всех культур и, если на то пошло, является даже не культурой, а всего лишь специфической формой досуга. Спрашивается, в чем же заслуга де Сада: в том, что он преподнес нам этот замечательный подарок?
Некоторые его мысли забавны и интересны, некоторые даже верны, но виной тому лишь обыкновенная теория вероятности: в более-менее объемной книге хотя бы пара строк должна отвечать правде жизни, иного чистая математика просто не допустит. Это заслуга законов природы, если хотите, но не маркиза де Сада. По большей же части Саду опасно верить на слово. Его антибиблейские богохульства – самая обыкновенная фальсификация, на которую может купиться только тот, кто никогда не брал Библию в руки. А когда он пишет о том, что Микеланджело ради высокого искусства убил натурщика – мало того, он оправдывает художника! – тут уже и самый несведущий в этом вопросе человек заподозрит неладное.
О, де Сад, почему же вы не попали в руки к Фрейду! А вы, господин Фрейд, вы явно опоздали родиться. Какие страшные комплексы вы открыли бы в этой восхитительно заблудшей душе! Какие уродливые психические отклонения! Конечно, вы могли это сделать и позже, но лишь изучая Сада мертвого; с вашим талантом проникновения в чужие души вы добились бы гораздо большего, попадись он к вам в руки живым . Вы же, господин де Сад, в свою очередь, поторопились появиться на свет. Родись вы на 200 лет позднее, вы бы достались современным психиатрам, которые столь изощренно препарировали бы ваш больной мозг, что муки жертв ваших Дюбура, Брессака или Родена показались бы вам ничтожными. Более того, вы бы сами узнали о себе столько жуткой правды, что, устрашившись увиденным, чего доброго, сожгли бы свои собственные рукописи – вы, человек, которого по недоразумению, считая, видимо, психически здоровым, провозглашали «самым свободным духом» из всех людей, живущих на земле. И делали это либо те самые неучи, которых вы так заслуженно презирали, либо люди вполне достойные, но весьма далекие от медицины и к тому же страшно наивные, какими на поверку оказываются любые аристократы с радикальными взглядами.
Некий Морис Бланшо говорит на обложке моей «Жюстины»: уважайте в де Саде по крайней мере его скандальность!
Что ж, господа, уважайте, если вы столь снисходительны. Будь вы хотя бы наполовину так добры к окружающим, жизнь стала бы намного лучше.
Голова-ластик
Что же, даже такой несусветный фильм заслуживает того, чтобы написать о нем пару строк. Мы скажем несколько слов не столько о художественных достоинствах «Головы-ластика», сколько о его сущности. Сущность картины заключается в выражении подсознательного страха отцовства и более широко – вообще страха любой ответственности перед другими людьми. Это сугубо личностная фобия Линча, которая живет в его теле и душе и по сей день. Можно только дивиться тому, насколько она была сильна, если выразилась в такой причудливо-болезненной и даже жуткой форме. Для творческих личностей, имеющих гуманитарные наклонности, вообще характерно погружаться в свой внутренний мир, отчего мир внешний они воспринимают довольно поверхностно. Это, в свою очередь, выражается в неспособности передачи коллизий окружающего мира или в их передаче через призму мира внутреннего. Будучи пропущенными через такую призму, эти коллизии заметно искривляются, зачастую принимая откровенно патологическую форму, как это и случилось с «Головой-ластиком». Незнание окружающей жизни в данном случае привело Линча к тому, что у него не хватило материала на полноценный полнометражный фильм, поэтому даже из такого сравнительно короткого произведения можно с успехом вырезать, по крайней мере, полчаса – картина слишком медлительна и скучна в первой половине. Далее, погружение в свой внутренний мир приводит творца к эгоцентризму, выражающемуся в неспособности и нежелании принять на себя хотя бы малую долю ответственности перед другими, поскольку творцы зачастую погружены только в свои собственные переживания. Природа искусства эгоцентрична по самой своей сути, однако это правило допускает исключения. Если творец мыслит достаточно объективно, то его внутренние переживания, а, следовательно, и творчество, так или иначе отражают определенные общественные потребности, поскольку он, как восприимчивая личность, переживает их еще острее, нежели само общество. В этом случае творец более объективен, чем эгоцентричен. Однако художник субъективный, для которого важно, прежде всего, его собственное талантливое «я», эгоцентричен в наибольшей степени, потому что он в своем творчестве отражает исключительно свои внутренние, личные переживания. И чем талантливее субъективный художник, тем более странную форму принимают его произведения.
Несколько слов о Мураками и психологии творческого процесса
Совсем недавно в приложении к газете "Коммерсант" наконец-то была дана верная оценка творчества Харуки Мураками, выраженная через формулировку «Хемингуэй для бедных» (вспомним, что ранее наиболее умные кинокритики называли Педро Альмодовара «Буньюэлем для бедных», однако со временем Альмодовар почти сравнялся с последним по статусу, поскольку вкусы публики, пусть даже и избранной, неуклонно опускаются все ниже). Столь прямолинейная характеристика знаменитого (читай «модного») писателя дана, как будто бы, на пике его славы, что, на первый взгляд, добавляет ей художественной смелости, но на самом деле ее автор всего лишь уловил, откуда дует ветер. Другими словами, он чувствует изменчивость моды и либо следует чьей-то новейшей трактовке, либо сам пытается диктовать художественные вкусы. Мнения арт-критиков вообще любопытно сравнить с аккуратным дозированием политической информации для масс, когда определенные государственные секреты типа истинных причин развала СССР или гибели подлодки «Курск» поначалу не раскрываются, а раскрываются только потом, когда уже можно, потому что неопасно. Вот и на Мураками глаза читателей раскрываются критиками «потом», то есть, сейчас. И говорит это только о том, что Мураками становится таким же «неопасным», как и упомянутые государственные тайны. Иными словами, неактуальным. В этом отношении критик прав, хотя он и выражается, по сути, политкорректными эвфемизмами.
Неактуальность Мураками объясняется, конечно же, тем, что это писатель временный, как и всякий представитель может быть, и талантливого, но все равно ненастоящего искусства. Настоящее искусство не бывает «временным» в принципе. Здесь я бы охарактеризовал «настоящее искусство» как сочетание таланта и искренности. Под искренностью мы будем подразумевать искреннюю увлеченность художника своим произведением, самим процессом творчества. Это очень важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Вспомните голливудские боевики, в которых внимательный зритель при каждом просмотре обязательно обнаруживает множество ляпов. Типичный пример голливудского ляпа – самолет, летящий в небе в фильме «Гладиатор», посвященном Древнему Риму. При современном уровне развития компьютерной графики и спецэффектов убрать самолет с неба более не представляется неразрешимой задачей, поскольку не нужно снимать всю сцену заново. Однако, никто почему-то самолет не убрал: или не заметил, или не захотел. В любом случае ляп остался. Точно такое же отношение к творчеству характерно для (все еще) модного писателя Мураками. В его книгах полно ляпов самого разнообразного свойства, наиболее типичные из которых состоят в том, что их автор просто забывает, о чем писал сотню страниц назад, и выдает новую мысль, полностью противоречащую мысли, высказанной ранее.
Почему так происходит? Здесь мы подходим к важному выводу, который я хотел бы довести до вас, уважаемый читатель. Когда вы рассказываете кому-нибудь историю, случившуюся в вашей жизни, делаете ли вы при пересказе «ляпы»? Вряд ли. Вы можете только случайно забыть какую-нибудь подробность, но потом все равно ее вспомните. Потому что эта история произошла именно с вами, а не с кем-нибудь другим. Вы не можете ее забыть или сделать в ее пересказе ошибку. В этом заключается психологическая суть процесса творчества: если художник искренен, если он питается настоящим вдохновением, если он переживает свою книгу как историю собственной жизни, он никогда не допустит в ней ошибок. Поэтому не было и не могло быть ляпов в книгах Пушкина, Достоевского, Толстого. Если же писателем движет лишь коммерческий расчет, если он не сживается со своим произведением, и оно для него лишь «дело техники», ляпы обязательно будут: без вдохновения и увлечения, невозможно удержать в голове огромное количество информации. (То, что для автора скучно и неинтересно, он никогда не будет хорошо помнить, даже если речь идет о его собственном произведении).
Подумайте над этим, любители модных книжек.
Голосование:
Суммарный балл: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
Нет отзывов
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор