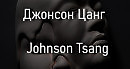-- : --
Зарегистрировано — 123 399Зрителей: 66 488
Авторов: 56 911
On-line — 15 527Зрителей: 3034
Авторов: 12493
Загружено работ — 2 122 532
«Неизвестный Гений»
Филя
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |

Филя
Рассказ
…Накануне всю ночь порошил тихий снег, и к утру посёлок, преобразившись, зачаровано щурился окнами из-под снежных козырьков-крыш на глянувшее из-за дальней белой сопки чистое, словно снегом мытое, солнышко. Филя, проснувшись, зябко поёжился под старым стёганым одеялом, приподнялся и, глянув в окно, продышал ртом на замороженном стекле небольшую проталину.
- Ого, пороша, какая…! – по-мальчишески обрадовался. – Хорошо!
Потом он возился с печью, что долго дымила, прежде чем дрова в ней разгорелись. Сварил картошки и вскипятил большой закопченный чайник. И нарочно долго завтракал, словно растягивал удовольствие от постной картошки в мундирах и кружки крутого кипятка с небольшим куском хлеба.
Картоха нынче уродилась неплохо, и это притом, что Филькин огород давно не помнит удобрений. Можно было бы, конечно, раздобыть для такого случая в деревне навозу, да должником останешься, а на магазинных суперфосфатах урожая не прибавишь, но поиздержишься изрядно. Потому благодарит Филя за нынешний урожай землицу в своём огороде, что лёг покатым пузом от дома к заливному лугу и нынче настороженно застыл под первым снежком. Подкапывать картошку ещё с июля нашлись враз «помощнички» - Колян с дружком. Объявятся невесть откуда нежданно неопрятные, помятые, словно с чёртом водятся. Пару дней отлёживаются, топят баню-завалюху, «грехи смывают», как выражается Колян. Грехов у него в прошлом должно быть много, как впрочем, и в настоящем, поскольку кроме них у этого рыжего шалопая давно ни кола ни двора. Под стать и дружок у него – кривой, волосатый, с грязными ручищами.
Последний раз нагрянули уже затемно в день, когда Филька пенсию получил. Ввалились навеселе, громыхая дощатой дверью в коридоре.
- Встречай гостей, крестьянин! Или не рад, скаредная твоя душа? – с порога бросил грубо Колян, без намерения обидеть. Это он шутит так неотёсанно, как впрочем, и живёт – грубо и несуразно.
- Перекантуемся у тебя до утра, – мрачно проговорил куда-то в тёмный угол его дружок и небрежно сбросил на пол видавший виды зипун. – Завтра уйдём…
- Да, ладно живите, чего там, – смутился Филя и, кажется, даже обрадовался «гостям».
- Ну, тогда живём, – Колян выставил на стол бутылку водки. – Тебе не наливаем, а то чего доброго помрёшь ещё. А кто поэмы дописывать будет? Это нам жизнь совсем ни к чему, а ты – другое дело. В тебе жисть не для алкоголя, должно быть…
После выпивки дружки завалились спать. А рано утром Колян, почесывая лохматую голову, угрюмо подступил к Фильке:
- Ты, это, после получки, должно быть богат? Займи до конца… года. Только не отказывай, всё равно, сам знаешь, заберём…
Филя молча вытащил деньги, отдал и, кажется, с облегчением вздохнул.
- Ладно, не жалей дерьма, а то не впрок пойдут. Обтяпаем одно дельце, верну, – почти серьёзно пообещал Колян. Дружок его, отводя глаза в потолок, многозначительно молчал.
Вскоре они ушли, чтобы так же неожиданно к пенсионной получке объявиться вновь...
Поглядывая на белое подворье, Филька улыбался.
- Схожу завтра на охоту в Захарьину Балку. Далеко, но идти вроде не тяжело, снегу не так уж и много. Белая речка должно быть кроме перекатов хорошо встала. Бродом не пойду, сапоги плохие, по льду перейду там, где покороче. Давно уж забереги какие стояли, а ныне на Кузьму и вовсе мороз был, связал берега, должно быть.
Задумав этак с утра, он воодушевлённо и основательно засобирался в лес. Долго гремел в тёмной кладовой всякой рухлядью, пока доставал из укромного места завёрнутую в ряднину старенькую двустволку. Там же из колченогого комода, что служил местом хранения кое-каких гвоздей-железок, иногда нужных в хозяйстве, достал небольшую картонную коробку с боеприпасами. Охотник из него был так себе, незавидный. Ну, сходит пару раз в одиночку по весне на уток, пальнёт, жалеючи патроны, пару раз в белый свет как в копеечку, ну подстрелит какую случайную шилохвость, не без этого. Пару раз, наверное, за все Филькины тридцать лет от рождения и бывали-то такие удачи. Зато на все тридцать память какая! Ружьё у него от отчима осталось. Вот тот уж горазд был пострелять, даже любил это занятие. Серьёзно с азартом к охоте относился. Филю всё пристраивал, да не впрок всё…
- Экой ты невхалюзный, – добродушно ругался, бывало, отчим каким-то непонятным словом при случае, когда Филя не проявлял должной сноровки и портачил в каком-либо деле. То лесину не удерживал, когда сараюшку, бывало, ремонтировали, то эту же лесину не с того бока строгать прилаживался. И в охоте у Фили всегда промашки были, как ни старался отчим.
- Таланту в тебе – никакого… Надо же так не во время подвернуться родителю на женилку, – подтрунивал при случае беззлобно отчим.
Филя не обижался. Отчим хороший мужик, ещё не совсем старый, сильный и смекалистый. И мамку крепко любит. Года три назад увёз её к себе на родину куда-то в Краснодар. Обещали, как устроятся, заберут к себе и его. Да видать, не совсем ещё устроились…. Вот, ружьё оставил, не пожалел стоящую вещь. Боезапас кое-какой тоже оставил – немного пороху, дроби, картечин десятка три. При его умении стрелять Филе надолго хватит. Вместо пыжей отчим научил старым испытанным способом газету прессовать в патрон. Латунные гильзы тоже по старинке вставными капсюлями заправляются. Теперь-то охотники давно не пользуются таким «инвентарём». Ныне боезапас у всех фабричный, фирменный: патроны один к одному лёгкие, из специального материала, одноразовые. Осечек не дают, дробь по номерам грамм в грамм. А ружья какие нынче у людей! Глянешь в ствол – что тебе зеркало по всему цилиндру. Загляденье! Как отчим говорит – произведение искусства, и что из такого ружья грешно мазать по цели.
А у Фили ружьё старое, курковое ещё. Вместо бойка под одним курком гвоздик подходящий приспособлен, а родной боёк где-то затерялся, когда в прошлом году он вздумал решительно и досконально почистить двустволку…
Вот и сегодня, только было, разложил ружьишко на столе и приладился к свету из окна, как во двор заглянул участковый милиционер Комлев. Филя наскоро сунул всё свое снаряжение под кровать и поспешил встретить представителя власти на улице. Участковый, предпенсионного возраста крепкий седой верзила, иногда проявлял служебное рвение и бессистемно обходил посёлок, дотошно заглядывая во дворы. Для этого он надевал форму, вешал на плечи портупею с пустой кобурой, принимал «для куражу» на грудь граммов триста водки и шёл «наводить порядок». К Филе он заглядывал просто так, по пути. Захудалый пустой двор Филькин не обойдёшь: он не то чтобы стоит посреди деревни, но и не совсем с краю. Когда-то это был видный дом, с дощатым забором, ухоженным садом, с электрическим фонарём на столбе у ворот. Это когда был жив Филин отец, когда во дворе было полно живности: куры, утки, две собаки, на заборе всегда грелся на солнце большой рябой кот, смешно свешивая задние лапы. Отец знатно шоферил, и в его распоряжении всегда был самосвал ЗИЛок, который на ночь неуклюже располагался во дворе, и от него до самого утра веяло пылью, теплом и запахом бензина. Это был так давно… Филя помнит лишь, как в последний раз ездил с отцом в район за комбикормом. Назад ехали поздно со светом. Вот этот свет помнится, да встречный ещё яркий и ослепляющий, а потом скрежет металла и фиолетовое звездное небо вверху, всё убегающее и, наконец, превратившееся в глухую чёрную пустоту… В той аварии отец погиб, а Филе раздавило всё его тазобедренное хозяйство. Помнится, как мать с полгода моталась к нему в районную больницу, как после на костылях привезла его домой, где потом года полтора спустя появился отчим. Бог весть каким чудом Филя тогда выжил и с таким же чудом, не вылезая месяцами из больниц, осилил-таки лет за двенадцать школу-восьмилетку. При мамке жил на спроворенную горе-пенсию да за счёт отчима. А без них вот пробавляется летом с огорода да ещё случаем уродившимися грибом-ягодой в незавидном лесу, что за посёлком стоит весёлой рощицей да одаривает добротой своей всех, кто ни объявится. А зимой больше постится. Костыли Филя забросил давно, но ходит трудно, как старик, сгорбившись и мелко перебирая ногами…
- Ну что, паря, кукуешь? – заходя во двор, спрашивает участковый просто так и закуривает, присаживаясь на ветхий деревянный верстак у стены дома.
- Да вот, зимовать думаю, – отвечает Филя, присаживаясь рядом и обводя рукой пустое заснеженное подворье.
- Ну-ну, гляди, не зажирей к весне, – дымит сигаретой Комлев. – Пенсию-то исправно получаешь?
От участкового несёт табаком, спиртным и солёным огурцом.
- Угу, – как-то неопределённо отвечает Филя и уводит глаза в сторону.
- Что…? Опять дружки подстегнули твой пенсион? Ты, что ж это, …Филимон*? Опять кому-то одолжил до получки? – издевательски кривит губами Комлев. – Дурья твоя башка! Какая у них получка…! Эти твои друзья-приятели и работать-то давно разучились. Какой дурак их на работу возьмёт, да ещё и платить будет…?
Участковый гасит каблуком сигарету и смачно сплёвывает под ноги.
- Да Колян мне и не друг вовсе. Так, заходит иногда, когда болеет…, – словно винится Филя.
- Вот-вот! А болеет он на дню по два раза. Утром – с похмела, а вечером опять же… с устатку. Ты не давай ему пенсию, сколько раз тебе говорить. А если силком берёт, так скажи мне…
- Он мне картошку помогал копать, – вроде оправдывается Филя.
- Какая там картошка, бес вас всех подери! Видел я, сколь ты нынче накопал… Посмотри, как живёшь – куска хлеба ведь в доме нет, – Комлев серьёзно пытается заглянуть Филе в глаза. – Да ты, небось, и сам не дурак с Коляном этим… поллитровку раздавить?
- Не пью я, – словно сожалея, говорит Филя и поясняет: – Моя ломаная конституция не принимает…
- И то ладно, – смиряет свой показной гнев Комлев. – Не пей Филя. От неё зла много, здоровья мало, это когда оно ещё вообще есть, и ещё от водки один сплошной беспорядок. Это я тебе как милиционер говорю. Женись лучше…
- Так ты сам обещал невесту сосватать, и до сих пор…, – почти не шутит в ответ Филька.
- Не выходит что-то. Они, невесты-то, нынче знаешь какие разборчивые. Им справных, это значит, …коней в хозяйство подавай. А ты-то, гля на себя, одна бесформенная инвалидность.
- Да уж… не жеребец, – грустно соглашается Филя.
Комлев чуть помолчал, а потом как бы, между прочим, поинтересовался:
- Я слышал, ты в газете прославился? Стишками балуешься?
- Да было дело, – засмущался Филя. – С неделю назад напечатали…
- И у тебя эта газета есть?
- Конечно…
- Тогда тащи, почитаем.
Филя вынес свёрнутую и затёртую на углах газету, развернул её в нужном месте и протянул участковому. Тот в это время откуда-то, словно из-под мышки вытащил большие очки в неуклюжей пластмассовой оправе и водрузил их на свой красный в прожилках нос.
- Вдаль вот хорошо вижу, а близко совсем не разбираю букв…, – говорит, словно в оправдание. – Ну-ка, ну-ка, почитаем, что ты тут сообразил…
Комлев долго внимательно разбирался, беззвучно пошевеливая губами, потом удовлетворённо хмыкнул и чуть, приосанившись, довольно выразительно прочел вслух:
…Запрокину лицо я в кипень голубую,
Побежит по щеке всепрощенья слеза,
Полюби меня просто за долю такую,
Полюби за мои голубые глаза…
…Грусти нет, но под сердцем таится сомненье –
Не видение ль эта щемящая синь?
Ах, как сладостно голову кружит волненьем
Исходящая духом отчизны полынь…
Чуть помолчал и с чувством зародившейся восторженности проговорил:
- Да ты Есенин, Филимон! Без подначки… Это я тебе не как милиционер говорю…
Филя, прислонившись к стене, стоял молча, опустив глаза. Покрасневшие кончики ушей выдавали его волнение, ему было приятно слышать от Комлева такую похвалу.
- Так я, это возьму как вещественное доказательство, покажу Надежде своей, – свернув по старым сгибам газету, он спрятал её вместе с очками за пазухой. Затем приподнялся грузно с верстака и направился уходить со двора. – Ну, давай, хозяйничай… Ты бы скотину какую завёл, – сказал просто для формы, чтобы как-то попрощаться.
- Да у меня ж есть кот! – оживился Филя. – Где-то промышляет. У меня, вишь, не шибко разживёшься… А то завсегда тут вертится, когда сыт…
- Ну, ну, – напустив на лицо строгость и озабоченность, Комлев отворяет скосившуюся на одной петле калитку и, уже выйдя со двора, оборачивается к Филе:
- Ты, это… зайди ко мне, забери кой-какую одёжку. Моя пообрезала там что лишнее, починила кое-где, тебе впору будет…
- Спасибо, – застенчиво вымолвил Филя в ответ.
- За что ж мне спасибо, роба-то казённая, государственная, стало быть, ему от нас обоих и спасибо. – И словно вспомнив что, закончил строго: – И ещё, чуть не забыл, ты… на охоту завтра не ходи. Народ тут нынче всякий… в округе.
- Да я… и ружьё позабыл, где оставил, – солгал, спрятав глаза, Филя. – Сам знаешь, какая у меня сила…
- Ну, гляди, я тебя предупредил…
Комлев уходит, поскрипывая снежком под сапогами.
…К вечеру Филя всё-таки приготовился к завтрашнему намеченному мероприятию. Поклацал для важности затвором, проверяя, как срабатывает выбрасыватель гильз. Примерил, как входят в стволы чуть раздутые от многоразового пользования патроны, выбирая самые лучшие, и отметил их отдельно, вставляя в потрёпанный дерматиновый патронташ. И, наконец, заканчивая сборку, ловко щёлкнул цевьём, поглаживая ружьё худой костлявой ладонью.
Рано укладываясь спать, загадывал себе хороший сон к удачной охоте. «Подстрелить бы небольшого козла! Мне бы на зиму с картошкой во как хватило…». Тут вспомнил Коляна и передумал: «Нам бы хватило… на ползимы…». С тем и заснул. И странное дело – за всю ночь хоть бы тебе один маленький сон.
Утром затемно подхватился, наскоро собрался, повесил незаряженное ружьё на плечо и огородами тихо вышел за деревню к темнеющей вдали полосе леса вдоль Белой. К свету он был уже далеко у реки, откуда прямиком через невысокий перевал намеревался быстро добраться в Захарьину Балку.
Рассвет пришёл незаметно. Кажется, только что было совершенно темно, и Филя шёл знакомой дорогой, ориентируясь на светлеющее небо да на мрачную стену ивняка вдоль дороги, а минуту спустя уж видны и незапаханное в зиму поле, с которого ныне убирали сою, и дальние вершины, из-за которых вот-вот выглянет солнце, и дорога под ногами с рытвинами да колдобинами, бывшими недавно с водой, а ныне вымороженные, с остатками хрустящего под ногами льда. К реке подходил, когда солнце во всей красе своей, перевалив край сопок вдалеке, опрокинулось сверху в долину ярким слепящим светом. Но пока, радуясь по-детски белизне нетронутого на реке снега, шёл напрямик осторожно мелкими шагами по льду, пока выбирался на крутой противоположный берег, небо подёрнулось белой дымкой. Потом дымка сгустилась, превратилась в сплошную полупрозрачную пелену, и солнце, скрывшись за пеленой, просто освещало землю, но теперь было не ярким чистым шаром, а проглядывало расползающимся во всё небо светлым пятном.
От реки, зарядив ружьё, Филя больше часа поднимался на вершину, с которой по северку ещё нужно было спустится в намеченный лог. Наверху решил передохнуть, а заодно и «заморить червячка» горбушкой, что припас за пазухой. Сапоги у него совершенно не приспособленные к таким переходам, промокли, и потому в них было сыро, что совсем не обещало его слабым ногам тепла.
- «Задерживаться не буду, только чуть передохну…», – пристроился он спиной к шероховатому стволу дуба, не сбросившего на зиму всей листвы, и сейчас чуть шумящего под лёгким колыханьем воздуха. Отсюда сверху хорошо была видна долина до самой деревни в одну сторону, и до дымящегося по горизонту города в другую. Река пересекала всё это расстояние извилистою белой полосой, прерываясь лишь иногда чёрными местами на изгибах. Это незамёрзшие ещё перекаты делали из белой речной полосы чудную пунктирную линию. Филя видел, как к одному из перекатов со стороны города подъехали два автомобиля из тех, что по нынешним временам называют «крутыми и навороченными». У самой воды остановились, возле машин закопошились люди. Со стороны посёлка через поле еле заметной белой точкой к перекату спустился кто-то в белой одежде.
-«Это об этих людях вчера говорил участковый…» – догадался Филя.
Машины, постояв несколько минут, резво тронулись через реку, и без особой задержки пройдя перекат, свернули на… Захарьину балку.
«Хорошая техника у мужиков, прошли как танки. Однако, на моё место тоже метят. Успею! Гляну наскоро по сенокосным ложкам, если коза есть, подстрелю и уйду вверх яром. Они выше не сунутся…» – думалось Фильке, когда он, поторапливаясь, спускался в лог.
Ему повезло сразу же на первой поляне: косуля мирно топталась у рыжих остатков летней копны, собирая осторожно губами сено, и, приподнимая время от времени головёнку, переставала на мгновение жевать и посматривала окрест. Филю она заметила ещё до того, как увидел её он, но, вероятно оценив по достоинству опасность, чуть задержалась, словно поддразнивая.
- Ух, ты! Вот это красуля! – увидев козу, Филя невольно замер, любуясь, но, опомнившись, сдёрнул с плеча двустволку и стал целиться. Но после скорой ходьбы, видно, не хватило дыхалки, в глазах кругом пошла радуга, он чуть замешкался, и чуткая косуля, заметив настоящую опасность, стрелой метнулась в кусты.
- Эк, досада какая, с первого раза не получилось. Теперь она настороже будет, петлёй на вторую поляну пошла. Теперь только там догоню, если прямиком… – Филька, чтобы срезать путь, заторопился и полез в чащу высокой, шелестящей рыжей листвой, лещины.
«Тут я успею проскочить мимо мужиков, пока они сыр-бор разводить станут на номерах. А коза, …она где-то здесь, рядом, впереди идёт, за ложком покажется, никуда не денется. Там другого места ей нет…» – скоро вертелись мысли в его голове.
Идти в такой чащобе было трудно, и вскоре Филя вспотел и стал задыхаться. Больные ноги переставали слушаться вовсе. Он приостановился, чтобы перевести дух, и в это мгновение метрах в пяти от него сорвалась с места затаившаяся было косуля. Она действительно была рядом и уходила не спеша, словно понимала, какой «охотник» за ней увязался. Филя кинулся вслед. Но тут же сбоку послышался сухой выстрел, потом ещё один. Филька сначала замер, а потом развернулся и, вобрав голову в плечи, ринулся назад. Сзади опять загремела пальба. В следующий миг что-то толкнуло его с неимоверной силой слева в спину, и он тотчас упал лицом вниз, подминая под собой орешник.
«Эх, не проскочил…» – у него ещё хватает сил перевернуться на спину, и только после этого он замирает с открытыми глазами на выдохе, не силясь более вздохнуть. Глухо, как будто издали, слышится голос:
- Есть одна!
Тут же чуть со стороны кричат ещё:
- Там и вторая…, ищи лучше!
У него ещё бьётся сердце, когда над ним склоняется чьё-то чужое лицо. В глазах испуг и досада.
- Вот чёрт! Да здесь мужик дохлый какой-то… Надо же полез дура под пулю…
Подходят ещё двое. Останавливаются и топчутся в паре шагов от Фили. Он видит их снизу, чуть наискось и припоминает людей на перекате.
«Это же те, что на машинах… у реки… Справные мужики…»
- Ну, вот и поохотились, отдохнули, – ворчит грузный килограммов на сто тридцать детина и, пытаясь присесть, склоняется к Фильке. – А ведь он ещё жив…, Местный кто-то… Надо же какой бестолковый народ, вечно под ногами мешается…
- Где Комлев? Где этот… мент?! – психует другой в нейлоновом охотничьем костюме. – Говорил, что всё путём будет, козёл…
Подходит участковый, опустившись на колени, склоняет побледневшее лицо к Фильке на грудь. На Комлеве белый маскировочный халат поверх стёганой фуфайки и такие же белые широкие штаны поверх сапог. Дыхание у него жаркое и глубокое.
« Вот кто в белом-то там… у реки. А на охоту участковый трезвый ходит…» – последние мысли у Фили пустые и совсем неуместные ещё по-житейски неторопливо вертятся в голове.
Комлев щупает Филькину жилу на шее и заглядывает в глаза:
- Ты что ж это, Есенин? А? Предупреждал ведь… Я бы тебе этот дерьмовый кусок мяса сам принёс…
Комлев поднимает голову. Как-то разом утонули в омуте нахлынувшей влаги его глаза, затуманенный взгляд убежал куда-то в заснеженную даль, а на взбугрившихся желваках заискрилась синевою щетина.
- Всё, охотнички, видать неудачный сезон нынче… Всё! Расходимся!
- А это… куда? – кивает толстый на недвижное Филькино тело.
- Может быть в яр его, да и дело с концом…? – каким-то жестяным голосом говорит тот, что в нейлоне.
- Я сказал – расходимся! – зло обрывает его Комлев. – С этим я разберусь сам, как положено...
Филя чувствует ещё его руку у себя на глазах, и словно в ответ на это прикосновение виновато улыбается…
*Филимон – Святой мученик православной церкви, пострадал в Антиное Египетском при Диоклетиане; был усечен мечом. Память 14 декабря.
***
Приморский край,
Голосование:
Суммарный балл: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
Нет отзывов
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи