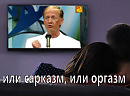Иосиф Бродский
ВЕНЕЦИАНСКИЕ СТРОФЫ (2)
Геннадию Шмакову
I
Смятое за ночь облако расправляет мучнистый парус.
От пощечины булочника матовая щека
приобретает румянец, и вспыхивает стеклярус
в лавке ростовщика.
Мусорщики плывут. Как прутьями по ограде
школьники на бегу, утренние лучи
перебирают колонны, аркады, пряди
водорослей, кирпичи.
II
Долго светает. Голый, холодный мрамор
бедер новой Сусанны сопровождаем при
погружении под воду стрекотом кинокамер
новых старцев. Два-три
грузных голубя, снявшихся с капители,
на лету превращаются в чаек: таков налог
на полет над водой, либо — поклеп постели,
сонный, на потолок.
III
Сырость вползает в спальню, сводя лопатки
спящей красавицы, что ко всему глуха.
Так от хрустнувшей ветки ежатся куропатки,
и ангелы — от греха.
Чуткую бязь в окне колеблют вдох и выдох.
Пена бледного шелка захлестывает, легка,
стулья и зеркало — местный стеклянный выход
вещи из тупика.
IV
Свет разжимает ваш глаз, как раковину; ушную
раковину заполняет дребезг колоколов.
То бредут к водопою глотнуть речную
рябь стада куполов.
Из распахнутых ставней в ноздри вам бьет цикорий,
крепкий кофе, скомканное тряпье.
И макает в горло дракона златой Егорий,
как в чернила, копье.
V
День. Невесомая масса взятой в квадрат лазури,
оставляя весь мир — всю синеву! — в тылу,
припадает к стеклу всей грудью, как к амбразуре,
и сдается стеклу.
Кучерявая свора тщится настигнуть вора
в разгоревшейся шапке, норд-ост суля.
Город выглядит как толчея фарфора
и битого хрусталя.
VI
Шлюпки, моторные лодки, баркасы, барки,
как непарная обувь с ноги Творца,
ревностно топчут шпили, пилястры, арки,
выраженье лица.
Все помножено на два, кроме судьбы и кроме
самоей Н2О. Но, как всякое в мире "за",
в меньшинстве оставляет ее и кровли
праздная бирюза.
VII
Так выходят из вод, ошеломляя гладью
кожи бугристой берег, с цветком в руке,
забывая про платье, предоставляя платью
всплескивать вдалеке.
Так обдают вас брызгами. Те, кто бессмертен, пахнут
водорослями, отличаясь от вообще людей,
голубей отрывая от сумасшедших шахмат
на торцах площадей.
VIII
Я пишу эти строки, сидя на белом стуле
под открытым небом, зимой, в одном
пиджаке, поддав, раздвигая скулы
фразами на родном.
Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней
мелких бликов тусклый зрачок казня
за стремленье запомнить пейзаж, способный
обойтись без меня.
(1982)
Прикрепленное изображение: