Интересные подборки:
16+

Зарегистрировано – 123 425Зрителей: 66 512
Авторов: 56 913
On-line – 12 254Зрителей: 2391
Авторов: 9863
Загружено работ – 2 123 038
Авторов: 56 913
On-line – 12 254Зрителей: 2391
Авторов: 9863
Загружено работ – 2 123 038
Социальная сеть для творческих людей
пугают
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |

Как ни давите всё, что свободно,
А оно вылезает наружу,
И выходит поротно, повзводно,
И заборы железные рушит.
За которыми правда другая,
Та, которую стая боится.
И от страха убили Бориса.
С перепуга пугают, пугают.
И, казалось им, всё задавили,
И гвоздями затрахали ставень
В черно-бело-слепом Плезантвиле.
Что теперь? А еду передавим.
Что бы лбами печатались оземь
Чтобы знали, пощада не светит,
Чтобы знали, заведен бульдозер.
Ну-ка, в очередь, сукины дети.
Голосование:
Суммарный балл: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
 Трибуна сайта
Трибуна сайта Наш рупор
Наш рупор Категории
Категории Радио & Чат
Радио & Чат

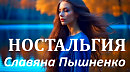




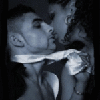



 Работы на продажу
Работы на продажу
Пастырь наш, иже еси, и я - немножко еси:
вот картошечка в маслице и селедочка иваси,
монастырский, слегка обветренный, балычок,
вот и водочка в рюмочке, чтоб за здравие – чок.
Чудеса должны быть съедобны, а жизнь – пучком,
иногда – со слезой, иногда – с чесночком, лучком,
лишь в солдатском звякает котелке –
мимолетная пуля, настоянная на молоке.
Свежая человечина, рыпаться не моги,
ты отмечена в кулинарной книге Бабы-Яги,
но, и в кипящем котле, не теряй лица,
смерть – сочетание кровушки и сальца.
Нет на свете народа, у которого для еды и питья
столько имен ласкательных припасено,
вечно голодная память выныривает из забытья –
в прошлый век, в 33-й год, в поселок Емельчино:
выстуженная хата, стол, огрызок свечи,
бабушка гладит внучку: “Милая, не молчи,
закатилось красное солнышко за леса и моря,
сладкая, ты моя, вкусная, ты моя…”
Хлеб наш насущный даждь нам днесь,
Господи, постоянно хочется есть,
хорошо, что прячешься, и поэтому невредим –
ибо, если появишься – мы и Тебя съедим.