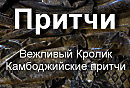-- : --
Зарегистрировано — 123 441Зрителей: 66 524
Авторов: 56 917
On-line — 22 278Зрителей: 4391
Авторов: 17887
Загружено работ — 2 123 433
«Неизвестный Гений»
Срез
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |

Доленте
Падали каплями слёзы из глаз, как лепестки сирени,
и превращались в звёзды в воде;
метаморфозы лета, где избитое – тоже священно,
священно своей ложью.
Много курю; дым в моих лёгких,
растворяется майским облаком, распластавшемся
на тёплом асфальте.
Поцелуй предзакатной весны, как тяжёлый выдох воды,
убегающей в щели заплывшего взгляда дня.
Уноси свои ноги, мальчишка-май,
впереди, огненной гривой, полнолуние лета.
Хочу писать быстро, так быстро, чтоб задохнуться безмолвием
в полночном брожении зеркала, когда сумасшествие опьяняет.
А на воздушных подушках костлявых ветвей
парит вечернее солнце, не прощённое солнце мая.
Стекло – хруст в глазах от наплыва света –
это считывают образы, но не читают себя.
Боль, кругом одна боль и это так человечно.
Черновсполох
Он дышал не спеша,
и душа разливала портвейн по стаканам –
Божья тварь, Божий дар, стыд и срам.
Его ночь – сад камней, чёрный свод меж бровей,
меж камней – ручеёк горизонта.
Он смотрел в этот мир сквозь свинец чьих-то глаз,
раскалённых, как майское солнце.
И холодной струёй, как струной,
бился ключ его сердца,
пока не сгорел листопадом нежных аллей.
В свете – тьма, в тьме – рассвет, и далёкий привет
одинокого эха над горным гранитом;
там покоится сон, тишина, только он
всё блуждает, тоскою привитый.
Божья тварь, Божий дар, полуночный оскал
бездорожья, как чёрная свита
вечно-ветреных проб и ошибок,
из цепей и невзрачных нашивок
безадресных звёзд.
А вопрос повисает мёртвой петлёй,
словно месяца нимб, словно рваная нить
пульса у высохшей глотки,
набитой вороньей землёй…
Кротость
Тишина. Капают слёзы –
слеза к слезе, слеза к слезе.
Поздно, ложись, уже поздно
кричать на ветер. Всё испито
до дна пустоты, до сна
без сновидений.
Крадётся молчание штор.
Найдётся ли там, за шторами, что-то ещё,
не разгаданное разлукой?
Опускай свои руки в пропасть
шёлковой лёгкой листвы –
какая кротость, какой полёт…
Спеши оказаться здесь и сейчас;
дыши, как последним мгновеньем,
собранным в сжатой ладони неба.
Продолжай свой рассказ
никому, ни о чём, ни к чему –
и поверь, кто-то услышит,
на том конце проводов безмолвия.
Тише…Тише…Рвётся струной
голос липовых веток.
Тишиной до рассвета плачет весна.
Кто-то не спит до рассвета
рядом со мной…
Неспроста
Переоделась в любовь весна,
неспроста,
для тебя, для меня,
для кого-то ещё
бездонно-бездомного.
Плечи, как крылья, расправил
синий-синий пласт неба.
Плюю в потолок
солнечным зайчиком взгляда.
Зрачком-изумрудом скольжу
между окон и крон.
Надежда – это когда рядом
сидит прирученный демон,
вспомнивший своё прошлое.
Надежда – это когда влюблён
в шум дождя
на вымытых стёклах мая;
а непрошенный гость, мотылёк,
вспыхивает сверхновой,
преломляя воздух и пьяное сердце
дворов, подъездов…
Неспроста, говорю тебе, неспроста,
мы встречаем сегодняшний вечер,
снова и снова
подставляя ладони
холодному поту неба.
А дальше – весна, как будто, пройдёт,
но останется тёплая капля воды
на кромке млечного платья солнца,
и запах сирени,
словно глоток на двоих
душистой прохлады ночи…
Каскад
Мы уйдём в глухие леса,
мы укроемся мхом и травой,
чтоб не слышать голос надежды.
Ты возьмёшь с собой толику сна,
я возьму немного вина –
так будет надёжней, нежнее.
Пусть нагой, первозданный огонь
наполнит глухие сердца
через край, через тысячи лет после нас.
Голубая вода отразит твою боль,
моё слово и наши следы,
ледяной тишиной с полуденной краской.
Все цветы будут ждать твоей грусти,
твоей простоты,
как лавандово-синий туман
ждёт холодных утренних песен.
Орхидея рассвета
развяжет замёрзшие руки,
и беззвучного неба экран
заискрится в гранях сапфира;
и ладони, цвета морской пены,
сомкнуться на полпути,
когда тихо-тихо
скользнут две тени
дугою овражной,
как дождь по сосновым сучьям,
в пастельно-зёлёную дымку
последнего откровения:
всё, что случилось – наше,
всё, что не сбудется – к лучшему.
Один на один
Листва, головой поникшей,
разбавила вечер,
где тень взмахнула крылом.
Кто-то должен быть лишним –
нулём,
делённым на бесконечность.
Упрятав мысли
на самое дно,
провожаю крик чайки
свечкой усталого слуха,
словно случайной молитвой.
Взгляд, очерченный
береговой линией,
я потеряю тебя уже завтра;
смотри же
за умирающим солнцем,
один на один,
под маятник волн,
сжимая прибой в груди
и чувствуя привкус
солёного ветра
на кончике языка.
Тот, кто проснётся завтра,
будет уже другим.
Reverence
Ты помнишь, было тепло,
и немного горчили свинцовые волны.
Частота застывшего сердца
ровнялась
горизонтальной восьмёрке.
Улетучилось время;
пространство,
будто развеяло сном; и природа
делала своё дело,
пока ночь расщепляла свет.
Ты знаешь,
я уже много раз
провожал нежданную память –
наверное, это,
также бессмысленно,
как обличать ветер.
И я смотрю на огонь,
на чистое пламя,
шепчущее
о минутах или секундах,
и вижу свою усталость
в отражении жёлтых волн,
пока ты танцуешь на фоне
дрожащей листвы;
и мы нужнее друг другу,
чем миллиарды звёзд
расширяющейся
вселенной
на тесной вогнутой сфере.
Новь
Приходила ко мне разлука,
приносила скупые харчи,
тихо грела промёрзлые руки
у сырой поминальной свечи.
Я молился чуткой печали,
укрывался влагой ресниц,
мне всеядные птицы кричали
чёрным хором в ухабы глазниц.
Упивался я болью, и свежей
нежной боли просил себе вслед;
только всё это лирика, мне же,
не свести клочок сердца на нет.
И на палевом небе смеётся
тёмно-розовый вечер, как шут –
это сердце билось и бьётся,
несмотря на конечный маршрут.
Это сердце повинно и слепо,
а за ним – ядовитая мгла.
Оттого ль и не просит совета,
чтоб печаль его берегла?
Горькой радостью пачкая губы,
прогорая свечой на ветру,
свет вина, чёрствый хлеб, вечер грубый
я вкушаю, как кожу деру.
Напоследок, кидая небрежно
умолчание чайного неба,
я цепляюсь зубами в надежду,
где скрипят старых клёнов колени.
Отражения вечных вопросов
безответно роняя на слякоть,
где шумят ядовитые сосны,
я учусь с тобой заново плакать.
Опиум
Мы жгли закат и расчищали ночь,
мы пили чай из лепестков суданской розы;
и сладкой струйкой опиум дышал
тебе на волосы, танцуя первым снегом.
Мы не уснём, чтоб утро приоткрыло
всю наготу и прелесть ожиданья,
чтоб нежный поцелуй, как первый луч,
скользнул на плечи розовым туманом…
А дальше, свет оставит на стекле
осколки-лепестки суданской розы;
взмахнув плащом, раскинет карты солнце,
и мы с тобой сыграем снова в прятки –
но я тебя, конечно, не найду...
Льёт синь восток, я преломляю день,
храня соблазн и хороня надежду;
июньский ветер убегает тёплым флёром
за горизонт событий, с глаз долой....
Нам не уснуть, нам не проспать друг друга;
и поцелуй последний, он, как первый,
и ближе – ночь, как ближе тонкость слуха,
рассеянная пеной тополей…
Вслед за весной
О той,
в которой поэзия
окрашивает
горизонты музыки;
о той,
в которой Селена
находит своё отражение,
поёт в слепой подворотне
июньская грусть,
размерностью
поцелуй на вдох,
размерностью
выдох на жжение
лёгкого ветра
под ядовитой рубашкой аллей.
Смотри же,
смотри безотрывно,
бессвязно, бессменно,
когда она рядом,
и сердцу,
хватит мгновения,
на то,
на что бы ушли часы,
дни и года,
без бронзы её
встречного взгляда;
смотри же,
смотри в глубину
светочувствительной
оболочки неба,
чтобы увидеть
свою слабость,
словно свою смерть
от руки
ледяной красоты,
сошедшей на берег лета…
Срез
Летняя летаргия
в лицах лилового вечера –
это бредни тепла и полунагие тела,
подсвеченные
бурым загаром;
это ночь – вдвойне скоротечней,
а значит, вдвойне горячей, как обрывки
будущей памяти,
где прекрасное,
неосязаемо-южное –
лишь дуновенье на чьём-то лёгком запястье,
лишь тающий лёд в недопитом стакане виски.
Ни звука, пока пророчит молчанье,
случайно повисшее
между столетних хвой
в медленном воздухе…
Тсс…Падают искры воды на ладонь,
ласково плачет зелёное море;
и солнце,
низко-низко
склонив золотистую крону
в шкатулку заката,
выжигает бледно-песочное облако,
горьковатой
берлинской лазурью
с темно-коралловым отблеском,
там, негласно, наедине,
на яркую память,
где мягкая ночь
вдвойне виновата.
Кошки и тени
Ты открываешь глаза,
перебирая возможности
восходящего солнца,
словно чётки света,
бросая
опустошённый взгляд
на лебяжий пух
первых лучей июля.
Этот взгляд,
он как космос,
рождённый из самой глубокой ночи.
Слышишь…
И я храню его
за ширмой нежного сердца,
там,
в тишине,
у одиночества водных лилий
с картины Моне,
чтобы вернуть тебе
весточкой
летнего полдня
на безымянной улице,
когда кошки и тени
становятся чем-то единым.
От окончания дня
Помнишь,
как ты срывала прохладу травы,
и напротив,
всего в двух шагах,
в двух взмахах крыла
атласно-радужной стрекозы,
ядовитая стрелка леса
играла рябью
в заросшем пруду –
это всё,
что хотело видеть
июньское солнце,
макая пряди тепла
в предгрозовую смолу,
пока увядала
глициния неба
сквозь пыльные слёзы шоссе,
и вечер катился
старым трамваем
к подножию ночи.
Нитевидно
Рука на пульсе – пробило вечер.
Вечную спешку
присыпало охрой свечи.
В междометиях переулков
потерялся
ещё один-одинёшенек день.
Тревожа воздух, свисают садами звёзды.
Безбожно сладким ночным поцелуем
падают алые губы на кожицу розы,
чтобы забыть навсегда…
А в городах, зажигают окна,
обжигая глаза сонных прохожих.
Безусловно, что всё возможно,
тому, кто умер для завтра,
тому, кто полощет горло
свирелью пустынного запада,
и под птичий сквозняк,
поздней пташкой,
цепляет нагое небо,
небрежно бросив в трубку души
последнюю горсть табака.
Осторожно –
снотворное, из горчичной луны,
растворившись в задумчивых лужах,
пересекает дыхание.
Непреложно рука на растраченном пульсе,
расстояния
переходят во время,
и гибнут
в гаснущих черепках фонарей.
Вздёрнутый холодом ветер
спешит на свидание,
лязгая за спиной
тощими позвонками разлуки.
А железное дуло зрачка
в полночной бойнице окна,
сродни тишине,
где всё начинается снова,
с беззвучного слова –
любовь…
Обещание
Пообещай мне,
когда солнце,
растянув горячие сухожилия
на перекладине горизонта,
качнётся в глазах июля,
и снисходительно
упадёт
на тесный клочок земли
цвета корицы,
пообещай мне
быть где-то рядом,
поблизости
от неминуемой гибели ночи,
пообещай мне немного холода,
растворившегося
в соборной душе
северного сияния,
чтобы услышать,
как бьётся
стальное сердце разлуки,
и лучик надежды,
подливая масла в огонь,
играет с солнечным зайчиком
на потёртой стене.
Протяжённость
Ты смотрела сквозь дождь,
ты искала застывшее время,
то, что списано было
с каменных линий
древнеегипетских
статуэток цариц,
но часы
монотонно ровнялись
на угасающий запад,
не прощая солёную влагу
и тёплую нежность
под полуприкрытой
портьерой ресниц;
и только
воздушно-лиловый снег,
лежащий на склонах,
забытых временем, гор,
и только холодная плоскость воды
у подножья туманных хребтов,
принимали твоё одиночество,
как своё совершенство.
Сердцепроводность
Это сердце,
этот алый мешочек с дыханьем
в межрёберной клетке,
как надёжно он чувствует боль;
это значит – время не спит;
это значит – быть может, прощай;
это значит –
табачный дым облаков
в прохладе лаванды,
у погасшего летнего дня,
где грунтовые воды
несут свои мрачные тени,
как безбрежную
чёрную кровь,
к подошвам заката,
пока тонкие вздохи ветвей
и шелест травы,
отмеряют сухими глотками
воздух июля.
Там, поодаль,
скоро стихнут слова,
сквозь миндалины сосен
чуть качнутся ресницы,
ухватившись за связку лучей –
это солнце,
на влажной простынке небес,
по дороге на запад,
пеленает ещё один день;
это стиснутый свет на сетчатке,
раскрошившись росой,
провожает русло холодной реки,
в надежде забыть.
Вровень
Когда утро сводило крылья
на подложке её карниза,
словно радуга гнула спину,
словно дождь отпускал тонко струны,
словно кто-то нашёл слова,
чтобы выразить нежность молчанья,
тогда роща клубилась поодаль,
собирая краски июля,
тогда в стылую смоль зрачка
лил рассвет васильковый ветер,
тогда сердце, необозримо,
укрывало ночную прохладу,
словно день, тенистой дорожкой,
вился в мятной пластике ног,
словно кто-то дышал с нею вровень,
забывая считать секунды,
забывая считать минуты,
вспоминая лишь сны назавтра,
как прозрачную мягкость воды;
и души рыбацкая лодка,
проплывая сквозь призрак пространства,
к горизонту соседних окон,
растворяла вкус бледного солнца
в чёрной пене кипящего кофе,
и свободно, немного небрежно,
аромат полусонного взгляда,
рассыпался птичьей пыльцой
в переменной печали неба…
Модерато
Мы разделили пополам
цвет ночи, и ночную верность,
июльский хлеб, июльский дождь,
дрожь фонарей, ожог дыханья,
прохладу стен, камин, постель,
и раскалённый добела
восток зари, где птичий шелест
с ладошки лета тянет крошки.
Мы разделили пополам
сон в дымке облачных рогож,
и пробуждения молитву,
луч рваный на гардине утра,
беспамятство остывшей плоти;
и полустанков мерный ритм
в волнах безвременья, где нимб
сухого солнца с вкусом дёгтя,
и битого стекла ранимость,
бросаются под стук колёс.
Мы разделили, в мрачной охре,
в рутине серо-золотой,
вечерних туч последний вздох,
как поцелуй, как плач разлуки,
как возвращение домой;
как возвращение домой,
когда в пустыне парков, скверов –
ни шороха, ни дна, ни звука,
ни взгляда в полумраке встречном,
а, лишь душа, души ладонь,
ощупывая свечи окон,
лакает мотыльком огонь,
ложась на нежное предплечье.
Зазеркалье
Дышали снегом облака;
в тенистой келье ивняка,
чуть слышная вода
молитвенно застыла;
вблизи воды,
где травы спелись,
играя беззаботно,
как младенец,
слепая сфера неба
сапфиром раскололась;
и грезил ветер,
нагоняя
горячий летний сон,
что отражался драгоценной рябью
на чешуе зеркальных рыб;
и горизонта тонкий звон
рассвет сплетал в соцветья;
и юный лучик янтаря,
изящным пламенем, ронял,
в помол росы, испанский веер;
и жилистые тающие ветви
смиренно волхвовали над камнями,
раскачиваясь плачем берегов…
Нет, не буди меня, прошу,
(как ненадёжно пробужденье
и ветрена свеча)
я буду тихо ждать,
я буду там рыбачить
сетью слов,
пока июль скитается по свету,
пока не зарастёт эта печаль.
Уик-энд
Считывая пульс проводов,
маскирующихся
под шорох ветвей,
суббота сбивает с толку.
Летний город
растворяется
в капле свободного времени.
Мы уйдём от всего,
что скопилось под матовой охрой окон;
мы спрячемся
под крыльями-перьями
бродячих артистов,
в театральном дворике, в закулисье
разгорячённого полдня;
или в пустом прохладном кафе,
в полумраке скучающих глаз официанток;
или в сквере,
где монотонно тают
вспышки фотографов
на белоснежных платьях невест,
и где слышно,
как бьётся хрустальное сердце фонтанов,
как не торопятся мысли,
словно страницы
старых лимонных книг
в тихой букинистической лавке.
Смотри, за углом горизонта,
в болотной сырости стен,
тлеет глухая витрина июля,
пропахшая блюзом –
ты купишь там
браслет из агата,
цвета кофе глясе,
и мы сядем в первый встречный автобус,
чтобы развеять усталость,
чтобы найти, случайно,
вечерний дождь,
высвобождающий воздух
из объятий поздней жары,
для беглой ночи без сна…
Постимпрессионистический блюз
Небо, порванное на тряпки,
падающее в ливневый ворс пшеницы,
где крик жаворонка
раздирает
грудную клетку холста –
этот кусок земли, это всё, что есть у меня,
и ещё, пожалуй,
ветка цветущего миндаля
на горчичном, от солнца, столе.
Но мне видятся,
в тумане пустых полустанков –
рубиновые виноградники,
я чувствую
запах оливковых рощ после дождя,
и террасы ночных кафе
под левиафаном полночной звёзды.
Где моя поношенная голубая куртка
с серой фетровой шляпой,
где это кресло, книга, закат, свеча?
Я не прошу многого,
только оставь
шум моря, разбавленный едкой лазурью,
кукольный мост в Арле,
тёмно-синюю тень часовни в Овере,
связку подсолнухов, горсть табака
и немного вина,
чтобы отдать половину рассудка
за автопортрет
завтрашнего
одиночества.
Горный снег
Приходи в червлёные сумерки,
собирать со мной горный снег,
разбавлять тишиной шестиструнной
придыхание льда и воды.
Средь камней, беспросветных как ночь,
средь прожилок тропок седых,
мы декабрьский ветер отсрочим,
мы нагоним свет родников.
Золочённой скорлупкой ореха,
улыбнётся луна, беспричально;
ты не бойся соборного эха
и прохладного сна облаков.
Ты откройся этой печали
осязанием тихого взгляда;
и под сенью алмазного пледа,
помолись за разлуку и смерть.
Песчаная эфа
А дождь всё шёл, и шёл,
шепча песчаной эфой
по лабиринтам клёнов, лип и хвой;
и воздух пах арбузом, льном, клубникой,
немного хлебом, розами, вином.
Сквозь проблески листвы
я отпускал твой взгляд,
оставив,
лишь немного
росы свинцовой на ресницах,
и шёлк пшеницы
в ледяной ладони.
А дождь всё шёл, и шёл,
играя медью кровель,
и остывая недопитым чаем,
словно глухой водой заката
на тонкой рисовой бумаге,
а, может – каплей крови;
а дождь всё шёл, и шёл,
ваяя и сутулясь,
волхвуя, рвясь, подглядывая сны,
украдкой провожая боль,
а, может быть – любовь,
кому, что нагадал,
слепой рекой июля,
сквозь огоньки берёзовых трущоб…
Альбом
Сквозь дым дубрав
и облачную мель,
терял опору первый луч востока,
и целовал сентябрь,
янтарным ртом,
земли немые язвы –
ты
шла на балкон,
перебирать ладонью шёлк тумана…
Ронял хрусталь рассвет,
вдыхали свет аллеи,
и свет вбирал
тепло твоих волос,
будто растаял хмель,
будто дрожал камыш
на берегу пустом –
ты опускала взгляд…
Тлел ветерок,
листва взбивала волны,
в пастуший рог
трубил дождливый сон,
как эхо мёртвой ночи,
как созвучья
любви осенней,
что пророчат долгой ночью…
Сквозь дым лесов,
стынь, облачную соль,
гадало сердце за немой портьерой,
и целовал огонь
тмин простыней,
и тихо пели
руки над камином…
Сельское кладбище
На много миль вперёд
сказав, “прощай”,
и попросив прощенья,
глаза, опять, для слёз, чисты,
и воздух сладок,
для свечи
беззвёздной ночи.
Вдали холмы,
вздымая свои груди,
прохладным эхом
обесточив чуткий сон,
вдохнут бездонным притяженьем
шум овражный;
и белая кора берёз,
питая млеком
тусклый взгляд бродяжек,
зарубки слёз
любовно сохранит,
на много миль вперёд…
Оставив, на потом,
суды и пересуды,
пустого неба
многотонный плен,
прольётся, как кисель
осеннего тумана,
на тихие замшелые кресты,
на красно-бурые оградки
сельских кладбищ,
где учатся, воистину, молчать,
и сеять ветер
в дымовые трубы.
Послушник
Он вырвал с мясом боль и ночь,
разбив стекло рассвета,
он окунулся с головой
в кипящий жар души;
но ночь, как вошь, как шлюхи стон
в постели разогретой,
смеётся грязной тряпкой губ,
и тяжестью лежит
на срезе мутного зрачка,
на петлях ржавых шрамов,
где пустотой плюёт свеча
в глухой подвал рассвета,
где небо, бросив ляжки туч
на свой холодный мрамор,
достало солнца мятый луч,
и написало смерть.
Но из щелей червивых стен,
из всех продрогших окон,
течёт душа, как рожь, как степь,
как снов осенних плесень,
течёт к молитве, к куполам,
дождём свинцовых копий,
чтоб вечер вывел, бронзой рта,
евангельскую весть.
Силуэты
Я люблю, когда по-домашнему,
со вкусом дождя за окном,
и серо-лиловым небом
на влажном стекле;
когда дом
превращается в зал ожиданья
с туманной свечой плафона,
и сонная кошка, на спинке дивана,
считает тени июля,
под звон бриллиантовых струй.
Я люблю, когда без следа,
на размытых полотнах улиц,
в переменных проблесках окон
и дебрях подъездных дверей;
когда вечер –
проще младенца,
и уже,
не нужно спешить,
и оправдывать лень,
разлитую
протяжённым глотком вина,
укрытую, вскользь,
тяжестью мокрых ветвей.
Я люблю силуэт тишины,
и огонь головешек фонарных,
когда,
под кофейный дымок
и тёплый прибой покрывал,
приглушённой медью
сползающей ночи,
соль минор
прорывается в слух;
а вода и скука – к лицу,
на фоне уставшей души,
и нежно-мглистой печали
женских рук на плечах…
Спектр
Ты не спишь?
Хрупкие вишни,
на жжёной умбре земли,
уже медоносят,
в красно-карминовом улье заката,
тёплыми каплями сна;
а, за бледно-каштановой дымкой портьеры,
небо разлито
персидским синим.
Ты не спишь?
Ещё нет?
В тетради, песочного цвета,
вечер ложится последней строкой,
словно
чертополох многоточий,
словно
палевый абрис холодных берёз,
словно
бронза спящей травы,
словно
старое золото звёзд;
а, рядом,
рука об руку –
наброски теней,
на бежевой ряске обоев,
прорастают
голубовато-серым
на глубину мимолётного взгляда.
Ты не спишь?
Ты ждёшь полночь?
Я за тобой,
камышовой тишью летнего облака,
в кобальт и смоль
сморщенных крыш,
в придыханье погасших окон…
Ступеньки дождя
Научиться, просто сидеть,
И смотреть на дождь;
Если есть, что сказать,
Сказать так,
Чтоб никто не услышал.
Эпилог
Бесплотным
золотом августа,
созрело зерно заката;
виноградной лозой,
вяжет язык тела;
между страниц воды и травы
затаилась радость,
с горем напополам.
В мягком тумане листвы,
беспечно,
тянется-реет
взгляда постель,
плывёт по ресницам ветвей
непреклонное время,
гнездятся следы погасшего ветра,
и тает, что-то ещё,
молчаливо-лунное…
Когда сбудется всё,
что прописано в толковании сновидений,
что останется нам
на замшелых порожках лета?
Только, смотреть друг другу в глаза,
и ждать жёлтый дождь
под огненно-рыжим карнизом неба.
Просто,
считать минуты, пока не упала звезда
в осеннюю пустошь, и клёны
не сбросили ржавую кожу
на бледный гравий стоптанных улиц;
а дымок сигарет
или лёгкого поцелуя,
с подножки поезда,
не превратились
в поздние кадры
памяти
на влажных стёклах домов.
Что останется нам?
Просто, считать секунды,
маятник тихих шагов
в заброшенном парке;
и чтить
долгоиграющий вечер,
считывающий
остывающими губами,
материал
для писем,
медленно
разбавляющий,
словно терпким вином,
сердце,
прозванное,
одиночеством
до востребования…
Стекло
Всё, будто,
с чистого листа;
врачует холод;
расколотая ночь превыше сна;
луна,
прожилками палитры,
играет третий акт.
Всё стихло, наконец;
зрачок – кристаллик соли;
за окнами – свинец или туман,
разлитый, как вчера,
на вязкую основу
чёрных стен.
Всё с чистого листа;
всё – дар терпенья;
так будь моей,
и не ищи меня;
я, где-то там,
в словах, что растворяют
осенних листьев
свет;
я, где-то там,
в последних числах
лета,
что тают
от прикосновенья
рук,
и, где, так тонко,
обрывается дыханье.
Блажь
Вчерашний вечер – пыль с полей тетради;
рассвет – обман;
и я – остывший пот
чернильной кожи от захода до восхода;
такое время года – нелюбовь;
такая подлость сердца – межсезонье,
где смотришь в рот распахнутым аллеям,
и видишь сам себя на фоне
грязных луж.
Вся философия – вожжа под хвост,
не более:
и тлеет день, как сучья старых груш.
Мир в песчинке
И, в белом вермуте сползающей луны,
топил печаль, мой собутыльник, август,
укрывшись зубчатой листвой душистых лип,
и тёмно-влажной глиной
стянув речные пояса.
Цвела густая ночь,
ты проходила мимо
лениво тлевших окон,
и, будто, улыбалась
вслед штрихам ветвей,
храня, на уголках горячих губ,
вкус лёгкого дождя
и тяжесть пепла.
Мы провожали летний сладкий дым,
и, словно дети,
расходились по домам,
искать прохладу сна
и тёплый ужин,
теряя нить повествованья
в прядях
сквозняков.
Влага
Я пришёл к тебе,
а застал – дождь;
на холодных ресницах играла вода,
и следы на окне, словно спелая рожь,
превращали огонь
в бледно-ржавый туман,
превращали день
в мягкокожую степь.
Я пришёл к тебе, чтобы снова молчать,
из фарфоровых чашек пить посошок;
и венчать на царствие
жёлтый сентябрь,
и венчать, осокою,
сырость в глазах.
Я пришёл к тебе,
а застал – ночь,
что роняла чёрные слёзы ветвей,
что скрывала боль,
перейдя тишину,
а за болью – свет,
что укрылся от глаз.
Осенний ренессанс
Гадала осень на янтарной гуще,
и превращала, нежность губ, в цветок
на занесённой, первым сном, могиле;
на всякий случай,
приглушив огонь в камине
и перейдя на шёпот пресных туч.
Ты шла в немой пейзаж,
закрыв, беззвучно, двери,
одна, иль под руку с дождём,
а может, ветром,
на тусклый свет
разбитого стекла,
и будто плакала над каждым
сорванным листком,
согретая
горящим листопадом,
считая тени вдоль речного дна.
Гадала осень;
ты прощала холод;
и кончик взгляда,
как соломенный пруток,
играл в ладонях клёнов,
алой искрой,
и бриз тумана
теребил дверной звонок.
Летнее шоссе
Сквозь цепи сонных облаков
скользит, фуникулёром, лето,
а позади, плетётся ветер,
с горячей пылью на зубах,
смешав загар и свежий пот
полуденного света,
в ладошках воровато-худосочных.
Вдоль оспенной обочины –
вал придорожных тополей
скрепляя сухость рощ, полей,
рассеивает пепел
беглых кровель,
и обронив зёлёный пар,
волом вздыхает, он устал
опорой быть пространству встречных глаз.
Травы стихийный перепляс,
где шум воды, как грязь, увяз,
щекочет, стружкой, грузный банный воздух;
кренится солнца ржавый шкив,
земли мозолистый нарыв
хранит от глаз могильный ветхий холмик;
и память провожает нас,
как слёзы, как обрывки фраз,
бросая камни
под колёс слепые комья.
Сухие слёзы
Сквозь дым и прах горячих туч,
Как винный жар, ползёт закат твой;
Один лишь, тонкий горький луч,
Исполнив на стекле стаккато,
Тебе найдёт, чего сказать,
Облюбовав край ткани подле,
Где ночи чёрная печать,
Как верный пёс на смертном одре.
Пусть не находит вечер места,
Тебя никто не смог украсть;
Сквозь пустоту и голод сердца,
Мелькнёт слезой сухая страсть,
Но глаз холодных заусенцы,
Царапая железо век,
Найдут ответ, ответ известный,
Ты слишком хороша для всех,
Все эти – просто не достойны.
Оплавив воск, дотлеет нить;
Тебе никто не сделал больно,
И ты не сможешь их простить.
Последнее
Как львица в бронзовой саванне,
крадётся мгла
на рваной ране
неба.
Мы встанем рано,
с первым поцелуем
горизонта,
и обратимся в слёзы
из песка и пыли.
На загорелых спинах пальм,
мы высечем последние слова,
и жёлтый воздух,
огненным приливом,
сожжёт их ветхий хворост,
рассеяв нас
между кустарников степных,
как чистый пепел
погребального костра;
и чей-то голос
будет вторить,
знойным ветром:
“Воистину,
любовь сильнее жизни”.
Колумбийские фрески
Над Колумбийскими Андами
парит стрела кондора;
через влажный тропический лес
крадётся тень ягуара;
Магдалена впадает в Карибское море,
вдыхая
янтарную пыль Эльдарадо;
наркотическим трансом,
мокрый воздух
ползёт
через плантации
сахарного тростника,
через саванны и низменности;
три хребта Кордильер
пробиваются
сквозь амазонские ливни,
воскрешая мелодии
жертвенника,
где стрела кондора
падает,
лёгким пламенем,
в ладонь мертвеца.
Незаконченное одиночество
Ты видишь сны, и твои сны – весна.
Сквозь поволоку твоих снов –
латунь ветвей шагнула
на облачный порог лазури,
коралловые кровли утаив;
в тебе – несчастная любовь,
нашедшая прирученное сердце,
наркотик детства
на кармине губ,
и слёз ваниль;
всё вместе – как листва,
как васильковый бриз
твоих печальных глаз.
Ты видишь сны, ты чувствуешь движенье
нефритовой травы в своём саду,
и полуночно-синих акварелей
свет восковой
на стенах без дверей,
и дымохода чёрный снег,
как теплый ветер в поле.
Этюды на свободную тему
I
Из пурпурной розы
вырезав нежную смерть уходящего дня,
там где плачут тени горных ручьёв,
и скитается небо пустой мостовой,
мы играли в огонь и воду
на выжженных травах дорог,
а солнце, всего лишь, хотело покоя,
а позади
скитались голодные стаи волков,
приветствуя холод полной луны,
над полной грудью земли,
залитой пунцовой кровью…
II
В позолоченных косах ветвей
я осенним покоем дышал,
я бежал, не спеша, на восток,
за туманный багрянец гор,
где раскинулись ветра ключи,
где холодное море лежит
пеной горькой и ржавой водой,
омывая сердце зари.
Так скажи мне:
“Прощай, я с тобой…”
Так свяжи мне сеть из снегов
над уютным фасадом резным,
и укрой от свободы глаза…
III
Ты смотришь, сквозь облако осени,
застывшим прибрежным камнем
в зелёной плесени волн,
ты бросаешь невод молчанья,
ты ловишь сырую солому солнца.
Я полон тобой, словно опустошён,
и пальцы хранят скользкую память,
как глаза – тишину –
бабочку водной лилии
над взглядом зеркального карпа…
IV
И он шепчет:
“Господи, научи любви; Господи, научи любви…”
Подражание древним
Её дыхание – движенье облаков
над карими глазами Сан-Марино,
туман над дремлющей аркадой Альп,
ноктюрн адриатической лазури;
в нём, больше, чем могли вместить ладони
гиперборейских ветров и холмов.
Я чувствую скульптурный тонкий мрамор
её изогнутой спины
на кончиках своих озябших пальцев,
как чувствуют безумцы с мудрецами
крадущуюся смерть.
Она царит над возбуждением зрачка
последнего художника природы,
как сакуры опавшая листва,
несомая водой прозрачно-медной.
Её дыханье – моё сердце, тс-с…
и моё сердце – пересказ её дыханья,
обжёгшего осенней плоти глину,
зачатую штрихами фонарей…
Её шаги – листва со дна дождя,
вечерних свеч неуловимый танец,
в котором догорает жар пустыни,
в котором я – движенье облаков…
Шоколад, клубника, ваниль
Шоколад, клубника, ваниль
с остывающих губ сентября.
Посидим, поговорим,
пока тени не прогорят,
словно жёлтый дымок листвы
под болотной плёнкой дождя.
Посидим, помолчим у реки,
пока солнца чертополох
не вспрыснёт червонной росой,
словно тающий след мотылька.
Шоколад, клубника, ваниль
в очищающих слёзах берёз.
На прохладном плече – рука.
Под прохладным небом горит,
лишь лавандово-синий туман.
Лишь каштановых глаз печаль,
расплетённая розой ресниц,
залипает между страниц
одноглазых базальтовых луж.
Посидим, поговорим,
пока тени стучатся в дом…
Кружево
Сад мой полон печали –
осень склонила ветви
в его просторном доме,
сердце согрев дождём.
Холод листвы причалил
в гавань оконной клетки;
крыш черепичные волны;
сепия глаз, как сон,
что паутиной вышит.
Осень сгорает ветром,
сад мой – свечи олива –
тенью колышется ветхой,
нежным шафраном спит.
Листья мостят дорогу;
тонкий дымок безлюдный,
тропок немых, играет
на остывающих углях.
Тонкий листок кленовый
сердце не обманул,
всё расписав, как будет,
в тёмно-коралловых нитях.
Тлеющий август вяжет,
мятой выцветшей, губы.
В поле найду подкову –
будет на сердце радость.
В кружеве старом тумана,
новорождённый месяц
выглянет из колыбели,
ночь скоротают с младенцем
сосен безмолвные ясли.
Русский жанр
В глазах находит отклик скрип курсора,
скучнее свет, обветренней лицо,
за склокой губ – опрелый первый холод,
на шторах – осени шафрановый рассол.
Мурлычет блюз из стареньких колонок,
стрекочет вальс блошиного дождя,
душа кричит из-под сырых пелёнок
опавших листьев, и стихает, громоздя
на плечи ночи пьяную молитву,
слух обмакнув в утешный лай дворняг;
луна играет оспой желтоликой;
бездвижней плоть, дождливей встречный взгляд.
Уходит время, остаётся пыль и плесень,
уходит страх, или приходит смерть;
все предисловия когда-нибудь воскреснут,
чтобы опять, опять сойти на нет.
Преддверие
Летнее солнце
подглядывает
в замочную скважину
сентября,
словно, укушенная коброй, львица
беспомощно смотрит,
как гиены делят
её мёртвого
детёныша,
и нежная кровь
уходит
в зыбучий песок ночи.
Белым углём искрится листва,
словно губы Того,
к Кому нас приводит время,
нашёптывающие
судьбу, или сказку
над ухом глухих мансард.
Молитвенный дождь,
медленно,
опускается на колени
в патоку янтаря,
малахита и грязи,
окрылённый последним желанием.
Так горит на ветру
сладостный поцелуй сентября,
где каждая женщина
может сказать:
“Это – я”;
где усталый путник
падает в ноги
слепому дождю,
скрестив, будто пальцы, дороги.
Рельеф
Влажные крыши
вслушиваются в небо,
как большеухие лисицы Калахари.
Впалые щёки подъездов
заливает осенний сквозняк.
Луна набухает
диском встревоженной кобры,
и падет
в тектонический
разлом сердца,
странствующего, одиноким койотом,
по пересечённой местности
города.
Ночь взметается
крыльями беркута
над синей дымкой фонарных глаз,
и ты улыбаешься
вслед ускользающим ноткам
летней пьесы,
сыгранной без тебя.
Один на один,
поздней-поздней дорогой назад,
в разбросанных пазлах
окон,
ты ищешь мотив
безответной любви,
немного ветра и инея
для бледных осенних слёз,
для осенних аллей…
Там
Там, где дождь
будет идти всегда,
я топчу остановки,
постигая пластику луж,
как приметы первой любви,
считывая
с зеркальных витрин
полуденный триптих:
уныние осени в плесневом воздухе,
холод собственного
отражения
с тонкой струйкой дымка на губах,
напряжение скуки
в силках проводов.
Там, где взгляд
бросает лучик надежды
на мутные стёкла,
чьи-то руки
настойчиво
просят меня обернуться –
всего лишь, ветер,
играющий вариации Голдберга
на тяжёлых, от влаги, ветвях,
зовущий присесть на дорожку,
пока дождь подбирает чужие следы
и уносит прочь.
Сомнамбула
Лишь небо, кислым молоком,
лишь тротуары, влажной сыпью;
сентябрь бормочет бледным ртом
свои прохладные молитвы,
под угасающей травой…
На разъедающей палитре –
лишь парков грязная гуашь,
лишь скверов старческие жилы;
запруда сна, пустынный пляж,
уставших глаз сырая глина,
дрожащих рук скупой пассаж,
поймавший в сети прядь любимой,
или дождя неровный ритм,
где взгляд души – хрусталь вспотевший,
что отражается кромешно
в осколках луж, что говорит
на языке листвы сгоревшей,
и отдаёт шотландским элем …
Лишь неба чёрная мишень,
лишь глаз болотистая тина;
дрожащих пальцев паутина
ложится тенью на постель;
лишь слёз янтарных ожерелье,
лишь тусклой лампочки бронхит;
в час чернокнижья, в час молитв,
когда медяк луны подсвечен,
в кофейной гуще солнце спит,
губ полночь и любимой плечи
дыханьем нежным согревая,
как ветер – строй кариатид…
Тёплый туман
Слушай исповедь,
написанную
на осенних листьях,
собирающую с погоста
солнца –
слёзы берёз,
кленовый ветер,
холодную кровь рябин;
попутно считающую
капли дождя,
как нитевидный пульс
раненной львицы.
Слушай музыку
вязкого белого утра,
проветривая
туманом
дыханье,
пока ветер листает страницы
глухих остановок,
и за перламутром
листвы
плавно плывёт
ожидание первого снега.
Мы расстаёмся без грусти,
без сожаленья,
с верой в ушедшее лето
и ненадёжное завтра,
слушая
ржавый шелест
травы под ногами,
имея,
в беспамятстве жёлтых полей,
как в капле любви,
мгновенную смерть
и вечную жизнь.
Равноденствие
Останови меня
нежным прикосновением
беглых пальцев,
не оставляя выбора,
перед тонким, как вешний лёд,
молчанием глаз.
На расстоянии вытянутой руки –
прощение и прощание.
Тихими нотками,
в уголках потресканных губ –
прелюдия той весны,
где сердце билось талой водой,
и искры полуодетых ветвей
освещали полночный воздух.
Будь со мной,
пока не умрёт луна,
а вместе с ней,
и моё сердце –
кажется так
мы учились любить,
робко
ложась в постель,
расстеленную
равноденствием марта.
Скоро
Вечерний свет
льётся с уставших волос
слабеющим серебром сентября.
Плюс двенадцать выше ноля.
Порывистый ветер.
Рутина.
Молись за тех,
кто ненавидит тебя,
сердцем приветствуя дождь;
аритмией
падай в лужи
соседних окон;
пусть взгляд убегает
в туман чьих-то чёрных глаз,
как боль гонит лошадь вперёд.
Безмолвно
гаснет
близость
на кончиках пальцев,
роняя мягкую дрожь
в разлом тишины.
Молись за своих врагов,
я помолюсь за тебя;
не бойся собственных снов,
скоро выпадет снег,
скоро будет легче дышать,
будет легче остаться
вдвоём…
Важно
Как важно,
когда ты теряешь себя
в грустных глазах
напротив,
будто в пейзаж осеннего пляжа
падает сердце,
медленным сном
вбирая
холодные волны и ветер,
а на том берегу
весточка листопада
догорает огнём
под шелест дождя.
Как безнадёжно,
когда ты теряешь
жемчужную нить
повествованья
в промокших от слёз
записках,
и на влажном стекле
рисуешь
знаки вопроса,
эту россыпь
необратимых минут.
Как неизбежно
неуловимый вечер,
поступаясь своим одиночеством,
перерастает в объятья,
и вечная ночь
бросает осенний якорь
в гавани грустных глаз…
Вместо
В окнах – храм,
над храмом туман,
за туманом – осенний ангел
поджигает в скверах листву.
Вспоминаю росу
твоих глаз
под каркасом свинцового неба;
задуваю свечу
беспокойного сердца;
и ищу,
вместо взгляда,
могильник белых полей,
бледно-чайную пустошь дороги,
держащую курс
на бесплотную грусть
и тусклую память.
Поздний вечер
канет в молитву,
как в тихую смерть,
в светотени берёз
рассыпав засечки
шагов неприметных.
Вспоминаю –
губ твоих медленный свет,
влажный берег в сиянии хвой,
тёмных волн пустоцвет;
и ищу,
вместо встречи,
покой
на туманной границе дождя,
в оконечности дымки заречной.
Она
Плачет роза под запотевшим стеклом –
этот холод, больше чем смерть и надёжней разлуки.
В темноте кто-то, тихим движеньем, раскроет ладонь перед сном,
и в ладонь упадёт лепесток, как осенняя вьюга.
Кто-то спросит у стен, пропитавшихся смуглым дождём,
о грядущем, о прошлом, о тёплой печали во взгляде,
а в ответ, лишь пшеницу волос обожжёт сквозняком –
словно учит бессоннице вязь фонарей привокзальных.
Плачет нежность, напившись прохлады из матовых рек –
эта кома глубже самой глубокой могилы.
В темноте свежий ветер коснётся руки, и тяжёлый рассвет
упадёт лёгким пёрышком в сон, словно в сердце любимой.
Горсть
Она
похоронила холод
лицом к свече востока,
осыпав место погребенья
красной охрой.
Она
лепила нежность,
черпая глину
из источника
со сладостной водой.
Она
предсказывала ласку
по форме пятен масла
на поверхности
воды.
Она
поддерживала
толику огня
в садах блаженных,
навсегда
смирившись с тенью счастья.
Практика пустоты
Тишина замыкает цепь,
и количество,
переходит в отсутствие.
Он не знает о чём петь,
пока не взойдёт осень.
Он не знает кому верить,
пока не придёт разлука.
И на фоне мёртвых цветов –
он попросит дождя.
Закурив у стены, натощак –
он забудет свой угол,
забудет имя,
чтоб казаться полнее
на долю секунды;
и выронив страх,
или жизнь,
шелестеть колокольчиком льда
по первому снегу
полей,
затаившихся
в снах без начала.
Инкогнито
Ночь –
это ли не раскаяние,
это ль не грехопадение?
Ночь –
оказаться в той же утробе,
откуда был вырван временем
и втиснут в пространство крика.
Ночь –
слышать, как воют
столетние хвои,
словно ангелы отрекаются
от влюблённых,
от этих
бледных звёзд
в лавандовом воздухе.
Ночь –
видеть судьбу,
чьи глаза – сухие репьи,
но чьи слёзы – белое золото.
Ночь –
инкогнито,
уснуть под забором заката,
стократно
забыв значения слов
под наркозом осенней листвы.
Секвенции
Октябрь. Проводы солнца.
Утоляя голод,
расширяю границы опустошения.
В свечении бледно-жёлтого
плыву по течению,
стараясь выйти сухим из воды.
Жду свой зелёный,
от пробки до пробки,
пока дождь треплет нервы
обглоданной флоры,
заметая следы на сетчатки,
и зачищая
перспективу
для первого снега.
По законам жанра –
лучше б меня здесь не было;
но здесь – самая лучшая
из
альтернатив,
как докажет, со временем,
переплетение сплетен
в пресной мемуаристике памяти.
Низко-низко,
в плесени луж,
склизко-сизое небо скорбит;
гнилое дыханье Упы,
порывистым ветром,
бьётся о берег сердца,
словно просится на руки;
осень, шурша газетной бумагой,
чадит по-отечески…
Бесконечность – не меньшая скука,
чем распорядок дня;
распорядок дня – не меньшая истина,
чем безразличье осеннего вечера,
чем хрустальная влага на кромке ресниц,
засыпающей, в одиночестве,
женщины.
Нагота
Луна,
взглядом большой серой совы,
приоткрывает нагую плоть
на атласной постели,
словно
чистоту и холод
свинцовых белил,
словно
точку пересечения
двух бесконечностей –
внешней и внутренней,
дня и ночи,
где
существованье –
безбрежное предвосхищение,
застывшее время
у жертвенника любви;
где
нагое сердце –
зыбкая незабудка,
вышитая на платье
полночного ветра;
где
молодая душа –
венозный узор
моря
в капельке
солёного пота;
и первая ласточка солнца –
остановка дыхания
на пути к совершенству ночи.
Элементы нежности
Когда прожитое, как на словах, мгновенье
растает в негативе зимних слёз,
когда закуришь у молчащего камина,
или, без спроса, влюбишься в печаль,
и, словно чай, остынет сердца сладость –
увянет всё, забьётся, только память,
как искалеченный солдат на поле боя,
в разводах льда, в ладонях злой метели,
где серебром сквозным расколот воздух.
И нежность обратит свой тихий голос
в тоску по снам без лишних сновидений,
в бессмертный снег и пустоту пространства,
стирая призрачные грани синих сосен
и оставляя розовый дымок.
Воск
Холодный дождь,
хрустальным языком,
ласкает оспины асфальтовой дороги,
остатками слюны
питая голод глаз…
Душа, как воск,
течёт смиреньем праха
под жестяным горбом дымящих кровель,
шепча неспешно в уши дымоходов,
как будто просит чаю с молоком…
Глухая осень
чистит пёрышки у кромки
болотных облаков,
спит на соломе ломкой,
мечтая встретить руку Левитана,
не отвечая на входящие звонки…
Холодный адрес,
взгляда неизбежность
почти закончат холст,
остыв в траве железной;
я принимаю, осень, твою нежность,
и забываюсь,
чтобы сохранить
слезой замёрзшей,
в воздухе ночном,
луны погост,
как памятник молитве,
как память влажных глаз
у стен размытых,
как губ свечу
в свеченьи тихих фраз…
Струны
Частица света в смоли глаз –
солнце моё.
Сердце моё –
влажная роза
под жёлтой простынью плоти.
Замирает душа тополей
вдоль оврага,
и в беспредельность плюёт
полураздетыми кронами –
это моё “прощай”.
Господин Никто
Время безвременья
срывает банк –
закулисная ночь, занозистый ветер,
закоренелый парк,
заросль погасших окон,
затворничество чердаков и крыш,
заражённый осенью воздух,
защёлка
стальной тишины…ть-ш-ш-ш-и-х…
Чуть слышно,
крадётся мышью душа,
перебирая зернистое небо;
высокоствольный рассвет луны,
затянувшись муаровой раной,
сны вышивает
на коже облупленных стен…
Присядь на дорогу,
наслаждаясь последним вздохом
печали.
Пусть огонь-златоуст,
с зыбкой поверхности глаз,
намекнёт
на господина Никто,
шелестящего своей тенью
у обочины мира
в поисках первой любви,
в поисках истинной боли,
на сломанных крыльях
зимних цветов…
Пропись
Там, где дождь заметает следы,
там, где ночь упускает из вида,
будто тонет что-то внутри;
за фольгою воды – дна не видно…
Скисших луж городская роса
берёт в клещи свинцом многоточий,
незаконченных фраз пустота
подметает промозглую площадь.
Светотень пожелтевшего сада,
переплавив палитру на грязь,
с чертежами панельных фасадов
срифмовала арабскую вязь.
И за всей этой пошлой тоскою,
горизонт подтянув, дышит осень,
а поодаль – мальчишка босой,
это я, и в руках моих – пропись.
Тиховей
Текут деревья на восток,
Иисусову молитву вторя,
плащом янтарным согревая тени.
Листва, реке вдогонку,
письма шлёт.
Инициалы ветер
оставит на воде.
Седой камыш
присядет на колени.
И ты поймешь,
что камни, тоже дышат.
И ты увидишь
в капле слёз –
рассвет;
и мудрость старика,
в сухой коряге.
Огонь зрачка
соломой прорастёт;
бумага прогорит,
слова землёй осядут,
приоткрывая талию души,
словно берёзовую тишь.
Ты выйдешь в сад,
но встретишь, только эхо,
считающее, сонно, этажи
холодных облаков
над журавлиной шеей.
Ты вырвешь сердце,
чтобы слушать стук дождя,
и блеклый пульс развеешь над рекой
дрейфующим туманом.
Септаккорды весенней воды
Голод оттачивает обоняние.
Септаккорды весенней воды
импровизируют
с нервами, сексом и алкоголем,
в сотнях редакциях сердца.
Больше, больше заборов,
чтобы пройти насквозь!
Красиво, но бесполезно,
примеряя смертельную дозу
перед кривым зеркалом,
кто-то громко тоскует
о карьере великого странника.
Стихи, для чтения про себя,
как последнее детство,
возвращаются
к, заслушанному до дыр,
берегу моря.
Опускаясь на дно,
между водорослей проводов и тел,
последнее слово
высматривает
в землистых зрачках и шрамах –
протяжённость прекрасного.
Холодной росой,
на лбу,
проступают капельки пота,
звеня:
”Помни –
то, что делает нас сильнее,
иногда убивает,
обернувшись смертельной усталостью глаз,
опаздывающих
на разговор по душам
в тихом баре…”
Хинодэ*
I
Семнадцать строк
до восхода
солнца.
II
Часть первая. Вечер.
Провожая взглядом
последний автобус,
свой голос
ему оставлю,
поставив безмолвную точку
под пагодами
восклицающих сосен.
Часть вторая. Ночь.
Листья шуршат под ногами.
Звёздам, глаз не сомкнуть.
Кто-то должен не спать.
Часть третья. Утро.
Тающая луна
за спиной.
Разгребая туман,
смотрю
на горизонт,
на восходящего солнца колос.
Сердце – хлеб-соль.
III
Время листает пыль.
Расставляя слова по местам,
жду заката
в офисе.
Хочу опоздать
на последний автобус…
* - восход солнца (япон.)
Центр тяжести
Центр тяжести –
мягкая поступь кошки
в тихом вечернем свете.
Сердце уюта –
тёплый бокал вина.
Для полноты букета –
прядь женских волос
на пальцах.
Невольно
обманываю себя,
что так было и будет.
Но пепел на чёрных висках
бесцеремонно
падает на пол.
Прохладно.
Время пить чай.
Разглядываю
пурпурные капли вина
в области сердца
на белой рубашке.
Не отстирается.
Минуте молчания
в рамках минуты
становится тесно.
Мягкая тень кошки
теряется за портьерой
осеннего занавеса.
Октябрь
Закат, нежнее зверя,
ладони, тяжелей свинца,
шлейф от дождя на шее,
осколки багреца
с посмертной маски солнца –
нас выучат полыни…
Дорога, шум колёс,
болотный ветер,
холодный пот ветвей, прохлада глаз –
всё то, что стало
этим днём, отныне,
раскается в утробе зимних ласк…
И тают миражи
поверх стекла,
в холодном алом,
еле уловимом…
Река текла
усталым взглядом,
тенью
голодного и загнанного зверя,
через распахнутые двери листопада,
чтобы наполнить отраженьем
облаков
глаза души
и тёплый воздух сна.
Сепия
Мы приходили посмотреть на одиночество,
похоронившее мелодию в тумане,
под чёрной маской скрывшее оправу
дождливых губ и северных зрачков…
Прекрасна полночь, если рядом – никого,
как будто ветер сам с собой играет,
и все цвета – единое пятно,
и все слова – лишь волны на песке.
Мы приходили выразить признанье
сухой траве, смотрящей солнцу вслед
и выцветшей поэзии аллей.
В размазанном движении реки
глаза искали ускользающее небо,
и лёд терпения окутывал ресницы;
и мглистый дым уснувших тополей
струился под ногами тихим свистом.
Оптические иллюзии
Холодная девочка Ночь
ложится в мою постель…
Эти горькие губы…
Глаза – чаши янтарной тоски…
Актриса, сыгравшая дождь
на лиловом небе.
Идеальная женщина
с именем Одиночество
под чёрной шёлковой блузкой…
Это мягкий блюз,
мягкий, как расплавленный воск
на пальцах нежных любовников…
Холодная девочка Ночь
падает на спину,
как сквозняк в разбитые окна,
бросает винную прядь волос
на ледяную грудь,
и тает за ширмой
тёмно-лазурного ветра;
оставляя
лёгкий постскриптум,
поцелуем зари,
на горьких губах
цвета запёкшейся крови.
Я нащупываю
дрожащую
тень от плафона
в тишине шерстяных одеял,
я пишу на осенних листьях
элегии холода…
Катарсис
Ветер падает на кровать,
на одеяла
из осенней листвы.
“Тибетская пустошь надёжней
красок Монмартра”, –
шепчет листва,
по горло сытая
влагой
с грязных подошв неба.
Невпопад попадая взглядом
в прокуренный ритм ветвей,
делаю своё дело –
пью на последние,
и наслаждаюсь безденежьем
с полным правом;
ведь сердце должно стучать,
суконкой мышц
под мокрой одеждой
души,
нежно и безвозвратно,
как первый снег
на ладонях вандала.
Тайна
Холодной плёнкой темноты покрыты окна,
и темнота роднит тебя с желаньем,
и ты боишься темноты, словно дитя.
Тебя знобит, и ты скрываешь дрожь
за маской каменного сердца, что молчит,
переполняемое криком одиноким,
молчит, как море, утаившее прибой.
Ты смотришь вдаль, даль входит в твою плоть
прозрачной наготой, где только – поле, небо,
слепая глубина пространства света.
Глаза твои вмещают больше, дальше,
чем могут видеть, знать и даже ждать;
а ждут они, почти всегда, зимы.
Подтало-рыжий абрис облаков
сползает маслом в лезвие зрачка,
и ночь берёт своё –
ты снова вспомнишь лето,
но лето вспомнит, лишь осенний сон
и выцветший подсолнечник луны.
Дегустация
Под небесно-облачной известью
осенний ветер
проверяет на прочность
листовое железо кровель,
приглашая голодные рты дворовых овчарок
на дегустацию пыли.
Когда-то здесь были леса,
не те, что накрыли фасады домов ржавыми струпьями
строительно-
ремонтных работ,
а изумруды и родники на полудиком теле земли.
Свидетелем – пыль, лучший из краеведов;
пыль на моём лице, волосах, руках и ногах,
ласкающая тротуарную плитку, когда садишься в автобус,
когда переходишь, негласно, на “ты”
с пчелиным роем мерцающих окон,
зажигающихся от пустоты
и гаснущих в безукоризненном одиночестве.
Свидетелями –
осеннее сердце,
разгадывающее перекрёстки,
словно сухие кроссворды,
и разрывающиеся снаряды
проблесков светофоров,
что падают трёхцветным огнём
в окопы уличных пробок,
как в океан,
величественным дыханием,
приподнявший
сине-зелёные крылья
над сгорбленной тенью безмолвного дна.
Мозаика
Любить, как рубить с плеча,
под самый корень древа познания,
вслушиваясь до глухоты
в колокола кувшинок
на, подёрнутом ряской, пруду.
И тонуть, тонуть, тонуть!
Любить, как взойти на плаху,
чтоб голова пошла кругом,
чтобы нервы, как звуки лютни
играли в медвяной росе слёз,
чтобы, лишённый всех прав,
наконец заглянул в своё сердце.
Иначе к чему, к чему, к чему?!
Любить, как принести
вязаное лукошко
лесной земляники
к порогу декабрьской ночи.
Wake up! Wake up! Wake up!
За дверью
шелестит свежий воздух
полураскрытой книгой
с иероглифом “сердце” на мягкой обложке.
Падай в полночный обморок
прозрением юной души и плоти –
не зря падение называют свободным.
Осенние тени бросают якорь
в капле горячего пота,
вода – значит жизнь.
Любить – как смотреть на воду,
у подножия
первых лучей солнца.
Без вести
Дополни моё одиночество.
Падает дождь на холст.
Дополни моё одиночество.
Пылью шепнёт дорога.
Где ты, моё одиночество?
Плачет луна в воде.
Где ты, моё одиночество?
Пылью земля остывает.
Где ты, моё сердце?
Просит олива ветра.
Где ты, моё завтра?
Море роняет разлуку.
Прости мне моё сердце.
Гаснут глаза от пыли.
Прости мне моё завтра.
Дождь набросает записку.
Где ты, моё одиночество?
Буквы блеснут позолотой.
Где ты, моё одиночество?
Звуки достигнут молчанья.
Где ты, моё сердце?
Ночь раскроет ладони.
Где ты, моё завтра?
Дождь упадёт на рану.
Моно
Октябрь на улице Октябрьской
прорезался, напоследок, случайным теплом,
и скрылся, где-то в районе Октябрьского посёлка.
Круг замкнулся – выхожу на конечной. Цежу сухим ртом
влажный воздух. Ржавой тесёмкой
рассвета подогреваю взгляд. Мало-мальски
приветствую стаю блаженных дворняг у дверей офиса.
Искореняю вопросительную интонацию,
отбивая вечный дождь в голове.
Жухлая тень старенькой груши
валяется
на мокром асфальте;
отпечатки её пальцев ласкают осенний воздух.
Подберу. Пригодиться
скоротать одиночество или бездушие.
Скрежет листьев, не первой свежести, заставляет смеяться
над собственным благополучием,
дёргая зрительный нерв
матовых окон, которые помнят ещё
лучшие кадры
позавчерашней осени.
Хочется выспаться, но время встревает бессонницей,
остаётся –
говорить, говорить, говорить,
не говоря ни слова,
и хоронить табачный туман
в колбе охрипшего голоса,
как последний глоток безволия.
Мираж переменного неба –
низко-низко, вязко-вязко…
Октябрь на улице Октябрьской, развеяв охру,
скрывается, где-то в районе Октябрьского…
Chaussee*
Склонили кисти, над немой травой, берёзы,
как ангелы над грешником льют слёзы.
Ты созерцания полна, и ты грешна,
ты безутешно молчалива, ты нежна,
что осени холодные запястья;
и тонет вечер в облаках твоих волос,
и падает в глаза червлёной мастью,
зарю бросая, как собаке верной кость.
Ты сумраком оденешься по-царски,
на землю ляжешь, словно кроткий пух,
глаза сомкнёшь, тебе нашепчут сказки
туман шоссе и неба чёрный круг.
Совьётся холод под твоей одеждой;
ты созерцания полна, пока незрима;
промедлит сердце, утаив стократ надежду,
но сумрак в венах вспомнит, как любила.
Прольётся свет, из чаши звёзд, на город,
и ты вонзишь последний лучик счастья
в холодной плоти тонкие узоры,
как в осени холодные запястья.
* - шоссе (фран.)
Легко
Чёрным вороном город закружит,
фонарями проспект прошипит,
ты согреешь полночную стужу,
разбивая дыханье о ритм,
ритм ветвей, заплетённых в созвездья,
проклинающих каждый рассвет,
ритм обочин слепых, пульс прозрений
сквозь тяжёлый искусственный свет.
Всё избито, как же избито,
так доступна печаль твоим снам;
ты кладёшь макияжа иридий
на лоснящейся кожи металл.
Разжигая проторенный голод,
обливаясь, как талой водой,
жадным смехом, вином и свободой,
ты уходишь сегодня со мной.
Тебе страшную тайну открою,
словно дверцу, не глядя в глазок,
занимается тело любовью,
зарывается сердце в песок.
И насытившись плотью горящей,
снова сердца тоску себе взвесь,
ведь, как будто, живёт в настоящем,
но окажется, дышит – не здесь.
Гравюры
Аромат остывшего чая.
Натюрморт из грязной посуды.
За окном – дождливо. Скучаю.
На столе записка: “Целую”.
Сонный взгляд высыхает олифой.
Ртуть зеркал отливается в нежить.
Наслаждаюсь будничной рифмой,
чтобы сдохнуть от скуки нежной.
Неба ткань листопадом пылится,
прорываясь подкладкой снежной.
Набивается скупость мысли,
словно время для размышлений.
Отплывает туман ржавой баржой.
Передержанный воздух, как плесень.
За стеклом – промозгло. Не важно.
На столе записка: “Повесься”.
Виньетка
Спят поцелуи в крапиве.
Ветер агатовый топчет
травы объятий недвижных.
Липовый мёд твоих губ
тает вечерним солнцем.
Плечи, ветвью ракиты,
падают в чёрную воду.
Сон похитив, разлука
вырежет взгляд из камня;
ты забросаешь камнями
танец луны-магдалины,
чёрный нектар прольётся.
в спящий бутон дымохода.
Эхом тумана накроет
шёпот могильных холмов.
Ты заберёшься под кровлю,
к зеркалу тусклого неба;
матовых звёзд амальгама
сердце твоё срисует,
голову вскружит протяжный
ржавый волчок созвездий.
Песни цветок ароматный
розой раскроется вешней,
стебель сорвёт чёрный ветер,
голос рухнет на землю,
и прорастёт слезами
северного тумана,
спящей крапивой губ,
утренним поцелуем,
потом холодным земли
у одиноких объятий.
Старик Ла-Морт
Сквозь седые глаза старика
опускается влажная ночь,
как горячий прилив
последних слёз;
в раковинах его морщин
плещется
солёное море чужих голосов,
далёких, как юные руки матери,
раскачивающие люльку с младенцем;
в чертополох его бороды
вплетены георгины
двадцати пяти тысяч восходов солнца.
Он стоит на ветру, чтобы смыть запах смерти
с медно-бледной сорочки кожи;
с хриплой гармошки прокуренных губ
он кладёт пожелтевшие листья дыханья
в конверт без обратного адреса,
и наклеивает
коллекционные марки
воспоминаний.
Сквозь седые глаза старика
доносится вечная ночь,
горячий закат, покрытых смирением, плеч,
одиночество толкователя сновидений,
лишённого привилегий сна;
в неводе его морщин –
улов из останков бури,
сдавленной
между жабрами
солёного бриза
и плавниками вечернего солнца.
Он стоит обнажённый, как медь,
собирая, полынью пальцев, тяжёлые брызги зимнего моря,
причастившись пепла седых волос,
провожаемый маятником
одинокого сердцебиения.
Колокольчик
Слух поверяет себя пустоте
глухих перекрёстков –
какой тонкий почерк
на фоне свечи тишины!
Ночь соскребает
третий слой грязи,
и ты никому не нужен,
а значит –
верен себе.
Куда же спешить дальше?
Луна, докурив в лужице света,
скроется пеплом
в золе
чёрного облака.
Ветер волоком,
сквозь сапфировый холод,
протащит
рваные крылья воздуха,
нежно звеня за плечами.
Дзинь-дзинь дон!
Ночь стучит по карнизу,
словно сердце
путающееся
в показаниях.
Боль, что надёжнее
тысячи обещаний,
остаётся твоей болью.
Воздух бронзовых крон
Осенняя полутьма –
страницы забытой книги.
Чешуйки асфальта, рыбьи
глаза дождливого неба.
Тумана застывшая пемза
на кальке точёных берёз.
Зари проталина, сера
вдоль смальты дорожных полос.
Змеиная кожа да кости.
Ноябрь подбирает слова.
Осенняя полутьма.
Лакуны осеннего солнца.
Рассвета ржавая оспа,
как автопортрет в углу.
Свечи поминальной проседь,
поддевшая ветра золу.
Скрипицей натянута осень,
соломой седеет рассвет,
ты тёплого слова попросишь,
но ветер сведёт всё на нет.
Прохлады вечерней корица,
травы сон, как дым папирос.
Закат поравняется с птицей,
душа полетит под откос.
Азалия
Пылает даль
безмолвным криком.
Тоньше пыли
крылья чайки,
упавшей за горизонт.
Призрак луны на воде
раскрывает тайны зеркал.
Морским узлом
связан мой голос –
он не рассказывал
никому никогда,
как одиноко море,
как азалия сердца
доступна
ночному бризу,
как краток миг
случайного счастья
(вдох-выдох),
где солнце,
цвета Мадеры,
целует уставший песок,
и поздний взгляд,
словно вереском,
прорастает сквозь звёзды
на взгорье чёрного неба.
Нюансы
Вест молчалив. Залив кровав –
ни жив ни мёртв – Халиф на час.
Альков зрачков – столетний вальс.
Ветров анклав, впитав шлейф трав,
треф уронил на холм души,
сбегая вплавь и тая вширь.
Золотоглав песков рельеф;
он был таков, он тенью стал,
когда спросил: “Жива любовь?” –
и отвечал себе же сам:
“Жива, как сон, как стон, как боль,
как семь потов на небе алом”.
И звуков сев, и зов волхвов,
ночь расколов, дров наломав,
прилива блеск, утёса кровь
покрыли богословьем пыли.
След дня ленив. Душа, как соль,
жива, как сон, нежна, как ветвь,
влажна, как вспаханная нива;
и бригантины облаков
свинцом лежат над жнивом волн,
без рулевого, без ветрила.
И глаз твоих горячий шоколад
И глаз твоих горячий шоколад,
и губ имбирь – декабрь округляет
до абсолютного нуля, до ноты си-диез.
Пространство набирает серый тон.
Ты влюблена в природу
мёртвого звучанья,
и на улыбке ставишь крест, как подпись.
Снег распускается в садах
монгольским кашемиром,
и жёлтой медью солнце отдаёт.
На подоконнике цейлонский чай
выводит розу в воздухе
дымком душисто-крепким.
Всё кончено – так набирайся сил,
чтоб снова тратить ожиданья и мечтать,
пока в окне, словно по клавишам рояля,
с ветки на ветку прыгает сорока,
и плед скрывает мир от твоих глаз.
Морская пена будет твоим плачем
Морская пена будет твоим плачем,
лесной родник – последней каплей крови,
и ветви сосен – мятным сном ресниц,
и кельей – ночь, с евангелием оста.
Росы хрусталь пусть будет твоим блеском,
пшеничный ветер – поцелуем легким,
и вкус дождя – вином с лозы июля,
и берегом – туманный полумесяц.
Пусть будет ночь тебе прощальным взглядом,
цветок зари – сомкнутыми устами,
и красный клён – холодной тенью сердца,
и кронами – лазурный ток Плеяд
в созвездии Тельца на чёрной сфере…
Аз, Буки, Веди
I
Доносится
хруст тростника
(это сердце сковало льдом).
Шелест осоки
тенью ложится на дно.
Мутные волны перебирают –
“Аз”, “Буки”, “Веди”, “Глаголь”,
и выбрасывают нежное имя
на берег змеиного логова,
имя твоё,
моя возлюбленная
Ева…
II
Моя мечта –
ползти виноградной улиткой
по белоснежному склону Фудзи,
и застывая венозным ясписом
на самой вершине,
срывая ухмылки пепельных облаков,
бросать их
на темя туманного дола,
как лепестки роз,
крича вдогонку:
“Всё-таки, есть небо!”
III
На небе сгущаются тучи,
будто дым
всех выкуренных сигарет
возвращает долги.
На старом кладбище,
неподалеку от берега осени,
надпись ветром:
“Входите без стука”.
Мёртвые любят
переслушивать дождь;
живые –
переспрашивать мёртвых,
и признаваться последним в любви.
IV
Сколько слёз в твоём сердце,
столько звёзд
обожествляет разлуку,
серебристо-серым колье
отражаясь в чёрной воде.
Столько слёз в твоём сердце,
что дождь заснул на камнях,
словно
надломленный ствол тростника
в полночной пустыне.
Зимовье
Снег и свет на подоконнике дышат душа в душу.
Кельтская меланхолия. Сердце вздрагивает шорохом птиц.
Зима прорастает узором папоротника на замёрзшем стекле. Слушаю
пульс ленивых часов, разбивая о белую тишину глиняный сосуд голоса. Искра
ласки, высеченная полднем из рудожёлтого камня солнца,
падает на черепки волглых девятиэтажек, шихтуя вспышки-тени
немых занавесок. Традиционность, бледная, как бумага, сдавливает полусном
ледяную пустошь ладоней. Собираю чёрно-белую мозаику неподвижного тела
в один большой легковоспламеняющийся архив,
и подношу искру ласки. Праздники нагнетают скученность красок,
но, в сущности, скученность – слепок с лица одиночества, где шорохом птиц
дрожит промозглое сердце, и, разлетаясь в пух и прах, брякает ржавой связкой
ключей на подмостках прихожей.
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
В сугроб лица. Оборванные строфы
в сугроб лица
падает медленный свет,
натягивающий венозную плоть заката
на косный скелет горизонта
за барными стойками доминошных столов
разливают
рябину на коньяке,
и закусывают
лимонными дольками солнца
с оголённых, как лёд, проводов
свисает запад
нежно-свинцовой прохладой
медный цветок облака
струится ржавой пыльцой,
питая свой призрачный корень
алкоголем вечернего воздуха,
словно десертным ядом
в глазах подъездных лампочек
отражается завтрашнее похмелье…
холод постели
запирает чёрную ночь
беспокойной фантазией шлюхи
не продохнуть –
смола стекает по серебристой коже зеркал,
бронзу губ обволакивает
патина
лунного пламени
ноябрьская луна,
гематомой
туманного взгляда,
шлёт всё ко всем чертям,
и даже чертей, к их собственной матери
завтра рано
вставать
Пыль
Всё, чем стоит гордиться –
это пыль, пыль, пыль, и ещё раз пыль…
Всё, что есть у тебя –
это чистейшей воды проза,
смирение в похмельных глазах,
и ночь за углом, как чёрт за калиткой,
бросающий острые камушки звёзд
в сдержанные колокола
окон.
Всё, что есть у тебя –
чёрное лукавое сердце,
сжираемое безмолвием,
благословенно плетущееся
по душным равнинам и прериям,
стыдливо прикрывшись,
грязным бельишком листвы.
Чёрное лукавое сердце,
ты можешь быть хоть алмазом,
хоть диким шёлком
для сотни, другой простодушных,
но для желтушно-сырой подворотни –
ты, всего лишь, мускульная котомка
в левом отделе грудной клетки,
мышка-нарушка
в локонах ядовитой змеи,
облачко запёкшейся крови
на грязной одежде.
И, пожалуй, единственное,
что стоит иметь ввиду,
говоря о бессмертии в полуподвальных комнатах
борделей и рюмочных –
это дрожащие пальцы осеннего равноденствия
над языками костра,
это нежные слёзы пыли,
нанизанные
на излучины мокрого ветра,
и что-то ещё, что теряется,
и забывает слова
в складках луны,
словно в вывесках придорожных отелей.
Филомела
Флейтовый слог, ивлев свист,
водопойные и луговые дудки,
ласкающие барабанные перепонки
рельефной листвы…
Мелодия соловья –
это всегда мелодия соловья.
А я подбираю в овраге чужой голос,
(худшее, что может случиться
в жизни),
и кладу его прямо на сердце…
Она говорит про любовь,
смотря на грязь под ногтями зеркал,
а после, уходит, лаская ступеньки
нетрезвой походкой,
и я кладу её прямо на сердце,
рядом с чужим голосом,
ощущая горьковато-сладостный привкус.
Под железной лазурью неба,
в замшелой пивной,
где подают дешёвую водку,
где царит нежный ад
в исповедальных междометиях
прокуренных губ,
ив-ив, уить-уить, пью-пью –
мелодия соловья,
сквозняком беспокоящая
глухоту
оливково-зелёных салфеток –
это всегда мелодия соловья.
Она говорит про любовь,
снимая вязаный свитер и джинсы,
похотливо тревожа
ряску бледно-зелёного пододеяльника.
Может быть она счастлива?
Может быть даже,
она слышит,
закрывая пьяные
кораллово-красные глаза,
в плотных дебрях кустарников и травы,
среди гнилых, болотистых мест,
как приземисто сидя на ветке
и опустив крылья,
импровизирует Филомела.
И я кладу её прямо на сердце,
рядом с дешёвым вином
и болотными лилиями,
пока ночь догорает стоватткой
в проёме двери.
Зелёный
Ветер, как струны лютни,
перебирает
провода;
на автоответчике – дождь со снегом;
позднее ноябрьское солнце
прорастает
комнатным цветком;
кончики пальцев
ландышами
звенят от холода;
круги, под обветренными глазами,
довольно скверно
претворяются маргаритками;
батист тумана, муслин облаков –
интерпретация бесконечна,
формулировки – бесплодно-призрачны.
«Ты настолько желанна,
что не можешь не быть одинокой…
Заходи на кофе
с коньяком,
мы так редко видимся», –
говорю первой встречной…
Ветер, как струны лютни
(кажется Бах);
позднее ноябрьское солнце
(шалфей или календула);
пыль на ботинках
похожа на исповедь;
кончики пальцев
теряют чувствительность
в туманном воздухе,
в уравнениях улиц и лиц
с десятками переменных…
Красный
Она скользит по делам,
как капля дождя
по шоколадно-коричневым веткам
(извечная тень чужих взглядов),
и, кажется,
так будет всегда,
пока будут писать стихи
на бумажных салфетках
осени,
и она,
всегда будет рядом
с теми,
кто смотрит ей в спину…
Реггей
В ритме реггей падает первый снег,
словно пишет стихи седовласый старец,
и бросает на землю сырые строчки.
Веет эхом. Бледные вены – и смех и грех.
Реквием, нежнее осеннего вальса,
заливает палатки цветочниц.
Первый снег – благозвучное бла-бла-бла.
Пунцовые кисти рябин приправлены
пергаментным мехом. Известковые тучи
шуршат над восковыми домами.
Ослепительная глухота пространства,
словно вскрытая раковина моллюска.
Засыпая не чувствуешь боли.
Время крошится мелом, рисуя облако
на небе, цвета асфальта.
Прохладные волны в ледяной кулак собирают волю.
Бьёт задумчивым колоколом
ржавого крана последняя капля.
В ритме реггей остывает проезжая часть,
остывает дыхание, паровым сгустком
сваливаясь с губной перемычки.
Зевающий ветер играет безлиственной пастью.
Терпение – как шестое чувство.
Движения губ – пустая привычка.
Морская болезнь
Я снова брошен в море,
приписанное кисти Айвазовского,
изломанный челнок,
худая шлюпка,
что отдаётся шлюхой
зелёно-фиолетовой волне,
и тонет в мёде грозового неба,
и в меди хлёсткого норд-веста
щепкой тлеет.
Я снова, погружением зрачка
в холодную изрезанную рану
стенающей марины,
чернила памяти вечерней разливаю
по первым строкам Книги Бытия.
Туманный брег к гортани ночи липнет,
я слеп от брызг и криков синевы;
я снова брошен, как комочек глины,
в печь раскалённого холста,
где кровь моя –
солёная вода,
и жизнь – минутный ветер.
Огонь луны, бледнеющий как смерть
на фоне черепков фрегата,
где винный лучик неба, лишь мираж,
отслужит панихиду,
став туманом.
В морском котле, кипящем маслом света,
я обретаю тишину
и нежность слов,
я снова вижу кораблекрушенье,
и сердце омывает тишиной,
и проступает соль на хлебе плоти.
Каприс
Словно вскрытая рана
прорывается
голубовато-серая кровь зимы
из-под сна заливных облаков.
Скрипка снега играет
двадцать четвёртый каприс Паганини.
Ветер застрял в ветвях
росписью по керамике.
Швейцары дорожных столбов
приоткрывают глаза,
анонсируя рыхлой суглинок ночи, где иней,
как лиманные лечебные грязи,
оцепляет больное сердце.
Аорта неба
качает холодный воздух.
Снег перевязывает буро-чёрные язвы
травы; на больное место
ложится кошка. Тоскливо.
Уютно поздно. Порознь со всем миром –
а может, и вместе,
собирая на шторах следы
соленых звёзд,
как помёт голубиный.
Тень от липы в окошке крестится
день-деньской,
подбрасывая озноб.
Пар из труб, словно чай с малиной,
заливает ноздри.
Искрой вечерней, свечка солнца ложится в гроб.
Месяц (кожа да кости)
лезет дворняжкой на холмик могильный.
Туманность Орла
Ты одна. Бутылка вина, как пролог.
Остывший чай на столе.
Время тлеет – в час по чайной ложке.
Три основных цвета –
цвет крови, травы и летнего неба –
отливаются пламенем полночного пота
на горячих губах. Полог
свинцово-серой луны застилает прохладу глаз.
Чем дальше смотришь,
тем нежнее туман. Бессвязный
крик одинокого сердца
рассыпается жемчугом плача.
Туманность Орла, степенно
качается маками звёзд
на расстоянии
семи тысяч световых лет.
Последнюю каплю терпения
на серебристо-белой груди
растворяет сквозняк занавесок.
Ты ищешь здесь, хоть кого-нибудь, но
голос – тише воды, ниже травы –
превращается в обсидиан.
Ты одна, и слишком темно за окном,
чтобы менять распорядок ночи.
Чёрный муар зрачков –
последняя капля мёда. Ночь
крадётся кошкой по шлейфу карниза,
наступая на хвост утренней тени.
В графе “завтра”– ласковый прочерк.
Ночь прощается с кем-то близким,
разделившим её одиночество,
как хлеб и вино летнего неба.
Кадмий
На цинковом небе – ноябрьский дождь.
В воздухе – тушь и сиена.
Пропласток перспективы
подводит брови сурьмой.
Ныряю дрожью
в дверной проём
и упираюсь в холод
венозных стен –
без альтернативы. Снова
нет ничего слаще её волос
в такое безвременье,
когда по стеклу
стекает
кадмиевая слеза,
разбавляя чайное многоголосие,
и побелкой ссыпается аромат
осенних аллей, перетекая
в разряд фантазий.
Я встречаюсь
с ангелами её губ,
с глазами,
цвета речной долины,
с её именем на обложке стекла,
чтобы проснуться завтра
в туманном распятье солнца
над илом окон,
и прошептать простужено,
словно ночная фиалка
опустила на веки
холодную тень:
“Как в последний раз…”.
Олеандр
Облака,
из ароматного доминиканского табака
и тоски,
бесшумно плывут на запад.
Тени цветут на крышах
чёрными ирисами.
Я вспоминаю, как ты любила
переписывать летние сны
в тиснённый блокнотик…
Облака,
из ароматной мяты и нежности,
задевают светильники елей,
тая молитвенным шёпотом.
Тени на крышах вальяжно выводят
чёрную розу зари.
Кошка ложится в ноги,
как заходящее солнце,
прищуривая горизонт
кремово-жёлтых глаз.
Скоро проснётся душа луны
и повеет
зодиакальным светом.
В проступивших слезах ветвей,
словно в искрах шампанского –
запах моря, дождя и леса.
Я уверен, ты ещё любишь –
сидя в тени олеандра –
вспоминать обо мне,
подбирая блики
ветреных глаз прохожих.
Ты ещё любишь то время,
где сердце не спит, словно море,
качнувшее полночь…
Гипнос
Руки любовников
спят, как тени охотников
под открытым небом.
Кровь их крови –
пейзаж, сошедший с полотен
Северного Возрождения.
Плоть их плоти –
терракотовый лимб
над грунтом снежных полян.
Диптихом,
дымка ресниц дрожит
в лунном сопрано.
Руки любовников
спят, как слепки дамасских клинков
в глубоких ранах друг друга.
Кровь их крови –
Тигр и Евфрат;
плоть их плоти –
устья надтреснутых губ.
Дыхание
скрашивает тишину
и безвозвратно
теряется в кракелюрах клёнов.
Северная Корона,
зимним блеском,
срывает с петель вьюгу.
Руки любовников
плывут по течению
тающих ледников,
провожая друг друга
до пробуждения, как до дома…
Волынка
Тише воды…. Белым-бело….
Дрожит светляк настольной лампы.
Кружится снег, как помело,
и тает в плоскости асфальта.
Пахнуло холодом – открой
все форточки – декабрь на сердце.
Слоится топь аллей слюдой
и тает заревом абсента.
Мороз по коже…. Лёгкий иней….
Скелет ветвей в склеп неба врос.
Скрипит борей, как крест могильный,
скрывая в хвоях листья роз.
Под шёпот глаз луна плывёт;
на волоске лучится свечка.
Шёлк крови, шерстяная плоть;
в окне – тысячелетний вечер.
Как на ладони – тишина –
прохлады сонной повитуха.
В туман зеркал плывёт луна
и отражается разлукой.
Кровь стынет…. Лёгкая тоска….
На голос свечки лезут тени.
Ночь заполняет, вполглазка,
пустые строчки бюллетеня.
Тиамат
Пусть будет тихо внутри, как на дне океана,
где древняя ночь прикрывается
безмолвием мидий и рыб,
где спят корабли,
где сердце трещит по швам
срединно-океаническими хребтами,
и разъедают глаза подводные соляные озёра;
а когда солнца шампань
одевается турмалиновым сумраком,
и роняет на марлю воды
вощаные гребни света –
можно всплыть,
и выдохнуть во всю парижскую синь;
можно всплыть, и считать лениво
височные кольца звёзд
над драконьей зеленью волн,
над яхонтовыми парусами неба,
сквозь старую розу норд-оста
примеряя сизые контуры чайки,
как нательный крестик.
Бабочка в кювете
Вспорхнёт, как бабочка зари,
твоих ресниц усталый отзвук,
и облака-поводыри,
разбавив померанцем воздух,
на верность присягнут закату.
Сквозь чёрно-белый дым ветвей,
вскрыв запоздалых встреч глиссандо,
проступит полдень фонарей –
ты вскользь помашешь маякам,
что льют янтарь в прибой метели;
ключ упадёт в родник замка,
обрызгав тишину за дверью.
Сорвётся, бабочкой зари,
с ресниц пастозный сонный ветер;
душа скучна, как трижды три,
но, скуки ради, и бессмертна.
Химера купоросных окон
остынет снегом на ветвях.
Сны обнадёжат одиноких,
но ночь оставит в дураках.
Сандал повеет василиском.
Взгрустнёт коньячная капель –
звезда к звезде. Растают мысли,
в кювет ныряя, как в постель.
Дикий декабрь
Душа твоя – акрополь сна, гробница восковая вьюги,
где ни кровинки, ни души, лишь нараспашку барельефы
сугробов, и слегка видны окаменелости лачуг
во тьме дорической луны; а в предзакатной магме неба –
растаявший солярный знак, холодный купол глинобитных
ветвей и зооморфных скал геологическая память.
Душа твоя – как саркофаг, где ни души, где ни кровинки,
лишь тусклого зрачка эмаль в землянке звёзд, пленённых воем.
И черепки старинных амфор – твои глаза – пьют вдалеке
метель, как бледно-снежный свет с надменных крыльев херувимов,
что растворяют в ночной роще, над зеркалом грунтовых вод,
свои прекрасные морщины, с мечом зари наперевес.
Голубой топаз
Фриз горизонта прорастает
глазурью льда;
курган восхода
бросает тень на знак дорожный
луны; и дюны первоснега
играют жемчугом зеркальным,
пока заплывшим воском глаз
ночь продлеваешь, сколько можешь;
и неба голубой топаз
кристаллизует облака,
прозрачным соком заливая
барочную лепнину крыш
в остроконечниках сосулек;
и время тянешь мизансценой
с подмостков смерти, как со дна
морских кремнистых отложений;
струится солью снег, храня
осенних слёз огонь и пемзу;
прохладный свет струной рисует
на обнажённой коже имя,
и это имя – неизбежность…
И это – небо декабря…
Ассоль
Ты прячешь душу под подушку декабря,
и губы убаюкиваешь снегом;
безмолвие домашнего ковчега,
как на груди пригретая змея.
В зрачках из серебристого графита
мерцает ночи сталь. Сквозь сумрак, за версту –
улыбки нить – намёк на наготу,
на снежный блеск полей под ядовитым
туманным причитанием норд-веста.
Подснежник тишины – в твоём венце;
и ты сидишь на ледяном крыльце,
гадая на кофейной гуще сердца –
где в глубине тоски библиотечной
склонилась тень над шёлком Ариадны,
и фонарей сливовая прохлада
шагает одиночеством по встречной.
Сокровищница
Рассвет взмахнёт крылом
над царскими вратами,
как горлица на ледяном ветру.
Блеснёт лампадка солнца
пылью известковой
над овнами безмолвных облаков;
и горизонт, тяжёлый на подъём,
подкрасив губ бесцветную обложку
цианом и алойным бледным соком,
постель заправит в горькую траву.
В глазах – оттенок почвы и коры;
в ладонях – снежный танец лазурита.
Далёкий брезжит свет подвесками граната.
Ты багряницей утаишь огонь в груди.
Пусть всё закончится, начаться не успев,
глубоким сном на жертвеннике сердца,
где лишь луны миндаль цветущий и
плодоносящая смоковница свечи
тревожат ночь прохладным ароматом.
Девочка
Бледных рук тишина – нескончаемой ночи предтеча –
антрацитовой тенью ложится в туман покрывал;
ожерелье волос опускается блеском на плечи,
как рождественский снег, осветивший лиловую даль.
И на крапчатом небе чернильными складками тают
перекрёстки ветвей – им брусничные губы твои,
что-то шепчут по-летнему, и безвозвратно теряют
тихий голос дорожный в зеркальных развязках зимы.
Бледных глаз тонкий лёд, отражая холодные искры
переменчивых окон, скользнёт тишиной в зеркала;
аметистовым следом порвётся закатная риза,
и подпалина лунная ляжет на кобальт стекла.
Под агатовым небом, далёким, как сны побережья,
ночь протянет тебе уголёк, словно летнюю ветвь
сквозь седую листву нерастраченной нежности снежной,
и влюблённость откроет глаза, чтоб ослепнуть навек.
Падали каплями слёзы из глаз, как лепестки сирени,
и превращались в звёзды в воде;
метаморфозы лета, где избитое – тоже священно,
священно своей ложью.
Много курю; дым в моих лёгких,
растворяется майским облаком, распластавшемся
на тёплом асфальте.
Поцелуй предзакатной весны, как тяжёлый выдох воды,
убегающей в щели заплывшего взгляда дня.
Уноси свои ноги, мальчишка-май,
впереди, огненной гривой, полнолуние лета.
Хочу писать быстро, так быстро, чтоб задохнуться безмолвием
в полночном брожении зеркала, когда сумасшествие опьяняет.
А на воздушных подушках костлявых ветвей
парит вечернее солнце, не прощённое солнце мая.
Стекло – хруст в глазах от наплыва света –
это считывают образы, но не читают себя.
Боль, кругом одна боль и это так человечно.
Черновсполох
Он дышал не спеша,
и душа разливала портвейн по стаканам –
Божья тварь, Божий дар, стыд и срам.
Его ночь – сад камней, чёрный свод меж бровей,
меж камней – ручеёк горизонта.
Он смотрел в этот мир сквозь свинец чьих-то глаз,
раскалённых, как майское солнце.
И холодной струёй, как струной,
бился ключ его сердца,
пока не сгорел листопадом нежных аллей.
В свете – тьма, в тьме – рассвет, и далёкий привет
одинокого эха над горным гранитом;
там покоится сон, тишина, только он
всё блуждает, тоскою привитый.
Божья тварь, Божий дар, полуночный оскал
бездорожья, как чёрная свита
вечно-ветреных проб и ошибок,
из цепей и невзрачных нашивок
безадресных звёзд.
А вопрос повисает мёртвой петлёй,
словно месяца нимб, словно рваная нить
пульса у высохшей глотки,
набитой вороньей землёй…
Кротость
Тишина. Капают слёзы –
слеза к слезе, слеза к слезе.
Поздно, ложись, уже поздно
кричать на ветер. Всё испито
до дна пустоты, до сна
без сновидений.
Крадётся молчание штор.
Найдётся ли там, за шторами, что-то ещё,
не разгаданное разлукой?
Опускай свои руки в пропасть
шёлковой лёгкой листвы –
какая кротость, какой полёт…
Спеши оказаться здесь и сейчас;
дыши, как последним мгновеньем,
собранным в сжатой ладони неба.
Продолжай свой рассказ
никому, ни о чём, ни к чему –
и поверь, кто-то услышит,
на том конце проводов безмолвия.
Тише…Тише…Рвётся струной
голос липовых веток.
Тишиной до рассвета плачет весна.
Кто-то не спит до рассвета
рядом со мной…
Неспроста
Переоделась в любовь весна,
неспроста,
для тебя, для меня,
для кого-то ещё
бездонно-бездомного.
Плечи, как крылья, расправил
синий-синий пласт неба.
Плюю в потолок
солнечным зайчиком взгляда.
Зрачком-изумрудом скольжу
между окон и крон.
Надежда – это когда рядом
сидит прирученный демон,
вспомнивший своё прошлое.
Надежда – это когда влюблён
в шум дождя
на вымытых стёклах мая;
а непрошенный гость, мотылёк,
вспыхивает сверхновой,
преломляя воздух и пьяное сердце
дворов, подъездов…
Неспроста, говорю тебе, неспроста,
мы встречаем сегодняшний вечер,
снова и снова
подставляя ладони
холодному поту неба.
А дальше – весна, как будто, пройдёт,
но останется тёплая капля воды
на кромке млечного платья солнца,
и запах сирени,
словно глоток на двоих
душистой прохлады ночи…
Каскад
Мы уйдём в глухие леса,
мы укроемся мхом и травой,
чтоб не слышать голос надежды.
Ты возьмёшь с собой толику сна,
я возьму немного вина –
так будет надёжней, нежнее.
Пусть нагой, первозданный огонь
наполнит глухие сердца
через край, через тысячи лет после нас.
Голубая вода отразит твою боль,
моё слово и наши следы,
ледяной тишиной с полуденной краской.
Все цветы будут ждать твоей грусти,
твоей простоты,
как лавандово-синий туман
ждёт холодных утренних песен.
Орхидея рассвета
развяжет замёрзшие руки,
и беззвучного неба экран
заискрится в гранях сапфира;
и ладони, цвета морской пены,
сомкнуться на полпути,
когда тихо-тихо
скользнут две тени
дугою овражной,
как дождь по сосновым сучьям,
в пастельно-зёлёную дымку
последнего откровения:
всё, что случилось – наше,
всё, что не сбудется – к лучшему.
Один на один
Листва, головой поникшей,
разбавила вечер,
где тень взмахнула крылом.
Кто-то должен быть лишним –
нулём,
делённым на бесконечность.
Упрятав мысли
на самое дно,
провожаю крик чайки
свечкой усталого слуха,
словно случайной молитвой.
Взгляд, очерченный
береговой линией,
я потеряю тебя уже завтра;
смотри же
за умирающим солнцем,
один на один,
под маятник волн,
сжимая прибой в груди
и чувствуя привкус
солёного ветра
на кончике языка.
Тот, кто проснётся завтра,
будет уже другим.
Reverence
Ты помнишь, было тепло,
и немного горчили свинцовые волны.
Частота застывшего сердца
ровнялась
горизонтальной восьмёрке.
Улетучилось время;
пространство,
будто развеяло сном; и природа
делала своё дело,
пока ночь расщепляла свет.
Ты знаешь,
я уже много раз
провожал нежданную память –
наверное, это,
также бессмысленно,
как обличать ветер.
И я смотрю на огонь,
на чистое пламя,
шепчущее
о минутах или секундах,
и вижу свою усталость
в отражении жёлтых волн,
пока ты танцуешь на фоне
дрожащей листвы;
и мы нужнее друг другу,
чем миллиарды звёзд
расширяющейся
вселенной
на тесной вогнутой сфере.
Новь
Приходила ко мне разлука,
приносила скупые харчи,
тихо грела промёрзлые руки
у сырой поминальной свечи.
Я молился чуткой печали,
укрывался влагой ресниц,
мне всеядные птицы кричали
чёрным хором в ухабы глазниц.
Упивался я болью, и свежей
нежной боли просил себе вслед;
только всё это лирика, мне же,
не свести клочок сердца на нет.
И на палевом небе смеётся
тёмно-розовый вечер, как шут –
это сердце билось и бьётся,
несмотря на конечный маршрут.
Это сердце повинно и слепо,
а за ним – ядовитая мгла.
Оттого ль и не просит совета,
чтоб печаль его берегла?
Горькой радостью пачкая губы,
прогорая свечой на ветру,
свет вина, чёрствый хлеб, вечер грубый
я вкушаю, как кожу деру.
Напоследок, кидая небрежно
умолчание чайного неба,
я цепляюсь зубами в надежду,
где скрипят старых клёнов колени.
Отражения вечных вопросов
безответно роняя на слякоть,
где шумят ядовитые сосны,
я учусь с тобой заново плакать.
Опиум
Мы жгли закат и расчищали ночь,
мы пили чай из лепестков суданской розы;
и сладкой струйкой опиум дышал
тебе на волосы, танцуя первым снегом.
Мы не уснём, чтоб утро приоткрыло
всю наготу и прелесть ожиданья,
чтоб нежный поцелуй, как первый луч,
скользнул на плечи розовым туманом…
А дальше, свет оставит на стекле
осколки-лепестки суданской розы;
взмахнув плащом, раскинет карты солнце,
и мы с тобой сыграем снова в прятки –
но я тебя, конечно, не найду...
Льёт синь восток, я преломляю день,
храня соблазн и хороня надежду;
июньский ветер убегает тёплым флёром
за горизонт событий, с глаз долой....
Нам не уснуть, нам не проспать друг друга;
и поцелуй последний, он, как первый,
и ближе – ночь, как ближе тонкость слуха,
рассеянная пеной тополей…
Вслед за весной
О той,
в которой поэзия
окрашивает
горизонты музыки;
о той,
в которой Селена
находит своё отражение,
поёт в слепой подворотне
июньская грусть,
размерностью
поцелуй на вдох,
размерностью
выдох на жжение
лёгкого ветра
под ядовитой рубашкой аллей.
Смотри же,
смотри безотрывно,
бессвязно, бессменно,
когда она рядом,
и сердцу,
хватит мгновения,
на то,
на что бы ушли часы,
дни и года,
без бронзы её
встречного взгляда;
смотри же,
смотри в глубину
светочувствительной
оболочки неба,
чтобы увидеть
свою слабость,
словно свою смерть
от руки
ледяной красоты,
сошедшей на берег лета…
Срез
Летняя летаргия
в лицах лилового вечера –
это бредни тепла и полунагие тела,
подсвеченные
бурым загаром;
это ночь – вдвойне скоротечней,
а значит, вдвойне горячей, как обрывки
будущей памяти,
где прекрасное,
неосязаемо-южное –
лишь дуновенье на чьём-то лёгком запястье,
лишь тающий лёд в недопитом стакане виски.
Ни звука, пока пророчит молчанье,
случайно повисшее
между столетних хвой
в медленном воздухе…
Тсс…Падают искры воды на ладонь,
ласково плачет зелёное море;
и солнце,
низко-низко
склонив золотистую крону
в шкатулку заката,
выжигает бледно-песочное облако,
горьковатой
берлинской лазурью
с темно-коралловым отблеском,
там, негласно, наедине,
на яркую память,
где мягкая ночь
вдвойне виновата.
Кошки и тени
Ты открываешь глаза,
перебирая возможности
восходящего солнца,
словно чётки света,
бросая
опустошённый взгляд
на лебяжий пух
первых лучей июля.
Этот взгляд,
он как космос,
рождённый из самой глубокой ночи.
Слышишь…
И я храню его
за ширмой нежного сердца,
там,
в тишине,
у одиночества водных лилий
с картины Моне,
чтобы вернуть тебе
весточкой
летнего полдня
на безымянной улице,
когда кошки и тени
становятся чем-то единым.
От окончания дня
Помнишь,
как ты срывала прохладу травы,
и напротив,
всего в двух шагах,
в двух взмахах крыла
атласно-радужной стрекозы,
ядовитая стрелка леса
играла рябью
в заросшем пруду –
это всё,
что хотело видеть
июньское солнце,
макая пряди тепла
в предгрозовую смолу,
пока увядала
глициния неба
сквозь пыльные слёзы шоссе,
и вечер катился
старым трамваем
к подножию ночи.
Нитевидно
Рука на пульсе – пробило вечер.
Вечную спешку
присыпало охрой свечи.
В междометиях переулков
потерялся
ещё один-одинёшенек день.
Тревожа воздух, свисают садами звёзды.
Безбожно сладким ночным поцелуем
падают алые губы на кожицу розы,
чтобы забыть навсегда…
А в городах, зажигают окна,
обжигая глаза сонных прохожих.
Безусловно, что всё возможно,
тому, кто умер для завтра,
тому, кто полощет горло
свирелью пустынного запада,
и под птичий сквозняк,
поздней пташкой,
цепляет нагое небо,
небрежно бросив в трубку души
последнюю горсть табака.
Осторожно –
снотворное, из горчичной луны,
растворившись в задумчивых лужах,
пересекает дыхание.
Непреложно рука на растраченном пульсе,
расстояния
переходят во время,
и гибнут
в гаснущих черепках фонарей.
Вздёрнутый холодом ветер
спешит на свидание,
лязгая за спиной
тощими позвонками разлуки.
А железное дуло зрачка
в полночной бойнице окна,
сродни тишине,
где всё начинается снова,
с беззвучного слова –
любовь…
Обещание
Пообещай мне,
когда солнце,
растянув горячие сухожилия
на перекладине горизонта,
качнётся в глазах июля,
и снисходительно
упадёт
на тесный клочок земли
цвета корицы,
пообещай мне
быть где-то рядом,
поблизости
от неминуемой гибели ночи,
пообещай мне немного холода,
растворившегося
в соборной душе
северного сияния,
чтобы услышать,
как бьётся
стальное сердце разлуки,
и лучик надежды,
подливая масла в огонь,
играет с солнечным зайчиком
на потёртой стене.
Протяжённость
Ты смотрела сквозь дождь,
ты искала застывшее время,
то, что списано было
с каменных линий
древнеегипетских
статуэток цариц,
но часы
монотонно ровнялись
на угасающий запад,
не прощая солёную влагу
и тёплую нежность
под полуприкрытой
портьерой ресниц;
и только
воздушно-лиловый снег,
лежащий на склонах,
забытых временем, гор,
и только холодная плоскость воды
у подножья туманных хребтов,
принимали твоё одиночество,
как своё совершенство.
Сердцепроводность
Это сердце,
этот алый мешочек с дыханьем
в межрёберной клетке,
как надёжно он чувствует боль;
это значит – время не спит;
это значит – быть может, прощай;
это значит –
табачный дым облаков
в прохладе лаванды,
у погасшего летнего дня,
где грунтовые воды
несут свои мрачные тени,
как безбрежную
чёрную кровь,
к подошвам заката,
пока тонкие вздохи ветвей
и шелест травы,
отмеряют сухими глотками
воздух июля.
Там, поодаль,
скоро стихнут слова,
сквозь миндалины сосен
чуть качнутся ресницы,
ухватившись за связку лучей –
это солнце,
на влажной простынке небес,
по дороге на запад,
пеленает ещё один день;
это стиснутый свет на сетчатке,
раскрошившись росой,
провожает русло холодной реки,
в надежде забыть.
Вровень
Когда утро сводило крылья
на подложке её карниза,
словно радуга гнула спину,
словно дождь отпускал тонко струны,
словно кто-то нашёл слова,
чтобы выразить нежность молчанья,
тогда роща клубилась поодаль,
собирая краски июля,
тогда в стылую смоль зрачка
лил рассвет васильковый ветер,
тогда сердце, необозримо,
укрывало ночную прохладу,
словно день, тенистой дорожкой,
вился в мятной пластике ног,
словно кто-то дышал с нею вровень,
забывая считать секунды,
забывая считать минуты,
вспоминая лишь сны назавтра,
как прозрачную мягкость воды;
и души рыбацкая лодка,
проплывая сквозь призрак пространства,
к горизонту соседних окон,
растворяла вкус бледного солнца
в чёрной пене кипящего кофе,
и свободно, немного небрежно,
аромат полусонного взгляда,
рассыпался птичьей пыльцой
в переменной печали неба…
Модерато
Мы разделили пополам
цвет ночи, и ночную верность,
июльский хлеб, июльский дождь,
дрожь фонарей, ожог дыханья,
прохладу стен, камин, постель,
и раскалённый добела
восток зари, где птичий шелест
с ладошки лета тянет крошки.
Мы разделили пополам
сон в дымке облачных рогож,
и пробуждения молитву,
луч рваный на гардине утра,
беспамятство остывшей плоти;
и полустанков мерный ритм
в волнах безвременья, где нимб
сухого солнца с вкусом дёгтя,
и битого стекла ранимость,
бросаются под стук колёс.
Мы разделили, в мрачной охре,
в рутине серо-золотой,
вечерних туч последний вздох,
как поцелуй, как плач разлуки,
как возвращение домой;
как возвращение домой,
когда в пустыне парков, скверов –
ни шороха, ни дна, ни звука,
ни взгляда в полумраке встречном,
а, лишь душа, души ладонь,
ощупывая свечи окон,
лакает мотыльком огонь,
ложась на нежное предплечье.
Зазеркалье
Дышали снегом облака;
в тенистой келье ивняка,
чуть слышная вода
молитвенно застыла;
вблизи воды,
где травы спелись,
играя беззаботно,
как младенец,
слепая сфера неба
сапфиром раскололась;
и грезил ветер,
нагоняя
горячий летний сон,
что отражался драгоценной рябью
на чешуе зеркальных рыб;
и горизонта тонкий звон
рассвет сплетал в соцветья;
и юный лучик янтаря,
изящным пламенем, ронял,
в помол росы, испанский веер;
и жилистые тающие ветви
смиренно волхвовали над камнями,
раскачиваясь плачем берегов…
Нет, не буди меня, прошу,
(как ненадёжно пробужденье
и ветрена свеча)
я буду тихо ждать,
я буду там рыбачить
сетью слов,
пока июль скитается по свету,
пока не зарастёт эта печаль.
Уик-энд
Считывая пульс проводов,
маскирующихся
под шорох ветвей,
суббота сбивает с толку.
Летний город
растворяется
в капле свободного времени.
Мы уйдём от всего,
что скопилось под матовой охрой окон;
мы спрячемся
под крыльями-перьями
бродячих артистов,
в театральном дворике, в закулисье
разгорячённого полдня;
или в пустом прохладном кафе,
в полумраке скучающих глаз официанток;
или в сквере,
где монотонно тают
вспышки фотографов
на белоснежных платьях невест,
и где слышно,
как бьётся хрустальное сердце фонтанов,
как не торопятся мысли,
словно страницы
старых лимонных книг
в тихой букинистической лавке.
Смотри, за углом горизонта,
в болотной сырости стен,
тлеет глухая витрина июля,
пропахшая блюзом –
ты купишь там
браслет из агата,
цвета кофе глясе,
и мы сядем в первый встречный автобус,
чтобы развеять усталость,
чтобы найти, случайно,
вечерний дождь,
высвобождающий воздух
из объятий поздней жары,
для беглой ночи без сна…
Постимпрессионистический блюз
Небо, порванное на тряпки,
падающее в ливневый ворс пшеницы,
где крик жаворонка
раздирает
грудную клетку холста –
этот кусок земли, это всё, что есть у меня,
и ещё, пожалуй,
ветка цветущего миндаля
на горчичном, от солнца, столе.
Но мне видятся,
в тумане пустых полустанков –
рубиновые виноградники,
я чувствую
запах оливковых рощ после дождя,
и террасы ночных кафе
под левиафаном полночной звёзды.
Где моя поношенная голубая куртка
с серой фетровой шляпой,
где это кресло, книга, закат, свеча?
Я не прошу многого,
только оставь
шум моря, разбавленный едкой лазурью,
кукольный мост в Арле,
тёмно-синюю тень часовни в Овере,
связку подсолнухов, горсть табака
и немного вина,
чтобы отдать половину рассудка
за автопортрет
завтрашнего
одиночества.
Горный снег
Приходи в червлёные сумерки,
собирать со мной горный снег,
разбавлять тишиной шестиструнной
придыхание льда и воды.
Средь камней, беспросветных как ночь,
средь прожилок тропок седых,
мы декабрьский ветер отсрочим,
мы нагоним свет родников.
Золочённой скорлупкой ореха,
улыбнётся луна, беспричально;
ты не бойся соборного эха
и прохладного сна облаков.
Ты откройся этой печали
осязанием тихого взгляда;
и под сенью алмазного пледа,
помолись за разлуку и смерть.
Песчаная эфа
А дождь всё шёл, и шёл,
шепча песчаной эфой
по лабиринтам клёнов, лип и хвой;
и воздух пах арбузом, льном, клубникой,
немного хлебом, розами, вином.
Сквозь проблески листвы
я отпускал твой взгляд,
оставив,
лишь немного
росы свинцовой на ресницах,
и шёлк пшеницы
в ледяной ладони.
А дождь всё шёл, и шёл,
играя медью кровель,
и остывая недопитым чаем,
словно глухой водой заката
на тонкой рисовой бумаге,
а, может – каплей крови;
а дождь всё шёл, и шёл,
ваяя и сутулясь,
волхвуя, рвясь, подглядывая сны,
украдкой провожая боль,
а, может быть – любовь,
кому, что нагадал,
слепой рекой июля,
сквозь огоньки берёзовых трущоб…
Альбом
Сквозь дым дубрав
и облачную мель,
терял опору первый луч востока,
и целовал сентябрь,
янтарным ртом,
земли немые язвы –
ты
шла на балкон,
перебирать ладонью шёлк тумана…
Ронял хрусталь рассвет,
вдыхали свет аллеи,
и свет вбирал
тепло твоих волос,
будто растаял хмель,
будто дрожал камыш
на берегу пустом –
ты опускала взгляд…
Тлел ветерок,
листва взбивала волны,
в пастуший рог
трубил дождливый сон,
как эхо мёртвой ночи,
как созвучья
любви осенней,
что пророчат долгой ночью…
Сквозь дым лесов,
стынь, облачную соль,
гадало сердце за немой портьерой,
и целовал огонь
тмин простыней,
и тихо пели
руки над камином…
Сельское кладбище
На много миль вперёд
сказав, “прощай”,
и попросив прощенья,
глаза, опять, для слёз, чисты,
и воздух сладок,
для свечи
беззвёздной ночи.
Вдали холмы,
вздымая свои груди,
прохладным эхом
обесточив чуткий сон,
вдохнут бездонным притяженьем
шум овражный;
и белая кора берёз,
питая млеком
тусклый взгляд бродяжек,
зарубки слёз
любовно сохранит,
на много миль вперёд…
Оставив, на потом,
суды и пересуды,
пустого неба
многотонный плен,
прольётся, как кисель
осеннего тумана,
на тихие замшелые кресты,
на красно-бурые оградки
сельских кладбищ,
где учатся, воистину, молчать,
и сеять ветер
в дымовые трубы.
Послушник
Он вырвал с мясом боль и ночь,
разбив стекло рассвета,
он окунулся с головой
в кипящий жар души;
но ночь, как вошь, как шлюхи стон
в постели разогретой,
смеётся грязной тряпкой губ,
и тяжестью лежит
на срезе мутного зрачка,
на петлях ржавых шрамов,
где пустотой плюёт свеча
в глухой подвал рассвета,
где небо, бросив ляжки туч
на свой холодный мрамор,
достало солнца мятый луч,
и написало смерть.
Но из щелей червивых стен,
из всех продрогших окон,
течёт душа, как рожь, как степь,
как снов осенних плесень,
течёт к молитве, к куполам,
дождём свинцовых копий,
чтоб вечер вывел, бронзой рта,
евангельскую весть.
Силуэты
Я люблю, когда по-домашнему,
со вкусом дождя за окном,
и серо-лиловым небом
на влажном стекле;
когда дом
превращается в зал ожиданья
с туманной свечой плафона,
и сонная кошка, на спинке дивана,
считает тени июля,
под звон бриллиантовых струй.
Я люблю, когда без следа,
на размытых полотнах улиц,
в переменных проблесках окон
и дебрях подъездных дверей;
когда вечер –
проще младенца,
и уже,
не нужно спешить,
и оправдывать лень,
разлитую
протяжённым глотком вина,
укрытую, вскользь,
тяжестью мокрых ветвей.
Я люблю силуэт тишины,
и огонь головешек фонарных,
когда,
под кофейный дымок
и тёплый прибой покрывал,
приглушённой медью
сползающей ночи,
соль минор
прорывается в слух;
а вода и скука – к лицу,
на фоне уставшей души,
и нежно-мглистой печали
женских рук на плечах…
Спектр
Ты не спишь?
Хрупкие вишни,
на жжёной умбре земли,
уже медоносят,
в красно-карминовом улье заката,
тёплыми каплями сна;
а, за бледно-каштановой дымкой портьеры,
небо разлито
персидским синим.
Ты не спишь?
Ещё нет?
В тетради, песочного цвета,
вечер ложится последней строкой,
словно
чертополох многоточий,
словно
палевый абрис холодных берёз,
словно
бронза спящей травы,
словно
старое золото звёзд;
а, рядом,
рука об руку –
наброски теней,
на бежевой ряске обоев,
прорастают
голубовато-серым
на глубину мимолётного взгляда.
Ты не спишь?
Ты ждёшь полночь?
Я за тобой,
камышовой тишью летнего облака,
в кобальт и смоль
сморщенных крыш,
в придыханье погасших окон…
Ступеньки дождя
Научиться, просто сидеть,
И смотреть на дождь;
Если есть, что сказать,
Сказать так,
Чтоб никто не услышал.
Эпилог
Бесплотным
золотом августа,
созрело зерно заката;
виноградной лозой,
вяжет язык тела;
между страниц воды и травы
затаилась радость,
с горем напополам.
В мягком тумане листвы,
беспечно,
тянется-реет
взгляда постель,
плывёт по ресницам ветвей
непреклонное время,
гнездятся следы погасшего ветра,
и тает, что-то ещё,
молчаливо-лунное…
Когда сбудется всё,
что прописано в толковании сновидений,
что останется нам
на замшелых порожках лета?
Только, смотреть друг другу в глаза,
и ждать жёлтый дождь
под огненно-рыжим карнизом неба.
Просто,
считать минуты, пока не упала звезда
в осеннюю пустошь, и клёны
не сбросили ржавую кожу
на бледный гравий стоптанных улиц;
а дымок сигарет
или лёгкого поцелуя,
с подножки поезда,
не превратились
в поздние кадры
памяти
на влажных стёклах домов.
Что останется нам?
Просто, считать секунды,
маятник тихих шагов
в заброшенном парке;
и чтить
долгоиграющий вечер,
считывающий
остывающими губами,
материал
для писем,
медленно
разбавляющий,
словно терпким вином,
сердце,
прозванное,
одиночеством
до востребования…
Стекло
Всё, будто,
с чистого листа;
врачует холод;
расколотая ночь превыше сна;
луна,
прожилками палитры,
играет третий акт.
Всё стихло, наконец;
зрачок – кристаллик соли;
за окнами – свинец или туман,
разлитый, как вчера,
на вязкую основу
чёрных стен.
Всё с чистого листа;
всё – дар терпенья;
так будь моей,
и не ищи меня;
я, где-то там,
в словах, что растворяют
осенних листьев
свет;
я, где-то там,
в последних числах
лета,
что тают
от прикосновенья
рук,
и, где, так тонко,
обрывается дыханье.
Блажь
Вчерашний вечер – пыль с полей тетради;
рассвет – обман;
и я – остывший пот
чернильной кожи от захода до восхода;
такое время года – нелюбовь;
такая подлость сердца – межсезонье,
где смотришь в рот распахнутым аллеям,
и видишь сам себя на фоне
грязных луж.
Вся философия – вожжа под хвост,
не более:
и тлеет день, как сучья старых груш.
Мир в песчинке
И, в белом вермуте сползающей луны,
топил печаль, мой собутыльник, август,
укрывшись зубчатой листвой душистых лип,
и тёмно-влажной глиной
стянув речные пояса.
Цвела густая ночь,
ты проходила мимо
лениво тлевших окон,
и, будто, улыбалась
вслед штрихам ветвей,
храня, на уголках горячих губ,
вкус лёгкого дождя
и тяжесть пепла.
Мы провожали летний сладкий дым,
и, словно дети,
расходились по домам,
искать прохладу сна
и тёплый ужин,
теряя нить повествованья
в прядях
сквозняков.
Влага
Я пришёл к тебе,
а застал – дождь;
на холодных ресницах играла вода,
и следы на окне, словно спелая рожь,
превращали огонь
в бледно-ржавый туман,
превращали день
в мягкокожую степь.
Я пришёл к тебе, чтобы снова молчать,
из фарфоровых чашек пить посошок;
и венчать на царствие
жёлтый сентябрь,
и венчать, осокою,
сырость в глазах.
Я пришёл к тебе,
а застал – ночь,
что роняла чёрные слёзы ветвей,
что скрывала боль,
перейдя тишину,
а за болью – свет,
что укрылся от глаз.
Осенний ренессанс
Гадала осень на янтарной гуще,
и превращала, нежность губ, в цветок
на занесённой, первым сном, могиле;
на всякий случай,
приглушив огонь в камине
и перейдя на шёпот пресных туч.
Ты шла в немой пейзаж,
закрыв, беззвучно, двери,
одна, иль под руку с дождём,
а может, ветром,
на тусклый свет
разбитого стекла,
и будто плакала над каждым
сорванным листком,
согретая
горящим листопадом,
считая тени вдоль речного дна.
Гадала осень;
ты прощала холод;
и кончик взгляда,
как соломенный пруток,
играл в ладонях клёнов,
алой искрой,
и бриз тумана
теребил дверной звонок.
Летнее шоссе
Сквозь цепи сонных облаков
скользит, фуникулёром, лето,
а позади, плетётся ветер,
с горячей пылью на зубах,
смешав загар и свежий пот
полуденного света,
в ладошках воровато-худосочных.
Вдоль оспенной обочины –
вал придорожных тополей
скрепляя сухость рощ, полей,
рассеивает пепел
беглых кровель,
и обронив зёлёный пар,
волом вздыхает, он устал
опорой быть пространству встречных глаз.
Травы стихийный перепляс,
где шум воды, как грязь, увяз,
щекочет, стружкой, грузный банный воздух;
кренится солнца ржавый шкив,
земли мозолистый нарыв
хранит от глаз могильный ветхий холмик;
и память провожает нас,
как слёзы, как обрывки фраз,
бросая камни
под колёс слепые комья.
Сухие слёзы
Сквозь дым и прах горячих туч,
Как винный жар, ползёт закат твой;
Один лишь, тонкий горький луч,
Исполнив на стекле стаккато,
Тебе найдёт, чего сказать,
Облюбовав край ткани подле,
Где ночи чёрная печать,
Как верный пёс на смертном одре.
Пусть не находит вечер места,
Тебя никто не смог украсть;
Сквозь пустоту и голод сердца,
Мелькнёт слезой сухая страсть,
Но глаз холодных заусенцы,
Царапая железо век,
Найдут ответ, ответ известный,
Ты слишком хороша для всех,
Все эти – просто не достойны.
Оплавив воск, дотлеет нить;
Тебе никто не сделал больно,
И ты не сможешь их простить.
Последнее
Как львица в бронзовой саванне,
крадётся мгла
на рваной ране
неба.
Мы встанем рано,
с первым поцелуем
горизонта,
и обратимся в слёзы
из песка и пыли.
На загорелых спинах пальм,
мы высечем последние слова,
и жёлтый воздух,
огненным приливом,
сожжёт их ветхий хворост,
рассеяв нас
между кустарников степных,
как чистый пепел
погребального костра;
и чей-то голос
будет вторить,
знойным ветром:
“Воистину,
любовь сильнее жизни”.
Колумбийские фрески
Над Колумбийскими Андами
парит стрела кондора;
через влажный тропический лес
крадётся тень ягуара;
Магдалена впадает в Карибское море,
вдыхая
янтарную пыль Эльдарадо;
наркотическим трансом,
мокрый воздух
ползёт
через плантации
сахарного тростника,
через саванны и низменности;
три хребта Кордильер
пробиваются
сквозь амазонские ливни,
воскрешая мелодии
жертвенника,
где стрела кондора
падает,
лёгким пламенем,
в ладонь мертвеца.
Незаконченное одиночество
Ты видишь сны, и твои сны – весна.
Сквозь поволоку твоих снов –
латунь ветвей шагнула
на облачный порог лазури,
коралловые кровли утаив;
в тебе – несчастная любовь,
нашедшая прирученное сердце,
наркотик детства
на кармине губ,
и слёз ваниль;
всё вместе – как листва,
как васильковый бриз
твоих печальных глаз.
Ты видишь сны, ты чувствуешь движенье
нефритовой травы в своём саду,
и полуночно-синих акварелей
свет восковой
на стенах без дверей,
и дымохода чёрный снег,
как теплый ветер в поле.
Этюды на свободную тему
I
Из пурпурной розы
вырезав нежную смерть уходящего дня,
там где плачут тени горных ручьёв,
и скитается небо пустой мостовой,
мы играли в огонь и воду
на выжженных травах дорог,
а солнце, всего лишь, хотело покоя,
а позади
скитались голодные стаи волков,
приветствуя холод полной луны,
над полной грудью земли,
залитой пунцовой кровью…
II
В позолоченных косах ветвей
я осенним покоем дышал,
я бежал, не спеша, на восток,
за туманный багрянец гор,
где раскинулись ветра ключи,
где холодное море лежит
пеной горькой и ржавой водой,
омывая сердце зари.
Так скажи мне:
“Прощай, я с тобой…”
Так свяжи мне сеть из снегов
над уютным фасадом резным,
и укрой от свободы глаза…
III
Ты смотришь, сквозь облако осени,
застывшим прибрежным камнем
в зелёной плесени волн,
ты бросаешь невод молчанья,
ты ловишь сырую солому солнца.
Я полон тобой, словно опустошён,
и пальцы хранят скользкую память,
как глаза – тишину –
бабочку водной лилии
над взглядом зеркального карпа…
IV
И он шепчет:
“Господи, научи любви; Господи, научи любви…”
Подражание древним
Её дыхание – движенье облаков
над карими глазами Сан-Марино,
туман над дремлющей аркадой Альп,
ноктюрн адриатической лазури;
в нём, больше, чем могли вместить ладони
гиперборейских ветров и холмов.
Я чувствую скульптурный тонкий мрамор
её изогнутой спины
на кончиках своих озябших пальцев,
как чувствуют безумцы с мудрецами
крадущуюся смерть.
Она царит над возбуждением зрачка
последнего художника природы,
как сакуры опавшая листва,
несомая водой прозрачно-медной.
Её дыханье – моё сердце, тс-с…
и моё сердце – пересказ её дыханья,
обжёгшего осенней плоти глину,
зачатую штрихами фонарей…
Её шаги – листва со дна дождя,
вечерних свеч неуловимый танец,
в котором догорает жар пустыни,
в котором я – движенье облаков…
Шоколад, клубника, ваниль
Шоколад, клубника, ваниль
с остывающих губ сентября.
Посидим, поговорим,
пока тени не прогорят,
словно жёлтый дымок листвы
под болотной плёнкой дождя.
Посидим, помолчим у реки,
пока солнца чертополох
не вспрыснёт червонной росой,
словно тающий след мотылька.
Шоколад, клубника, ваниль
в очищающих слёзах берёз.
На прохладном плече – рука.
Под прохладным небом горит,
лишь лавандово-синий туман.
Лишь каштановых глаз печаль,
расплетённая розой ресниц,
залипает между страниц
одноглазых базальтовых луж.
Посидим, поговорим,
пока тени стучатся в дом…
Кружево
Сад мой полон печали –
осень склонила ветви
в его просторном доме,
сердце согрев дождём.
Холод листвы причалил
в гавань оконной клетки;
крыш черепичные волны;
сепия глаз, как сон,
что паутиной вышит.
Осень сгорает ветром,
сад мой – свечи олива –
тенью колышется ветхой,
нежным шафраном спит.
Листья мостят дорогу;
тонкий дымок безлюдный,
тропок немых, играет
на остывающих углях.
Тонкий листок кленовый
сердце не обманул,
всё расписав, как будет,
в тёмно-коралловых нитях.
Тлеющий август вяжет,
мятой выцветшей, губы.
В поле найду подкову –
будет на сердце радость.
В кружеве старом тумана,
новорождённый месяц
выглянет из колыбели,
ночь скоротают с младенцем
сосен безмолвные ясли.
Русский жанр
В глазах находит отклик скрип курсора,
скучнее свет, обветренней лицо,
за склокой губ – опрелый первый холод,
на шторах – осени шафрановый рассол.
Мурлычет блюз из стареньких колонок,
стрекочет вальс блошиного дождя,
душа кричит из-под сырых пелёнок
опавших листьев, и стихает, громоздя
на плечи ночи пьяную молитву,
слух обмакнув в утешный лай дворняг;
луна играет оспой желтоликой;
бездвижней плоть, дождливей встречный взгляд.
Уходит время, остаётся пыль и плесень,
уходит страх, или приходит смерть;
все предисловия когда-нибудь воскреснут,
чтобы опять, опять сойти на нет.
Преддверие
Летнее солнце
подглядывает
в замочную скважину
сентября,
словно, укушенная коброй, львица
беспомощно смотрит,
как гиены делят
её мёртвого
детёныша,
и нежная кровь
уходит
в зыбучий песок ночи.
Белым углём искрится листва,
словно губы Того,
к Кому нас приводит время,
нашёптывающие
судьбу, или сказку
над ухом глухих мансард.
Молитвенный дождь,
медленно,
опускается на колени
в патоку янтаря,
малахита и грязи,
окрылённый последним желанием.
Так горит на ветру
сладостный поцелуй сентября,
где каждая женщина
может сказать:
“Это – я”;
где усталый путник
падает в ноги
слепому дождю,
скрестив, будто пальцы, дороги.
Рельеф
Влажные крыши
вслушиваются в небо,
как большеухие лисицы Калахари.
Впалые щёки подъездов
заливает осенний сквозняк.
Луна набухает
диском встревоженной кобры,
и падет
в тектонический
разлом сердца,
странствующего, одиноким койотом,
по пересечённой местности
города.
Ночь взметается
крыльями беркута
над синей дымкой фонарных глаз,
и ты улыбаешься
вслед ускользающим ноткам
летней пьесы,
сыгранной без тебя.
Один на один,
поздней-поздней дорогой назад,
в разбросанных пазлах
окон,
ты ищешь мотив
безответной любви,
немного ветра и инея
для бледных осенних слёз,
для осенних аллей…
Там
Там, где дождь
будет идти всегда,
я топчу остановки,
постигая пластику луж,
как приметы первой любви,
считывая
с зеркальных витрин
полуденный триптих:
уныние осени в плесневом воздухе,
холод собственного
отражения
с тонкой струйкой дымка на губах,
напряжение скуки
в силках проводов.
Там, где взгляд
бросает лучик надежды
на мутные стёкла,
чьи-то руки
настойчиво
просят меня обернуться –
всего лишь, ветер,
играющий вариации Голдберга
на тяжёлых, от влаги, ветвях,
зовущий присесть на дорожку,
пока дождь подбирает чужие следы
и уносит прочь.
Сомнамбула
Лишь небо, кислым молоком,
лишь тротуары, влажной сыпью;
сентябрь бормочет бледным ртом
свои прохладные молитвы,
под угасающей травой…
На разъедающей палитре –
лишь парков грязная гуашь,
лишь скверов старческие жилы;
запруда сна, пустынный пляж,
уставших глаз сырая глина,
дрожащих рук скупой пассаж,
поймавший в сети прядь любимой,
или дождя неровный ритм,
где взгляд души – хрусталь вспотевший,
что отражается кромешно
в осколках луж, что говорит
на языке листвы сгоревшей,
и отдаёт шотландским элем …
Лишь неба чёрная мишень,
лишь глаз болотистая тина;
дрожащих пальцев паутина
ложится тенью на постель;
лишь слёз янтарных ожерелье,
лишь тусклой лампочки бронхит;
в час чернокнижья, в час молитв,
когда медяк луны подсвечен,
в кофейной гуще солнце спит,
губ полночь и любимой плечи
дыханьем нежным согревая,
как ветер – строй кариатид…
Тёплый туман
Слушай исповедь,
написанную
на осенних листьях,
собирающую с погоста
солнца –
слёзы берёз,
кленовый ветер,
холодную кровь рябин;
попутно считающую
капли дождя,
как нитевидный пульс
раненной львицы.
Слушай музыку
вязкого белого утра,
проветривая
туманом
дыханье,
пока ветер листает страницы
глухих остановок,
и за перламутром
листвы
плавно плывёт
ожидание первого снега.
Мы расстаёмся без грусти,
без сожаленья,
с верой в ушедшее лето
и ненадёжное завтра,
слушая
ржавый шелест
травы под ногами,
имея,
в беспамятстве жёлтых полей,
как в капле любви,
мгновенную смерть
и вечную жизнь.
Равноденствие
Останови меня
нежным прикосновением
беглых пальцев,
не оставляя выбора,
перед тонким, как вешний лёд,
молчанием глаз.
На расстоянии вытянутой руки –
прощение и прощание.
Тихими нотками,
в уголках потресканных губ –
прелюдия той весны,
где сердце билось талой водой,
и искры полуодетых ветвей
освещали полночный воздух.
Будь со мной,
пока не умрёт луна,
а вместе с ней,
и моё сердце –
кажется так
мы учились любить,
робко
ложась в постель,
расстеленную
равноденствием марта.
Скоро
Вечерний свет
льётся с уставших волос
слабеющим серебром сентября.
Плюс двенадцать выше ноля.
Порывистый ветер.
Рутина.
Молись за тех,
кто ненавидит тебя,
сердцем приветствуя дождь;
аритмией
падай в лужи
соседних окон;
пусть взгляд убегает
в туман чьих-то чёрных глаз,
как боль гонит лошадь вперёд.
Безмолвно
гаснет
близость
на кончиках пальцев,
роняя мягкую дрожь
в разлом тишины.
Молись за своих врагов,
я помолюсь за тебя;
не бойся собственных снов,
скоро выпадет снег,
скоро будет легче дышать,
будет легче остаться
вдвоём…
Важно
Как важно,
когда ты теряешь себя
в грустных глазах
напротив,
будто в пейзаж осеннего пляжа
падает сердце,
медленным сном
вбирая
холодные волны и ветер,
а на том берегу
весточка листопада
догорает огнём
под шелест дождя.
Как безнадёжно,
когда ты теряешь
жемчужную нить
повествованья
в промокших от слёз
записках,
и на влажном стекле
рисуешь
знаки вопроса,
эту россыпь
необратимых минут.
Как неизбежно
неуловимый вечер,
поступаясь своим одиночеством,
перерастает в объятья,
и вечная ночь
бросает осенний якорь
в гавани грустных глаз…
Вместо
В окнах – храм,
над храмом туман,
за туманом – осенний ангел
поджигает в скверах листву.
Вспоминаю росу
твоих глаз
под каркасом свинцового неба;
задуваю свечу
беспокойного сердца;
и ищу,
вместо взгляда,
могильник белых полей,
бледно-чайную пустошь дороги,
держащую курс
на бесплотную грусть
и тусклую память.
Поздний вечер
канет в молитву,
как в тихую смерть,
в светотени берёз
рассыпав засечки
шагов неприметных.
Вспоминаю –
губ твоих медленный свет,
влажный берег в сиянии хвой,
тёмных волн пустоцвет;
и ищу,
вместо встречи,
покой
на туманной границе дождя,
в оконечности дымки заречной.
Она
Плачет роза под запотевшим стеклом –
этот холод, больше чем смерть и надёжней разлуки.
В темноте кто-то, тихим движеньем, раскроет ладонь перед сном,
и в ладонь упадёт лепесток, как осенняя вьюга.
Кто-то спросит у стен, пропитавшихся смуглым дождём,
о грядущем, о прошлом, о тёплой печали во взгляде,
а в ответ, лишь пшеницу волос обожжёт сквозняком –
словно учит бессоннице вязь фонарей привокзальных.
Плачет нежность, напившись прохлады из матовых рек –
эта кома глубже самой глубокой могилы.
В темноте свежий ветер коснётся руки, и тяжёлый рассвет
упадёт лёгким пёрышком в сон, словно в сердце любимой.
Горсть
Она
похоронила холод
лицом к свече востока,
осыпав место погребенья
красной охрой.
Она
лепила нежность,
черпая глину
из источника
со сладостной водой.
Она
предсказывала ласку
по форме пятен масла
на поверхности
воды.
Она
поддерживала
толику огня
в садах блаженных,
навсегда
смирившись с тенью счастья.
Практика пустоты
Тишина замыкает цепь,
и количество,
переходит в отсутствие.
Он не знает о чём петь,
пока не взойдёт осень.
Он не знает кому верить,
пока не придёт разлука.
И на фоне мёртвых цветов –
он попросит дождя.
Закурив у стены, натощак –
он забудет свой угол,
забудет имя,
чтоб казаться полнее
на долю секунды;
и выронив страх,
или жизнь,
шелестеть колокольчиком льда
по первому снегу
полей,
затаившихся
в снах без начала.
Инкогнито
Ночь –
это ли не раскаяние,
это ль не грехопадение?
Ночь –
оказаться в той же утробе,
откуда был вырван временем
и втиснут в пространство крика.
Ночь –
слышать, как воют
столетние хвои,
словно ангелы отрекаются
от влюблённых,
от этих
бледных звёзд
в лавандовом воздухе.
Ночь –
видеть судьбу,
чьи глаза – сухие репьи,
но чьи слёзы – белое золото.
Ночь –
инкогнито,
уснуть под забором заката,
стократно
забыв значения слов
под наркозом осенней листвы.
Секвенции
Октябрь. Проводы солнца.
Утоляя голод,
расширяю границы опустошения.
В свечении бледно-жёлтого
плыву по течению,
стараясь выйти сухим из воды.
Жду свой зелёный,
от пробки до пробки,
пока дождь треплет нервы
обглоданной флоры,
заметая следы на сетчатки,
и зачищая
перспективу
для первого снега.
По законам жанра –
лучше б меня здесь не было;
но здесь – самая лучшая
из
альтернатив,
как докажет, со временем,
переплетение сплетен
в пресной мемуаристике памяти.
Низко-низко,
в плесени луж,
склизко-сизое небо скорбит;
гнилое дыханье Упы,
порывистым ветром,
бьётся о берег сердца,
словно просится на руки;
осень, шурша газетной бумагой,
чадит по-отечески…
Бесконечность – не меньшая скука,
чем распорядок дня;
распорядок дня – не меньшая истина,
чем безразличье осеннего вечера,
чем хрустальная влага на кромке ресниц,
засыпающей, в одиночестве,
женщины.
Нагота
Луна,
взглядом большой серой совы,
приоткрывает нагую плоть
на атласной постели,
словно
чистоту и холод
свинцовых белил,
словно
точку пересечения
двух бесконечностей –
внешней и внутренней,
дня и ночи,
где
существованье –
безбрежное предвосхищение,
застывшее время
у жертвенника любви;
где
нагое сердце –
зыбкая незабудка,
вышитая на платье
полночного ветра;
где
молодая душа –
венозный узор
моря
в капельке
солёного пота;
и первая ласточка солнца –
остановка дыхания
на пути к совершенству ночи.
Элементы нежности
Когда прожитое, как на словах, мгновенье
растает в негативе зимних слёз,
когда закуришь у молчащего камина,
или, без спроса, влюбишься в печаль,
и, словно чай, остынет сердца сладость –
увянет всё, забьётся, только память,
как искалеченный солдат на поле боя,
в разводах льда, в ладонях злой метели,
где серебром сквозным расколот воздух.
И нежность обратит свой тихий голос
в тоску по снам без лишних сновидений,
в бессмертный снег и пустоту пространства,
стирая призрачные грани синих сосен
и оставляя розовый дымок.
Воск
Холодный дождь,
хрустальным языком,
ласкает оспины асфальтовой дороги,
остатками слюны
питая голод глаз…
Душа, как воск,
течёт смиреньем праха
под жестяным горбом дымящих кровель,
шепча неспешно в уши дымоходов,
как будто просит чаю с молоком…
Глухая осень
чистит пёрышки у кромки
болотных облаков,
спит на соломе ломкой,
мечтая встретить руку Левитана,
не отвечая на входящие звонки…
Холодный адрес,
взгляда неизбежность
почти закончат холст,
остыв в траве железной;
я принимаю, осень, твою нежность,
и забываюсь,
чтобы сохранить
слезой замёрзшей,
в воздухе ночном,
луны погост,
как памятник молитве,
как память влажных глаз
у стен размытых,
как губ свечу
в свеченьи тихих фраз…
Струны
Частица света в смоли глаз –
солнце моё.
Сердце моё –
влажная роза
под жёлтой простынью плоти.
Замирает душа тополей
вдоль оврага,
и в беспредельность плюёт
полураздетыми кронами –
это моё “прощай”.
Господин Никто
Время безвременья
срывает банк –
закулисная ночь, занозистый ветер,
закоренелый парк,
заросль погасших окон,
затворничество чердаков и крыш,
заражённый осенью воздух,
защёлка
стальной тишины…ть-ш-ш-ш-и-х…
Чуть слышно,
крадётся мышью душа,
перебирая зернистое небо;
высокоствольный рассвет луны,
затянувшись муаровой раной,
сны вышивает
на коже облупленных стен…
Присядь на дорогу,
наслаждаясь последним вздохом
печали.
Пусть огонь-златоуст,
с зыбкой поверхности глаз,
намекнёт
на господина Никто,
шелестящего своей тенью
у обочины мира
в поисках первой любви,
в поисках истинной боли,
на сломанных крыльях
зимних цветов…
Пропись
Там, где дождь заметает следы,
там, где ночь упускает из вида,
будто тонет что-то внутри;
за фольгою воды – дна не видно…
Скисших луж городская роса
берёт в клещи свинцом многоточий,
незаконченных фраз пустота
подметает промозглую площадь.
Светотень пожелтевшего сада,
переплавив палитру на грязь,
с чертежами панельных фасадов
срифмовала арабскую вязь.
И за всей этой пошлой тоскою,
горизонт подтянув, дышит осень,
а поодаль – мальчишка босой,
это я, и в руках моих – пропись.
Тиховей
Текут деревья на восток,
Иисусову молитву вторя,
плащом янтарным согревая тени.
Листва, реке вдогонку,
письма шлёт.
Инициалы ветер
оставит на воде.
Седой камыш
присядет на колени.
И ты поймешь,
что камни, тоже дышат.
И ты увидишь
в капле слёз –
рассвет;
и мудрость старика,
в сухой коряге.
Огонь зрачка
соломой прорастёт;
бумага прогорит,
слова землёй осядут,
приоткрывая талию души,
словно берёзовую тишь.
Ты выйдешь в сад,
но встретишь, только эхо,
считающее, сонно, этажи
холодных облаков
над журавлиной шеей.
Ты вырвешь сердце,
чтобы слушать стук дождя,
и блеклый пульс развеешь над рекой
дрейфующим туманом.
Септаккорды весенней воды
Голод оттачивает обоняние.
Септаккорды весенней воды
импровизируют
с нервами, сексом и алкоголем,
в сотнях редакциях сердца.
Больше, больше заборов,
чтобы пройти насквозь!
Красиво, но бесполезно,
примеряя смертельную дозу
перед кривым зеркалом,
кто-то громко тоскует
о карьере великого странника.
Стихи, для чтения про себя,
как последнее детство,
возвращаются
к, заслушанному до дыр,
берегу моря.
Опускаясь на дно,
между водорослей проводов и тел,
последнее слово
высматривает
в землистых зрачках и шрамах –
протяжённость прекрасного.
Холодной росой,
на лбу,
проступают капельки пота,
звеня:
”Помни –
то, что делает нас сильнее,
иногда убивает,
обернувшись смертельной усталостью глаз,
опаздывающих
на разговор по душам
в тихом баре…”
Хинодэ*
I
Семнадцать строк
до восхода
солнца.
II
Часть первая. Вечер.
Провожая взглядом
последний автобус,
свой голос
ему оставлю,
поставив безмолвную точку
под пагодами
восклицающих сосен.
Часть вторая. Ночь.
Листья шуршат под ногами.
Звёздам, глаз не сомкнуть.
Кто-то должен не спать.
Часть третья. Утро.
Тающая луна
за спиной.
Разгребая туман,
смотрю
на горизонт,
на восходящего солнца колос.
Сердце – хлеб-соль.
III
Время листает пыль.
Расставляя слова по местам,
жду заката
в офисе.
Хочу опоздать
на последний автобус…
* - восход солнца (япон.)
Центр тяжести
Центр тяжести –
мягкая поступь кошки
в тихом вечернем свете.
Сердце уюта –
тёплый бокал вина.
Для полноты букета –
прядь женских волос
на пальцах.
Невольно
обманываю себя,
что так было и будет.
Но пепел на чёрных висках
бесцеремонно
падает на пол.
Прохладно.
Время пить чай.
Разглядываю
пурпурные капли вина
в области сердца
на белой рубашке.
Не отстирается.
Минуте молчания
в рамках минуты
становится тесно.
Мягкая тень кошки
теряется за портьерой
осеннего занавеса.
Октябрь
Закат, нежнее зверя,
ладони, тяжелей свинца,
шлейф от дождя на шее,
осколки багреца
с посмертной маски солнца –
нас выучат полыни…
Дорога, шум колёс,
болотный ветер,
холодный пот ветвей, прохлада глаз –
всё то, что стало
этим днём, отныне,
раскается в утробе зимних ласк…
И тают миражи
поверх стекла,
в холодном алом,
еле уловимом…
Река текла
усталым взглядом,
тенью
голодного и загнанного зверя,
через распахнутые двери листопада,
чтобы наполнить отраженьем
облаков
глаза души
и тёплый воздух сна.
Сепия
Мы приходили посмотреть на одиночество,
похоронившее мелодию в тумане,
под чёрной маской скрывшее оправу
дождливых губ и северных зрачков…
Прекрасна полночь, если рядом – никого,
как будто ветер сам с собой играет,
и все цвета – единое пятно,
и все слова – лишь волны на песке.
Мы приходили выразить признанье
сухой траве, смотрящей солнцу вслед
и выцветшей поэзии аллей.
В размазанном движении реки
глаза искали ускользающее небо,
и лёд терпения окутывал ресницы;
и мглистый дым уснувших тополей
струился под ногами тихим свистом.
Оптические иллюзии
Холодная девочка Ночь
ложится в мою постель…
Эти горькие губы…
Глаза – чаши янтарной тоски…
Актриса, сыгравшая дождь
на лиловом небе.
Идеальная женщина
с именем Одиночество
под чёрной шёлковой блузкой…
Это мягкий блюз,
мягкий, как расплавленный воск
на пальцах нежных любовников…
Холодная девочка Ночь
падает на спину,
как сквозняк в разбитые окна,
бросает винную прядь волос
на ледяную грудь,
и тает за ширмой
тёмно-лазурного ветра;
оставляя
лёгкий постскриптум,
поцелуем зари,
на горьких губах
цвета запёкшейся крови.
Я нащупываю
дрожащую
тень от плафона
в тишине шерстяных одеял,
я пишу на осенних листьях
элегии холода…
Катарсис
Ветер падает на кровать,
на одеяла
из осенней листвы.
“Тибетская пустошь надёжней
красок Монмартра”, –
шепчет листва,
по горло сытая
влагой
с грязных подошв неба.
Невпопад попадая взглядом
в прокуренный ритм ветвей,
делаю своё дело –
пью на последние,
и наслаждаюсь безденежьем
с полным правом;
ведь сердце должно стучать,
суконкой мышц
под мокрой одеждой
души,
нежно и безвозвратно,
как первый снег
на ладонях вандала.
Тайна
Холодной плёнкой темноты покрыты окна,
и темнота роднит тебя с желаньем,
и ты боишься темноты, словно дитя.
Тебя знобит, и ты скрываешь дрожь
за маской каменного сердца, что молчит,
переполняемое криком одиноким,
молчит, как море, утаившее прибой.
Ты смотришь вдаль, даль входит в твою плоть
прозрачной наготой, где только – поле, небо,
слепая глубина пространства света.
Глаза твои вмещают больше, дальше,
чем могут видеть, знать и даже ждать;
а ждут они, почти всегда, зимы.
Подтало-рыжий абрис облаков
сползает маслом в лезвие зрачка,
и ночь берёт своё –
ты снова вспомнишь лето,
но лето вспомнит, лишь осенний сон
и выцветший подсолнечник луны.
Дегустация
Под небесно-облачной известью
осенний ветер
проверяет на прочность
листовое железо кровель,
приглашая голодные рты дворовых овчарок
на дегустацию пыли.
Когда-то здесь были леса,
не те, что накрыли фасады домов ржавыми струпьями
строительно-
ремонтных работ,
а изумруды и родники на полудиком теле земли.
Свидетелем – пыль, лучший из краеведов;
пыль на моём лице, волосах, руках и ногах,
ласкающая тротуарную плитку, когда садишься в автобус,
когда переходишь, негласно, на “ты”
с пчелиным роем мерцающих окон,
зажигающихся от пустоты
и гаснущих в безукоризненном одиночестве.
Свидетелями –
осеннее сердце,
разгадывающее перекрёстки,
словно сухие кроссворды,
и разрывающиеся снаряды
проблесков светофоров,
что падают трёхцветным огнём
в окопы уличных пробок,
как в океан,
величественным дыханием,
приподнявший
сине-зелёные крылья
над сгорбленной тенью безмолвного дна.
Мозаика
Любить, как рубить с плеча,
под самый корень древа познания,
вслушиваясь до глухоты
в колокола кувшинок
на, подёрнутом ряской, пруду.
И тонуть, тонуть, тонуть!
Любить, как взойти на плаху,
чтоб голова пошла кругом,
чтобы нервы, как звуки лютни
играли в медвяной росе слёз,
чтобы, лишённый всех прав,
наконец заглянул в своё сердце.
Иначе к чему, к чему, к чему?!
Любить, как принести
вязаное лукошко
лесной земляники
к порогу декабрьской ночи.
Wake up! Wake up! Wake up!
За дверью
шелестит свежий воздух
полураскрытой книгой
с иероглифом “сердце” на мягкой обложке.
Падай в полночный обморок
прозрением юной души и плоти –
не зря падение называют свободным.
Осенние тени бросают якорь
в капле горячего пота,
вода – значит жизнь.
Любить – как смотреть на воду,
у подножия
первых лучей солнца.
Без вести
Дополни моё одиночество.
Падает дождь на холст.
Дополни моё одиночество.
Пылью шепнёт дорога.
Где ты, моё одиночество?
Плачет луна в воде.
Где ты, моё одиночество?
Пылью земля остывает.
Где ты, моё сердце?
Просит олива ветра.
Где ты, моё завтра?
Море роняет разлуку.
Прости мне моё сердце.
Гаснут глаза от пыли.
Прости мне моё завтра.
Дождь набросает записку.
Где ты, моё одиночество?
Буквы блеснут позолотой.
Где ты, моё одиночество?
Звуки достигнут молчанья.
Где ты, моё сердце?
Ночь раскроет ладони.
Где ты, моё завтра?
Дождь упадёт на рану.
Моно
Октябрь на улице Октябрьской
прорезался, напоследок, случайным теплом,
и скрылся, где-то в районе Октябрьского посёлка.
Круг замкнулся – выхожу на конечной. Цежу сухим ртом
влажный воздух. Ржавой тесёмкой
рассвета подогреваю взгляд. Мало-мальски
приветствую стаю блаженных дворняг у дверей офиса.
Искореняю вопросительную интонацию,
отбивая вечный дождь в голове.
Жухлая тень старенькой груши
валяется
на мокром асфальте;
отпечатки её пальцев ласкают осенний воздух.
Подберу. Пригодиться
скоротать одиночество или бездушие.
Скрежет листьев, не первой свежести, заставляет смеяться
над собственным благополучием,
дёргая зрительный нерв
матовых окон, которые помнят ещё
лучшие кадры
позавчерашней осени.
Хочется выспаться, но время встревает бессонницей,
остаётся –
говорить, говорить, говорить,
не говоря ни слова,
и хоронить табачный туман
в колбе охрипшего голоса,
как последний глоток безволия.
Мираж переменного неба –
низко-низко, вязко-вязко…
Октябрь на улице Октябрьской, развеяв охру,
скрывается, где-то в районе Октябрьского…
Chaussee*
Склонили кисти, над немой травой, берёзы,
как ангелы над грешником льют слёзы.
Ты созерцания полна, и ты грешна,
ты безутешно молчалива, ты нежна,
что осени холодные запястья;
и тонет вечер в облаках твоих волос,
и падает в глаза червлёной мастью,
зарю бросая, как собаке верной кость.
Ты сумраком оденешься по-царски,
на землю ляжешь, словно кроткий пух,
глаза сомкнёшь, тебе нашепчут сказки
туман шоссе и неба чёрный круг.
Совьётся холод под твоей одеждой;
ты созерцания полна, пока незрима;
промедлит сердце, утаив стократ надежду,
но сумрак в венах вспомнит, как любила.
Прольётся свет, из чаши звёзд, на город,
и ты вонзишь последний лучик счастья
в холодной плоти тонкие узоры,
как в осени холодные запястья.
* - шоссе (фран.)
Легко
Чёрным вороном город закружит,
фонарями проспект прошипит,
ты согреешь полночную стужу,
разбивая дыханье о ритм,
ритм ветвей, заплетённых в созвездья,
проклинающих каждый рассвет,
ритм обочин слепых, пульс прозрений
сквозь тяжёлый искусственный свет.
Всё избито, как же избито,
так доступна печаль твоим снам;
ты кладёшь макияжа иридий
на лоснящейся кожи металл.
Разжигая проторенный голод,
обливаясь, как талой водой,
жадным смехом, вином и свободой,
ты уходишь сегодня со мной.
Тебе страшную тайну открою,
словно дверцу, не глядя в глазок,
занимается тело любовью,
зарывается сердце в песок.
И насытившись плотью горящей,
снова сердца тоску себе взвесь,
ведь, как будто, живёт в настоящем,
но окажется, дышит – не здесь.
Гравюры
Аромат остывшего чая.
Натюрморт из грязной посуды.
За окном – дождливо. Скучаю.
На столе записка: “Целую”.
Сонный взгляд высыхает олифой.
Ртуть зеркал отливается в нежить.
Наслаждаюсь будничной рифмой,
чтобы сдохнуть от скуки нежной.
Неба ткань листопадом пылится,
прорываясь подкладкой снежной.
Набивается скупость мысли,
словно время для размышлений.
Отплывает туман ржавой баржой.
Передержанный воздух, как плесень.
За стеклом – промозгло. Не важно.
На столе записка: “Повесься”.
Виньетка
Спят поцелуи в крапиве.
Ветер агатовый топчет
травы объятий недвижных.
Липовый мёд твоих губ
тает вечерним солнцем.
Плечи, ветвью ракиты,
падают в чёрную воду.
Сон похитив, разлука
вырежет взгляд из камня;
ты забросаешь камнями
танец луны-магдалины,
чёрный нектар прольётся.
в спящий бутон дымохода.
Эхом тумана накроет
шёпот могильных холмов.
Ты заберёшься под кровлю,
к зеркалу тусклого неба;
матовых звёзд амальгама
сердце твоё срисует,
голову вскружит протяжный
ржавый волчок созвездий.
Песни цветок ароматный
розой раскроется вешней,
стебель сорвёт чёрный ветер,
голос рухнет на землю,
и прорастёт слезами
северного тумана,
спящей крапивой губ,
утренним поцелуем,
потом холодным земли
у одиноких объятий.
Старик Ла-Морт
Сквозь седые глаза старика
опускается влажная ночь,
как горячий прилив
последних слёз;
в раковинах его морщин
плещется
солёное море чужих голосов,
далёких, как юные руки матери,
раскачивающие люльку с младенцем;
в чертополох его бороды
вплетены георгины
двадцати пяти тысяч восходов солнца.
Он стоит на ветру, чтобы смыть запах смерти
с медно-бледной сорочки кожи;
с хриплой гармошки прокуренных губ
он кладёт пожелтевшие листья дыханья
в конверт без обратного адреса,
и наклеивает
коллекционные марки
воспоминаний.
Сквозь седые глаза старика
доносится вечная ночь,
горячий закат, покрытых смирением, плеч,
одиночество толкователя сновидений,
лишённого привилегий сна;
в неводе его морщин –
улов из останков бури,
сдавленной
между жабрами
солёного бриза
и плавниками вечернего солнца.
Он стоит обнажённый, как медь,
собирая, полынью пальцев, тяжёлые брызги зимнего моря,
причастившись пепла седых волос,
провожаемый маятником
одинокого сердцебиения.
Колокольчик
Слух поверяет себя пустоте
глухих перекрёстков –
какой тонкий почерк
на фоне свечи тишины!
Ночь соскребает
третий слой грязи,
и ты никому не нужен,
а значит –
верен себе.
Куда же спешить дальше?
Луна, докурив в лужице света,
скроется пеплом
в золе
чёрного облака.
Ветер волоком,
сквозь сапфировый холод,
протащит
рваные крылья воздуха,
нежно звеня за плечами.
Дзинь-дзинь дон!
Ночь стучит по карнизу,
словно сердце
путающееся
в показаниях.
Боль, что надёжнее
тысячи обещаний,
остаётся твоей болью.
Воздух бронзовых крон
Осенняя полутьма –
страницы забытой книги.
Чешуйки асфальта, рыбьи
глаза дождливого неба.
Тумана застывшая пемза
на кальке точёных берёз.
Зари проталина, сера
вдоль смальты дорожных полос.
Змеиная кожа да кости.
Ноябрь подбирает слова.
Осенняя полутьма.
Лакуны осеннего солнца.
Рассвета ржавая оспа,
как автопортрет в углу.
Свечи поминальной проседь,
поддевшая ветра золу.
Скрипицей натянута осень,
соломой седеет рассвет,
ты тёплого слова попросишь,
но ветер сведёт всё на нет.
Прохлады вечерней корица,
травы сон, как дым папирос.
Закат поравняется с птицей,
душа полетит под откос.
Азалия
Пылает даль
безмолвным криком.
Тоньше пыли
крылья чайки,
упавшей за горизонт.
Призрак луны на воде
раскрывает тайны зеркал.
Морским узлом
связан мой голос –
он не рассказывал
никому никогда,
как одиноко море,
как азалия сердца
доступна
ночному бризу,
как краток миг
случайного счастья
(вдох-выдох),
где солнце,
цвета Мадеры,
целует уставший песок,
и поздний взгляд,
словно вереском,
прорастает сквозь звёзды
на взгорье чёрного неба.
Нюансы
Вест молчалив. Залив кровав –
ни жив ни мёртв – Халиф на час.
Альков зрачков – столетний вальс.
Ветров анклав, впитав шлейф трав,
треф уронил на холм души,
сбегая вплавь и тая вширь.
Золотоглав песков рельеф;
он был таков, он тенью стал,
когда спросил: “Жива любовь?” –
и отвечал себе же сам:
“Жива, как сон, как стон, как боль,
как семь потов на небе алом”.
И звуков сев, и зов волхвов,
ночь расколов, дров наломав,
прилива блеск, утёса кровь
покрыли богословьем пыли.
След дня ленив. Душа, как соль,
жива, как сон, нежна, как ветвь,
влажна, как вспаханная нива;
и бригантины облаков
свинцом лежат над жнивом волн,
без рулевого, без ветрила.
И глаз твоих горячий шоколад
И глаз твоих горячий шоколад,
и губ имбирь – декабрь округляет
до абсолютного нуля, до ноты си-диез.
Пространство набирает серый тон.
Ты влюблена в природу
мёртвого звучанья,
и на улыбке ставишь крест, как подпись.
Снег распускается в садах
монгольским кашемиром,
и жёлтой медью солнце отдаёт.
На подоконнике цейлонский чай
выводит розу в воздухе
дымком душисто-крепким.
Всё кончено – так набирайся сил,
чтоб снова тратить ожиданья и мечтать,
пока в окне, словно по клавишам рояля,
с ветки на ветку прыгает сорока,
и плед скрывает мир от твоих глаз.
Морская пена будет твоим плачем
Морская пена будет твоим плачем,
лесной родник – последней каплей крови,
и ветви сосен – мятным сном ресниц,
и кельей – ночь, с евангелием оста.
Росы хрусталь пусть будет твоим блеском,
пшеничный ветер – поцелуем легким,
и вкус дождя – вином с лозы июля,
и берегом – туманный полумесяц.
Пусть будет ночь тебе прощальным взглядом,
цветок зари – сомкнутыми устами,
и красный клён – холодной тенью сердца,
и кронами – лазурный ток Плеяд
в созвездии Тельца на чёрной сфере…
Аз, Буки, Веди
I
Доносится
хруст тростника
(это сердце сковало льдом).
Шелест осоки
тенью ложится на дно.
Мутные волны перебирают –
“Аз”, “Буки”, “Веди”, “Глаголь”,
и выбрасывают нежное имя
на берег змеиного логова,
имя твоё,
моя возлюбленная
Ева…
II
Моя мечта –
ползти виноградной улиткой
по белоснежному склону Фудзи,
и застывая венозным ясписом
на самой вершине,
срывая ухмылки пепельных облаков,
бросать их
на темя туманного дола,
как лепестки роз,
крича вдогонку:
“Всё-таки, есть небо!”
III
На небе сгущаются тучи,
будто дым
всех выкуренных сигарет
возвращает долги.
На старом кладбище,
неподалеку от берега осени,
надпись ветром:
“Входите без стука”.
Мёртвые любят
переслушивать дождь;
живые –
переспрашивать мёртвых,
и признаваться последним в любви.
IV
Сколько слёз в твоём сердце,
столько звёзд
обожествляет разлуку,
серебристо-серым колье
отражаясь в чёрной воде.
Столько слёз в твоём сердце,
что дождь заснул на камнях,
словно
надломленный ствол тростника
в полночной пустыне.
Зимовье
Снег и свет на подоконнике дышат душа в душу.
Кельтская меланхолия. Сердце вздрагивает шорохом птиц.
Зима прорастает узором папоротника на замёрзшем стекле. Слушаю
пульс ленивых часов, разбивая о белую тишину глиняный сосуд голоса. Искра
ласки, высеченная полднем из рудожёлтого камня солнца,
падает на черепки волглых девятиэтажек, шихтуя вспышки-тени
немых занавесок. Традиционность, бледная, как бумага, сдавливает полусном
ледяную пустошь ладоней. Собираю чёрно-белую мозаику неподвижного тела
в один большой легковоспламеняющийся архив,
и подношу искру ласки. Праздники нагнетают скученность красок,
но, в сущности, скученность – слепок с лица одиночества, где шорохом птиц
дрожит промозглое сердце, и, разлетаясь в пух и прах, брякает ржавой связкой
ключей на подмостках прихожей.
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
В сугроб лица. Оборванные строфы
в сугроб лица
падает медленный свет,
натягивающий венозную плоть заката
на косный скелет горизонта
за барными стойками доминошных столов
разливают
рябину на коньяке,
и закусывают
лимонными дольками солнца
с оголённых, как лёд, проводов
свисает запад
нежно-свинцовой прохладой
медный цветок облака
струится ржавой пыльцой,
питая свой призрачный корень
алкоголем вечернего воздуха,
словно десертным ядом
в глазах подъездных лампочек
отражается завтрашнее похмелье…
холод постели
запирает чёрную ночь
беспокойной фантазией шлюхи
не продохнуть –
смола стекает по серебристой коже зеркал,
бронзу губ обволакивает
патина
лунного пламени
ноябрьская луна,
гематомой
туманного взгляда,
шлёт всё ко всем чертям,
и даже чертей, к их собственной матери
завтра рано
вставать
Пыль
Всё, чем стоит гордиться –
это пыль, пыль, пыль, и ещё раз пыль…
Всё, что есть у тебя –
это чистейшей воды проза,
смирение в похмельных глазах,
и ночь за углом, как чёрт за калиткой,
бросающий острые камушки звёзд
в сдержанные колокола
окон.
Всё, что есть у тебя –
чёрное лукавое сердце,
сжираемое безмолвием,
благословенно плетущееся
по душным равнинам и прериям,
стыдливо прикрывшись,
грязным бельишком листвы.
Чёрное лукавое сердце,
ты можешь быть хоть алмазом,
хоть диким шёлком
для сотни, другой простодушных,
но для желтушно-сырой подворотни –
ты, всего лишь, мускульная котомка
в левом отделе грудной клетки,
мышка-нарушка
в локонах ядовитой змеи,
облачко запёкшейся крови
на грязной одежде.
И, пожалуй, единственное,
что стоит иметь ввиду,
говоря о бессмертии в полуподвальных комнатах
борделей и рюмочных –
это дрожащие пальцы осеннего равноденствия
над языками костра,
это нежные слёзы пыли,
нанизанные
на излучины мокрого ветра,
и что-то ещё, что теряется,
и забывает слова
в складках луны,
словно в вывесках придорожных отелей.
Филомела
Флейтовый слог, ивлев свист,
водопойные и луговые дудки,
ласкающие барабанные перепонки
рельефной листвы…
Мелодия соловья –
это всегда мелодия соловья.
А я подбираю в овраге чужой голос,
(худшее, что может случиться
в жизни),
и кладу его прямо на сердце…
Она говорит про любовь,
смотря на грязь под ногтями зеркал,
а после, уходит, лаская ступеньки
нетрезвой походкой,
и я кладу её прямо на сердце,
рядом с чужим голосом,
ощущая горьковато-сладостный привкус.
Под железной лазурью неба,
в замшелой пивной,
где подают дешёвую водку,
где царит нежный ад
в исповедальных междометиях
прокуренных губ,
ив-ив, уить-уить, пью-пью –
мелодия соловья,
сквозняком беспокоящая
глухоту
оливково-зелёных салфеток –
это всегда мелодия соловья.
Она говорит про любовь,
снимая вязаный свитер и джинсы,
похотливо тревожа
ряску бледно-зелёного пододеяльника.
Может быть она счастлива?
Может быть даже,
она слышит,
закрывая пьяные
кораллово-красные глаза,
в плотных дебрях кустарников и травы,
среди гнилых, болотистых мест,
как приземисто сидя на ветке
и опустив крылья,
импровизирует Филомела.
И я кладу её прямо на сердце,
рядом с дешёвым вином
и болотными лилиями,
пока ночь догорает стоватткой
в проёме двери.
Зелёный
Ветер, как струны лютни,
перебирает
провода;
на автоответчике – дождь со снегом;
позднее ноябрьское солнце
прорастает
комнатным цветком;
кончики пальцев
ландышами
звенят от холода;
круги, под обветренными глазами,
довольно скверно
претворяются маргаритками;
батист тумана, муслин облаков –
интерпретация бесконечна,
формулировки – бесплодно-призрачны.
«Ты настолько желанна,
что не можешь не быть одинокой…
Заходи на кофе
с коньяком,
мы так редко видимся», –
говорю первой встречной…
Ветер, как струны лютни
(кажется Бах);
позднее ноябрьское солнце
(шалфей или календула);
пыль на ботинках
похожа на исповедь;
кончики пальцев
теряют чувствительность
в туманном воздухе,
в уравнениях улиц и лиц
с десятками переменных…
Красный
Она скользит по делам,
как капля дождя
по шоколадно-коричневым веткам
(извечная тень чужих взглядов),
и, кажется,
так будет всегда,
пока будут писать стихи
на бумажных салфетках
осени,
и она,
всегда будет рядом
с теми,
кто смотрит ей в спину…
Реггей
В ритме реггей падает первый снег,
словно пишет стихи седовласый старец,
и бросает на землю сырые строчки.
Веет эхом. Бледные вены – и смех и грех.
Реквием, нежнее осеннего вальса,
заливает палатки цветочниц.
Первый снег – благозвучное бла-бла-бла.
Пунцовые кисти рябин приправлены
пергаментным мехом. Известковые тучи
шуршат над восковыми домами.
Ослепительная глухота пространства,
словно вскрытая раковина моллюска.
Засыпая не чувствуешь боли.
Время крошится мелом, рисуя облако
на небе, цвета асфальта.
Прохладные волны в ледяной кулак собирают волю.
Бьёт задумчивым колоколом
ржавого крана последняя капля.
В ритме реггей остывает проезжая часть,
остывает дыхание, паровым сгустком
сваливаясь с губной перемычки.
Зевающий ветер играет безлиственной пастью.
Терпение – как шестое чувство.
Движения губ – пустая привычка.
Морская болезнь
Я снова брошен в море,
приписанное кисти Айвазовского,
изломанный челнок,
худая шлюпка,
что отдаётся шлюхой
зелёно-фиолетовой волне,
и тонет в мёде грозового неба,
и в меди хлёсткого норд-веста
щепкой тлеет.
Я снова, погружением зрачка
в холодную изрезанную рану
стенающей марины,
чернила памяти вечерней разливаю
по первым строкам Книги Бытия.
Туманный брег к гортани ночи липнет,
я слеп от брызг и криков синевы;
я снова брошен, как комочек глины,
в печь раскалённого холста,
где кровь моя –
солёная вода,
и жизнь – минутный ветер.
Огонь луны, бледнеющий как смерть
на фоне черепков фрегата,
где винный лучик неба, лишь мираж,
отслужит панихиду,
став туманом.
В морском котле, кипящем маслом света,
я обретаю тишину
и нежность слов,
я снова вижу кораблекрушенье,
и сердце омывает тишиной,
и проступает соль на хлебе плоти.
Каприс
Словно вскрытая рана
прорывается
голубовато-серая кровь зимы
из-под сна заливных облаков.
Скрипка снега играет
двадцать четвёртый каприс Паганини.
Ветер застрял в ветвях
росписью по керамике.
Швейцары дорожных столбов
приоткрывают глаза,
анонсируя рыхлой суглинок ночи, где иней,
как лиманные лечебные грязи,
оцепляет больное сердце.
Аорта неба
качает холодный воздух.
Снег перевязывает буро-чёрные язвы
травы; на больное место
ложится кошка. Тоскливо.
Уютно поздно. Порознь со всем миром –
а может, и вместе,
собирая на шторах следы
соленых звёзд,
как помёт голубиный.
Тень от липы в окошке крестится
день-деньской,
подбрасывая озноб.
Пар из труб, словно чай с малиной,
заливает ноздри.
Искрой вечерней, свечка солнца ложится в гроб.
Месяц (кожа да кости)
лезет дворняжкой на холмик могильный.
Туманность Орла
Ты одна. Бутылка вина, как пролог.
Остывший чай на столе.
Время тлеет – в час по чайной ложке.
Три основных цвета –
цвет крови, травы и летнего неба –
отливаются пламенем полночного пота
на горячих губах. Полог
свинцово-серой луны застилает прохладу глаз.
Чем дальше смотришь,
тем нежнее туман. Бессвязный
крик одинокого сердца
рассыпается жемчугом плача.
Туманность Орла, степенно
качается маками звёзд
на расстоянии
семи тысяч световых лет.
Последнюю каплю терпения
на серебристо-белой груди
растворяет сквозняк занавесок.
Ты ищешь здесь, хоть кого-нибудь, но
голос – тише воды, ниже травы –
превращается в обсидиан.
Ты одна, и слишком темно за окном,
чтобы менять распорядок ночи.
Чёрный муар зрачков –
последняя капля мёда. Ночь
крадётся кошкой по шлейфу карниза,
наступая на хвост утренней тени.
В графе “завтра”– ласковый прочерк.
Ночь прощается с кем-то близким,
разделившим её одиночество,
как хлеб и вино летнего неба.
Кадмий
На цинковом небе – ноябрьский дождь.
В воздухе – тушь и сиена.
Пропласток перспективы
подводит брови сурьмой.
Ныряю дрожью
в дверной проём
и упираюсь в холод
венозных стен –
без альтернативы. Снова
нет ничего слаще её волос
в такое безвременье,
когда по стеклу
стекает
кадмиевая слеза,
разбавляя чайное многоголосие,
и побелкой ссыпается аромат
осенних аллей, перетекая
в разряд фантазий.
Я встречаюсь
с ангелами её губ,
с глазами,
цвета речной долины,
с её именем на обложке стекла,
чтобы проснуться завтра
в туманном распятье солнца
над илом окон,
и прошептать простужено,
словно ночная фиалка
опустила на веки
холодную тень:
“Как в последний раз…”.
Олеандр
Облака,
из ароматного доминиканского табака
и тоски,
бесшумно плывут на запад.
Тени цветут на крышах
чёрными ирисами.
Я вспоминаю, как ты любила
переписывать летние сны
в тиснённый блокнотик…
Облака,
из ароматной мяты и нежности,
задевают светильники елей,
тая молитвенным шёпотом.
Тени на крышах вальяжно выводят
чёрную розу зари.
Кошка ложится в ноги,
как заходящее солнце,
прищуривая горизонт
кремово-жёлтых глаз.
Скоро проснётся душа луны
и повеет
зодиакальным светом.
В проступивших слезах ветвей,
словно в искрах шампанского –
запах моря, дождя и леса.
Я уверен, ты ещё любишь –
сидя в тени олеандра –
вспоминать обо мне,
подбирая блики
ветреных глаз прохожих.
Ты ещё любишь то время,
где сердце не спит, словно море,
качнувшее полночь…
Гипнос
Руки любовников
спят, как тени охотников
под открытым небом.
Кровь их крови –
пейзаж, сошедший с полотен
Северного Возрождения.
Плоть их плоти –
терракотовый лимб
над грунтом снежных полян.
Диптихом,
дымка ресниц дрожит
в лунном сопрано.
Руки любовников
спят, как слепки дамасских клинков
в глубоких ранах друг друга.
Кровь их крови –
Тигр и Евфрат;
плоть их плоти –
устья надтреснутых губ.
Дыхание
скрашивает тишину
и безвозвратно
теряется в кракелюрах клёнов.
Северная Корона,
зимним блеском,
срывает с петель вьюгу.
Руки любовников
плывут по течению
тающих ледников,
провожая друг друга
до пробуждения, как до дома…
Волынка
Тише воды…. Белым-бело….
Дрожит светляк настольной лампы.
Кружится снег, как помело,
и тает в плоскости асфальта.
Пахнуло холодом – открой
все форточки – декабрь на сердце.
Слоится топь аллей слюдой
и тает заревом абсента.
Мороз по коже…. Лёгкий иней….
Скелет ветвей в склеп неба врос.
Скрипит борей, как крест могильный,
скрывая в хвоях листья роз.
Под шёпот глаз луна плывёт;
на волоске лучится свечка.
Шёлк крови, шерстяная плоть;
в окне – тысячелетний вечер.
Как на ладони – тишина –
прохлады сонной повитуха.
В туман зеркал плывёт луна
и отражается разлукой.
Кровь стынет…. Лёгкая тоска….
На голос свечки лезут тени.
Ночь заполняет, вполглазка,
пустые строчки бюллетеня.
Тиамат
Пусть будет тихо внутри, как на дне океана,
где древняя ночь прикрывается
безмолвием мидий и рыб,
где спят корабли,
где сердце трещит по швам
срединно-океаническими хребтами,
и разъедают глаза подводные соляные озёра;
а когда солнца шампань
одевается турмалиновым сумраком,
и роняет на марлю воды
вощаные гребни света –
можно всплыть,
и выдохнуть во всю парижскую синь;
можно всплыть, и считать лениво
височные кольца звёзд
над драконьей зеленью волн,
над яхонтовыми парусами неба,
сквозь старую розу норд-оста
примеряя сизые контуры чайки,
как нательный крестик.
Бабочка в кювете
Вспорхнёт, как бабочка зари,
твоих ресниц усталый отзвук,
и облака-поводыри,
разбавив померанцем воздух,
на верность присягнут закату.
Сквозь чёрно-белый дым ветвей,
вскрыв запоздалых встреч глиссандо,
проступит полдень фонарей –
ты вскользь помашешь маякам,
что льют янтарь в прибой метели;
ключ упадёт в родник замка,
обрызгав тишину за дверью.
Сорвётся, бабочкой зари,
с ресниц пастозный сонный ветер;
душа скучна, как трижды три,
но, скуки ради, и бессмертна.
Химера купоросных окон
остынет снегом на ветвях.
Сны обнадёжат одиноких,
но ночь оставит в дураках.
Сандал повеет василиском.
Взгрустнёт коньячная капель –
звезда к звезде. Растают мысли,
в кювет ныряя, как в постель.
Дикий декабрь
Душа твоя – акрополь сна, гробница восковая вьюги,
где ни кровинки, ни души, лишь нараспашку барельефы
сугробов, и слегка видны окаменелости лачуг
во тьме дорической луны; а в предзакатной магме неба –
растаявший солярный знак, холодный купол глинобитных
ветвей и зооморфных скал геологическая память.
Душа твоя – как саркофаг, где ни души, где ни кровинки,
лишь тусклого зрачка эмаль в землянке звёзд, пленённых воем.
И черепки старинных амфор – твои глаза – пьют вдалеке
метель, как бледно-снежный свет с надменных крыльев херувимов,
что растворяют в ночной роще, над зеркалом грунтовых вод,
свои прекрасные морщины, с мечом зари наперевес.
Голубой топаз
Фриз горизонта прорастает
глазурью льда;
курган восхода
бросает тень на знак дорожный
луны; и дюны первоснега
играют жемчугом зеркальным,
пока заплывшим воском глаз
ночь продлеваешь, сколько можешь;
и неба голубой топаз
кристаллизует облака,
прозрачным соком заливая
барочную лепнину крыш
в остроконечниках сосулек;
и время тянешь мизансценой
с подмостков смерти, как со дна
морских кремнистых отложений;
струится солью снег, храня
осенних слёз огонь и пемзу;
прохладный свет струной рисует
на обнажённой коже имя,
и это имя – неизбежность…
И это – небо декабря…
Ассоль
Ты прячешь душу под подушку декабря,
и губы убаюкиваешь снегом;
безмолвие домашнего ковчега,
как на груди пригретая змея.
В зрачках из серебристого графита
мерцает ночи сталь. Сквозь сумрак, за версту –
улыбки нить – намёк на наготу,
на снежный блеск полей под ядовитым
туманным причитанием норд-веста.
Подснежник тишины – в твоём венце;
и ты сидишь на ледяном крыльце,
гадая на кофейной гуще сердца –
где в глубине тоски библиотечной
склонилась тень над шёлком Ариадны,
и фонарей сливовая прохлада
шагает одиночеством по встречной.
Сокровищница
Рассвет взмахнёт крылом
над царскими вратами,
как горлица на ледяном ветру.
Блеснёт лампадка солнца
пылью известковой
над овнами безмолвных облаков;
и горизонт, тяжёлый на подъём,
подкрасив губ бесцветную обложку
цианом и алойным бледным соком,
постель заправит в горькую траву.
В глазах – оттенок почвы и коры;
в ладонях – снежный танец лазурита.
Далёкий брезжит свет подвесками граната.
Ты багряницей утаишь огонь в груди.
Пусть всё закончится, начаться не успев,
глубоким сном на жертвеннике сердца,
где лишь луны миндаль цветущий и
плодоносящая смоковница свечи
тревожат ночь прохладным ароматом.
Девочка
Бледных рук тишина – нескончаемой ночи предтеча –
антрацитовой тенью ложится в туман покрывал;
ожерелье волос опускается блеском на плечи,
как рождественский снег, осветивший лиловую даль.
И на крапчатом небе чернильными складками тают
перекрёстки ветвей – им брусничные губы твои,
что-то шепчут по-летнему, и безвозвратно теряют
тихий голос дорожный в зеркальных развязках зимы.
Бледных глаз тонкий лёд, отражая холодные искры
переменчивых окон, скользнёт тишиной в зеркала;
аметистовым следом порвётся закатная риза,
и подпалина лунная ляжет на кобальт стекла.
Под агатовым небом, далёким, как сны побережья,
ночь протянет тебе уголёк, словно летнюю ветвь
сквозь седую листву нерастраченной нежности снежной,
и влюблённость откроет глаза, чтоб ослепнуть навек.
Голосование:
Суммарный балл: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
Нет отзывов
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор
Интересные подборки: