-- : --
Зарегистрировано — 123 198Зрителей: 66 303
Авторов: 56 895
On-line — 20 216Зрителей: 3997
Авторов: 16219
Загружено работ — 2 120 220
«Неизвестный Гений»
Полицай (История одной печали)
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕЧАЛИ
(ПОЛИЦАЙ)
1.
Я этим сукам не прощу Освенцим,
Покуда бьётся сердце криком в горле,
Пока парами алкоголя
Не будет выжжен каждый метр моей постели,
Я этим сукам не прощу Освенцим!
Я этим сукам не прощу Майданек.
На белой коже выжжен, выбит номер,
А сумочка в руках у дамы…
Я этим сукам не прощу Майданек!
Я не прощу,
Я не уйду,
Я не забуду
Над каруселью лёгкий дым
От полыхающего гетто
В Варшаве.
Я был там.
Один.
Один. Кругом пылали ставни,
Кричали крыши, лопалось стекло
И словно спички, словно звёзды,
Выгорали лица людей, и детский стон…
О, этот стон!
Ребёнок плакал в люльке
Пока не задохнулся, рядом мать
С штыком разворочённым брюхом,
Распахнутый, ужасный взгляд
Был непокорен.
А ветер нёс
Дымы и пепел –
Нерукотворный фимиам -
Вакханкам, адамитам, фарисеям,
Я был один. Я не кричал.
Лишь мелко трясся…
Меня забросили в подвал,
Меня припрятали в подвал,
Меж рисом и картофелем, в подвал,
И я боялся.
Да, я боялся выйти в свет,
Боялся каждого шептанья
Сосновых, старых половиц
Под сапогами.
Я не дышал.
Я слышал стон.
И ничего не мог поделать.
В подвале том было окно,
Но я тому окну не верил.
Не верил я ни стуку двери
Ни треску дерева, ни пеплу,
Через окно я видел к небу
В мольбе протянутые руки…
Тем, кто молил о милосердьи,
Давали порцию свинца,
А ветер доносил мне песни
Из-за стены –
Там пели вальс…
Весёлый вальс.
Я выбил табуреткой стёкла,
Изрезал в кровь
Ладонь, лицо
Но выбрался.
Дом рухнул – я завыл,
Рукой размазывая пепел
По полумесяцу лица,
А за стеной кружились карусели
И вальс сменил бравурный марш…
Кто слышал вопль мой?
Только трупы.
Стенанья не нужны стенам.
Пошатываясь, я побрёл на звуки
Чужого,
Злого
Праздника…
А кровь всё плакала навзрыд -
Вычерчивала письмена на коже.
Я выходил из Ада в жизнь,
Но жизнь была на Ад похожа…
Я этим сукам не прощу Освенцим!
2.
Здесь были дни, когда себе не веря,
Я пел о дальнем,
дольнем,
вышнем,
Когда в себе, увидев зверя,
Я волком выл на лица, крыши.
Здесь были дни.
Здесь были дни,
Когда не пели звёзды,
Когда казался свет скитальцем,
Осенним злым протуберанцем
Метался я меж сонных стёкол
В такие дни.
В такие дни мне память выдавала
Сухой паёк воспоминаний,
Сто фронтовых обид, страданий
И лагерный жестокий смех
Над теми, кому рвали рёбра,
Клещами вырывали глотки,
Гонведские венгерки,
Каски, чётки,
Взгляд воспалённый,
Шаг на бег
Срывается.
Огонь. Паденье.
Я видел всё –
Я жал курок.
И палец пел от напряженья,
От боли лопался висок.
Что это было?
Сны, виденья?
Что это было?
Я ли там?
Взгляд воспалённый.
Бег. Паденье.
И запах смерти.
Из ствола.
Расстрел моею был работой.
Одной из многих.
«Полицай!» -
Я слышал в каждой деревеньке,
Что проезжал…
И не было мне ни покоя,
Ни сна, ни жизни, ни мечты.
Я шпрехал по-немецки бойко.
Я польский идиш подзабыл.
И ночью лишь являлась робко
Ко мне у изголовья мать,
Садилась, не спеша, на койку
И всё смотрела на меня
С немым укором…
И я ей клятвенно твердил,
Что накоплю побольше сил,
И в лес уйду, и стану злым,
Но вопли горна
Призрак рассеивали вдруг,
В слезах я вскакивал с постели,
И верный «Люггер» из шинели
Выхватывал дрожащею рукой.
В кого хотел стрелять?
Кричал: «Постой!»
И в пустоту протягивал ладони.
Холодный душ. Бритьё. Примерка формы.
И снова я готов
Быть не собой…
В тот день
В варшавском парке
За стеной
Я клялся всем Богам, что не забуду.
Что не прощу,
Что не спущу,
Что отплачу
За кровь я кровью!
Не отплатил,
Всё всем простил,
Не отомстил -
З
А
Б
Ы
Л…
Пусть и меня забудут.
Здесь были дни.
3.
Здесь были дни, сменялись ночи,
Как часовые в лагерях.
Я жил, я верил, я боролся
С самим собой. Я помню как
В казарму нашу постучали -
Гестаповец вошёл в барак.
Меня и двух ещё связали,
Пинками гнали, как собак
В жерло вагона,
плотный смрад
Чужого страха.
С нас содрали форму.
Три робы выдали. Один хотел бежать.
Так и остался на перроне
С простреленной башкой лежать.
Мы не пытались –
Поменялись роли.
Так что с того?
Мне не впервой…
…И трясся я в вагоне обречённых
И каддиш бормотал какой-то гёз.
Вокруг меня круг отчужденья,
Вокруг меня десятки глаз,
В глазах тех беспредельный ужас:
Я – волк среди затравленных собак.
Я – волк.
Я – пария.
Я – нелюдь.
Я слился со стеной вагона.
Но челядь,
челядь,
челядь,
челядь
Мне пятки лижет, смотрит в рот.
И гадко мне,
До дрожи больно,
И в области души набат!
Трясусь в вагоне обречённых –
Отрезаны пути назад.
Вдруг вижу –
Нет! Не может быть! –
Знакомое в толпе лицо.
Анишка. Ангел среброкрылый.
И вспомнился вдруг отчий дом.
И я заплакал…
И я заплакал. Её имя
Я стал шептать как заклинанье
Она скользнула по мне взглядом
И вновь ушла в своё сознанье.
Я двинулся
Сквозь сонмы тел.
Я двинулся.
Плевать мне на конвойных!
Я двинулся.
Я быть хотел
Поближе к ней
Пусть и ценой
немалой крови.
Конвойным было всё равно –
Под стук колёс удрых конвой.
Я к Анишке подсел, а гёз
Всё бормотал заупокой.
Глазами меря пустоту,
В каком-то диком полутрансе
Она молчала, я рукой
Дотронулся до края платья.
Её протяжный долгий крик
Вернул к реальности дозорных
И выстрел в воздух прекратил
Напев седой заупокойный.
Поднялся дикий шум и гвалт
Кричали люди,
Выли люди.
Как тени, как призраки, как Иуды
Вымаливали жизни малость.
Анишка всё кричала, крик её
Бездомной птицею метался по вагону
И возвращался удесятерённой болью
К устам несчастной.
Отстранился
Я от неё, вонзил свой взгляд,
В решёткою размеченный квадрат,
Что здесь окном зовётся.
За окнами плыла печаль,
Разреженные серые дома,
Как рот прополотый цингой.
Анишка замолчала, её взгляд
На мне остановился. Нелегко
Во мне было узнать того мальчишку,
Что ей писал стихи,
Дарил цветы
И клялся в верности до крышки гроба.
«Франтишек, ты?» -
Так ласково, знакомо
Здесь измождённый голос прозвучал,
И я хотел ответить, только к нёбу
Язык прирос от изобилья слов.
Пришлось кивнуть обритою главою
И промолчать. На небе меньше звёзд
В ночь лунную, чем было между нами
Недоговорья, боли, тишины…
Сидели мы друг против друга,
Молчали
Изучали
Сны…
И были сим довольны.
Меж тем остановился поезд.
Всех выгнали на плац для переклички.
Пока зека считали нычки,
Дозорные считали нас.
По головам.
По группам крови
Нас разделили позже,
Женщин в женский лагерь
Отправили вторым составом.
Нас здесь оставили
Освенцим-Биркенау
Маячил впереди
Ещё незримой тенью…
4.
Тень становилась ближе, глубже,
Дышали смертью серые просторы,
Почти больничные, слепые коридоры
Бараков, канцелярий и домов.
Вот вновь
Раздались окрики конвойных,
Хруст плеч остатков непокорных
И надпись на вратах: «Труд делает свободным»
Насмешкою звучала.
Била плетью по каждому,
Кто поднимал глаза.
Таким был первый день,
Таким был первый день, а я
Я вспоминал её лицо
И был им счастлив.
Нас на плацу –
Был март в разгаре.
Дожди. Снега. Опять дожди. –
Раздели. Развели в бараки.
И выдали нам робы, стихари
И даже рясу.
Так жили.
Не было героев.
Так жили.
За весной весна.
Работой был загружен крематорий
Сполна.
Пятнадцать до полуночи минут.
Я никогда так долго не мечтал.
Освенцим-Биркенау. Равенсбрюк.
Мужчина – Женщина.
И тишина
Апрельской ночи…
Был таким апрель
Ещё в той незнакомой жизни,
Где было счастье,
Где жила любовь
Где простотой и светом были мысли
Наполнены.
Сочился смех,
Как винный сок
Из пламени бокала,
Где был я ослеплён и нем
Пред Анишкой.
Она сияла
Луною в серебре реки,
Манила корабли
И встречи ждала,
Но не со мной.
Увы…
Мы были словно два
Цветка сирени,
Быть может, потому
И не любили мы
Она была с другим,
И я с другою –
Нам счастье вечно кажется вдали,
Но там песок лишь…
Так настало утро.
Нас выгнали на мёртвый плац,
И, слава Богу, что нашлась работа
Мне по плечу. Опять в айнзац-
Команде. Первым делом
Мне дали порученье расстрелять
Полсотни узников-евреев
Из-под Варшавы. Сей же час
Я выпустил оружие из рук,
Обвёл прощальным взглядом лица, стены
И плюнул прямо в лоб тому,
Кто дал приказ к расстрелу пленных…
Что мне осталось пять секунд
Коптить весенний, чистый воздух,
Я понял лишь, когда мне в грудь
Упёрся рогом штык подствольный.
Он процедил мне:
«На колени»,
Он прокричал мне:
«На колени!»
Он, жилы разрывая,
девятибалльным штормом пел мне:
«На колени!!!»,
Но я стоял.
Я всё стоял и взгляд не отводил
От глаз того, кто предложил мне сделать выстрел.
На штык тихонько надавил
Блондинистый солдат с лицом арийца.
А тот, кто дал приказ,
Весь как-то сник, обмяк и сдулся.
Он выстрелил, но промахнулся.
Железной рукояткой выбил зубы
Мои.
На мокрый от дождя асфальт…
Но штык убрали между делом.
Я снова мог дышать спокойно.
Я стал своим среди отбросов
И стал их бога восхвалять…
5.
Равенсбрюк. Оголтелая масса дев
С бритыми наголо головами.
Девушки, женщины, старухи, дети
В грязных, асфальтовых тюремных платьях –
Жуткое зрелище.
Солнце весеннее
Невинно играет на лицах их,
Цветы распускаются за оградой
Лагеря. Напевают дрозды
Марш обречённым.
Я среди них.
Странно-белое платье
Локоны вьются
Аж до плеча.
Улыбка – пусть горькая –
Я радуюсь Солнцу,
И взгляд не затмила
Равнодушья печать.
Здесь никто никому и ничем не обязан.
Здесь стадо, а сзади
С семихвосткой пастух.
Нас разбивают
на блоки, отряды
И ведут
В душевую…
Покорно
Шагают люди
Покорно,
Но каждый шаг –
Бомба
С замедленным действием,
Крик – запал.
Я не кричу –
Не умею.
Я разучилась кричать
За эту вторую жизнь
С глупым названьем – «Война».
Далеко впереди
Стон
Оборвался свинцовым
Смехом
И путь продолжил
Строй
По телу.
Ещё тёплому телу…
Открылись со скрипом петель
Адовы те ворота
Стадо загнали в загоны
И – слава Богам! –
Дали воду!
Пусть ледяную,
Пусть:
Лёд - это тоже
Жизнь
Грязь сотен тысяч вёрст
Камнем струится вниз
С тела.
Мне хорошо – я живу.
Душ, как февральский дождь
Или январский снег
На памяти том берегу.
Там был когда-то дом,
Любила и плакала мать,
И Солнце в седых облаках
Смеялось.
На том берегу…
По белому полотенцу
Выдали каждой из нас,
Насухо наказали вытереться
И на раздачу одежды –
Марш!
Холод обдал лица,
Холод обжёг сердца
Нас обманули,
Нам не вернули
Тюремные платья, замерзать
Оставили женщин…
Чей-то ребёнок заплакал.
Кто-то заткнул ему рот.
К нам вышел доктор, представился:
«Мария-Гертруда Ворк».
Она объясняла долго,
Что это проверка на прочность,
Что дарвинскую аксиому
Не отменили ещё,
А наши зубы стучали,
А наши колени дрожали,
И обречённостью тлели взгляды
При этих словах её…
Так стояли мы двадцать минут,
Наготу прикрывая ладошкой,
Не падали в снег слёзы –
На лице замерзали коркой.
Первыми падали дети,
Скрючившись в ком от холода,
Матерей отгоняли выстрелами,
Рвущими воздух патронами.
Непонимающим пуля
Разрывала плечо иль ногу,
Реже стреляли в голову –
Мы были им нужны.
Двадцать минут унижения,
Двадцать минут отчаяния
По мановению доктора
Вдруг обратились в часы…
К концу этой пытки
осталось две трети,
Цеплявшихся за
Любую жизнь.
Нам бросили робы
Как кости собакам
На снег, ожидая,
Что сделаем мы…
Мы озлоблённой, неистовой стаей
Бросились на
Кучу тряпья.
По снегу катались,
Волосы рвали,
Бились, как звери,
За матерчатый плат,
Ставший Граалем…
И Панацеей,
Последним оплотом
Женщины, Гордости.
Мы были в преддверии Ада,
Видели пропасти
Грязное жерло…
6.
Медленно тянется время.
Один сплошной день.
Промежуточный сон.
Лающий смех
Старосты блока.
Он всегда смеётся.
Он начал сходить с ума
На третью в бункере ночь,
На четвёртую он устал.
И сдался.
Сдаёмся и мы.
Потихоньку.
Поодиночке
Усталыми ягодами
В кре-
ма-
то-
рий
Падаем.
И с пеплом – свобода!
Очередь ждёт…
Самое страшное - ожиданье
Выстрела. После легко.
Нас убивают. Мы убиваем.
И тем и другим
Всё равно.
Мне одиноко, а впрочем,
Чего ещё можно ждать
Тому, кто стрелял в невиновных,
Кто братьев своих стрелял
Как зверей на охоте.
Было в моде
Стремиться попасть прямо в сердце
С пятнадцати метров.
И я попадал.
И выстрелом каждым
Себя в сотый раз убивал,
Как Каина Авель –
В спину.
Здесь каждый помнил меня
В полицейской фуражке,
Здесь мне в морду плевали,
Били в живот…
Так хотелось мне, но на деле
Меня для них не было.
Вот и всё.
Всё, что осталось –
Память о прошлом.
Кривое хоть зеркало,
Да своё.
Мне и смотреть порой
Тошно,
Да как выйти из тела,
Когда в нём идёт кино?..
Я снова в Варшаве.
Детские годы.
Я у мамы один –
Отец в лагерях.
И мелодия скрипки –
Бесценный Вивальди –
И простуженный ветер,
Голых веток печаль
По парку разносит.
Снова Осень.
Светлая Осень,
Мирная Осень,
Тёплая Осень
Перед войной…
Лампу прошу не гасить –
Лампу нельзя убить,
С лампой не страшно жить.
Я буду спать с огнём.
Я буду спать с огнём.
Дым можжевеловых досок,
Крики людей и окон.
Я словно в гетто снова.
Проклятое déjà vu!
Лагерь. Горят бараки.
Всюду снуют люди,
Ходят немые слухи.
Что здесь произошло?
Что здесь опять случилось,
Чем провинились снова?
Бараки горят, как дома.
Бараки горят. Никого не спасут.
Никто и не хочет.
В окне одного из бараков
Мелькнуло лицо мальчишки.
Ему было очень страшно.
Я в нём разглядел себя
И бросился,
Всех толкая,
И бросился
Наперекор всем
В пылающий ад барака,
Чтоб вытащить пацана…
И вытащил. За спиною
Барак превратился в песок
Мальчик открыл глаза.
Я понял, что вышел срок
Мытарств моих.
Звали его Андрейкой.
Весёлый и добрый малыш.
Ночами он бился в кошмарах
Да так, что кусал язык
Едва ли не до крови…
Мне его не было жалко,
Я просто любил его.
Так верят на слово Богу.
Так верил и я
До…
Андрейка зовёт меня папой,
Кто я, чтоб его разуверить?
Да и зачем это нужно?
Даже волки живут в семьях.
Каждому нужен кто-то.
Тот, на кого положиться
Можно в любую минуту.
Даже если случится
Непоправимое, ты будешь знать,
Что кто-то прольёт слезу,
И будет тебя вспоминать
Хотя бы один раз в году…
Пусть
И один раз
В году…
7.
Песня.
Откуда здесь песня?
И откуда я её знаю?
Женский голос.
Тонкий голос.
Колыбельная моей мамы.
Я начинаю петь.
Странно –
Поют все…
Люди не понимают слов,
Не слышат мелодии,
Но поют!
Волна
С отчаянностью льва
Бьётся о линию берега.
С каждой волной всё сильнее,
яростнее,
злее…
Но через миг
Остаётся лишь пена…
Песня глохнет, молкнет,
Обрывается на
Полуслове
Кроме
Тишины
Боле
Ничего…
Холод –
В стенах барака щели,
Сквозь щели время
Уходит рекой.
Час за год.
За Вечность – неделя.
Нас с каждым днём всё меньше.
Тех, кто прошёл школу
Марии-Гертруды Ворк,
Но транспорт приходит снова.
Точен,
Как Цюрихский Банк,
Полон,
Как сердце – болью.
Не осталось в бараках лежанок,
И трупы редко выносят.
Они разлагаются тихо,
И даже почти не пахнут.
Холодно,
Холодно,
Холодно –
Запахну поплотнее рубаху.
Всё, что осталось – сон,
Всё, что мне дорого – память,
А за окном – костры.
На наших костях жарят
Нежные бёдра Ев,
Рёбра местных Адамов
Руку ребёнка ест
Обершарфюрер Тарнкхоф.
А в крематории стон.
Белые клещи, обугленной кожи
Вонь.
Выбрасывают из двери скелеты
С ободранною спиной…
Полведра мяса
Вращает глазищами.
Кровавая пена изо рта –
Кричать пытается.
Сонный выстрел
Истинного арийца.
Занавес.
Что ещё скажешь?
Смерть – избавленье.
Только не здесь.
Здесь душа исчезает навеки,
Тело пустое ещё долгое время
Может дышать…
Скоро апрель…
Скоро апрель. Мне будет двадцать.
По отражению в луже не скажешь.
Волосы редкие и те – выпадают.
Что со мной,
что со мной
будет дальше?
И будет ли «дальше» вообще?
Я номер пять тысяч и две единицы –
Недавний совсем продукт.
Из нашего транспорта осталось трое.
Я, страдалица Эльза и Рут –
Молчунья.
С Рут невозможно вести разговор:
Она отвернётся к стене и заплачет,
Эльза послушает речь твою,
Головой покивает,
И снова в рассказ
О том, как ей было страшно,
О том, как ей было больно,
Когда десять бравых молодчиков…
Тут отключаюсь я.
Я вспоминаю дом,
Я вспоминаю Варшаву
Тихие улочки и небеса
Цвета тёплого золота с отблеском алым
И на горизонте алые паруса…
Паруса те пропитаны кровью.
Нет на бриге матроса и боцмана,
Капитан со вспоротым брюхом
В трюме меж сундуков
Скорчился…
Но маленькой, стройной девочке
С русой косой до пояса
Не пристало думать об ужасах.
Ей бы принца.
Ну хоть какого-нибудь!
А корабль, между делом,
Всё ближе.
Радость.
Страх.
Ожиданье.
Смятение.
Только вороны
На запах падали
Стаей шумною
Налетели.
Обезглавленная наяда
Смотрит в небо обрубком шеи,
Руки сжимают голову,
А вместо лица – зеркало…
Нос корабля таранит мол
Доски гавани со скрипом жалостным,
Сминаются, словно бумажные
Жизни, надежды, он
Сходит по трапу.
Тяжёлая поступь.
Скрыто под шляпой лицо.
Тянет ко мне руки.
Делает шаг.
Ещё…
Просыпаюсь.
8.
«Папа, смотри – жучок!» -
Протягивает мне ладони.
Я говорил уже, кажется -
Меня он зовёт отцом,
А матери нет…
Андрейка растёт по часам,
По минутам,
Он учится заново видеть мир.
Ему здесь спокойно, привычно,
Уютно.
О том, что за вышками – жизнь,
Он забыл.
Или не знал об этом,
Родившись по сторону сю
Малым комком нервов,
Разрезав ночную мглу
Собственным криком,
Холодные руки
Отняли его
У Марии Земной.
Так матери он никогда не увидел,
Не знал и того, от кого он рождён.
Андрейке пять лет.
Половины лица
Просто нет…
Тот злосчастный пожар
Виноват.
И всё же,
И всё же,
И всё же,
Жива
В нём искра жизни –
Негасима она.
А на руке жучок
Горит перламутровой спинкой,
И я говорю: «Изумруд»,
И вижу в ответ улыбку
На лике блаженном…
Глаза мои слепит Солнце,
Усталый и нежный ветер
На воле меж сосен бьётся,
Лениво рождая песни
Дроздов и горлянок.
Мелких, но столь узнаваемых птиц
И боль и страдания меркнут
От музык целебных их –
Они пахнут домом…
Они пахнут домом,
Свежескошенным хлебом,
Ароматом лугов и трав,
Бесконечным, бездонным,
Бескрайним небом,
Которым ты дышишь,
Если устал…
И мне так спокойно, так сладостно, словно
Чудо свершилось – я вышел за дверь
С надписью глупой над вратами,
Но это лишь сон.
Отсюда побег
Возможен лишь в качестве пепла…
Андрейка
Свободно гуляет на заднем дворе
Под скрытым присмотром.
Мы его прячем всем бараком,
Подкармливаем, чем можем,
Спит он на верхней койке –
Рядом со мною.
Если нагрянет проверка,
Он знает куда забиться –
Война научила прятать
За улыбкой жестокие мысли.
«Папа, смотри – жучок!»…
9.
На плацу, утрамбованном
Тысячей ног,
Нас построили –
Особей женского пола.
Добровольцев на эксперименты
Пытались найти снова.
Увы, безуспешно…
Слишком многие обманулись,
Слишком многие не вернулись
Слишком многие обернулись
На ветвях снега ветхой одеждой.
И апрель – не апрель,
И весна – не весна,
Что за жизнь?!
Для чего она, Боже?
Если есть ты в выси,
Если есть ты на дне,
Если в сердце моём,
Что ты можешь?
Молчать…
Я тоже молчу.
Плакать, как Рут, не умею,
Как Эльза, страдать не умею
Зачем и кому нужна,
Не знаю…
А время, меж тем, неустанно
Капелью сжигает жизнь,
И холод пробирает до суставов,
И мучает артрит…
Но мне лишь двадцать!
Я не хочу так просто умирать,
Я не могу себе позволить сдаться,
Пусть я одна,
Пусть
Я
Одна!
Ради самой себя
Сражаться стану…
Кто же ещё,
Если не я?
«Она!» -
И голос, будто из могилы,
И палец указующий под стать,
Но в пальце этом больше силы,
Чем в сотне тел.
Таких, как я.
Я покоряюсь ослеплённой лгунье,
Что вместо губ частенько подставляет зад,
И выхожу из жизни строя,
Я – холостой, пустой снаряд,
Готовый к смерти.
Ещё набралось под десяток
Воспоминаний бледных человека
За ангелом с повязкой «Гитлер Югенд»
Процессия теней пошла.
Как дети малые за флейтой Крысолова
Бросались и в огонь, и в воду,
Так мы за ней,
Давно готовы,
Покинуть этот мир,
Где слишком больно,
Где тела храм
Покинула душа
Недобровольно.
10.
Мой мозг раздавлен, сломлен, смят,
Мой мир унижен, выжжен, брошен
На спинку стула, чуть дыша
Ложится Осень
Шёлковым шарфом,
Как змея…
Мой дом
Не здесь.
Мой дом
Сожжён.
Моя семья –
Скелетов стадо
Мой номер –
Девять
Сорок
Два.
Два треугольника из ткани
На рукаве.
Во мне
Живут
Своей особой
Сонной жизнью
Лиц хоровод,
Петля из тел
И вечный дождь.
Мне было больно.
Мне больно и теперь
Об этом думать.
Не думать не могу –
Мысль – шаг
По via Dolorosa
С надеждою и без неё
В конце…
Вот снова
Поезда огни
Сияют странным, мёртвым светом
Трясутся тени там, внутри.
Ни света, ни души,
Ни воздуха, ни смеха…
Да, было так.
Я был среди теней.
А, впрочем, для чего
Рассказываю это?
Кому посвящена
Усталость ломких строк
Осенним вечером,
Когда душа согрета
Немой печалью?..
Святая простота,
Беззлобное молчание,
Безмерный океан
Из ожидания
И неземной тоски,
Спроси,
Откуда мне известно это.
Тебе ответит нежный ветер,
Несущий тем, кто юн и светел,
Кошмарный
Чёрно-серый
Пепел…
И к Одиночеству пути
Добавит встречу
Тот же ветер.
А мне останется
Уснуть,
А мне останется
Забыться,
Вновь выпустить
Те судьбы, лица,
Пересечению которых,
Перемешению которых,
Перекрещению которых
Свидетелем бесстрастным был
Слуга покорный…
Позвольте сей же час вернуться
Туда, где мы оставили героев –
В Освенцима слепые коридоры,
В стерильность разрешённых боен,
Больничный запах душегубок,
Мир лжецов,
Где каждый, как никем,
Собой доволен…
Андрейка спал, когда парами шнапса,
Перемежаемыми крепким матом
В наш сон ворвался староста барака,
За ним эсесовцы в чёрных плащах
И с автоматом.
Тихо щёлкнули затворы,
Был плавно спущен медленный курок
И, словно птицы, заметались люди,
Пытаясь вырваться.
Шёл сорок пятый год.
Начало мая…
Как только зазвучала эстакада
Тех выстрелов, накрыл собой
Андрейку я, а за окном светало
И алым облака наполнились, и рос
Кровавый жемчуг выпал на растенья.
Я опоздал – он был убит,
И струйка жизни обагрила
Седое серебро ланит…
Трясущейся ладонью
Я прикоснулся к телу,
Что хранит тепло,
И слёзы ненависти,
Отмщенья слёзы,
Избороздив моё лицо,
Капелью били в грудь его…
Мне было больно.
Как водится, в слезах
Находим утешенье.
До утешенья было далеко
Я закричал,
Но этот крик
Остался одинок
В печали…
Мои собратья, как зверьки,
Прижались к стенам –
Страх владел телами
Немногих выживших, увы…
Нацисты были недалече
В предсмертный, предсвободный вечер
Ещё десяток душ
Не стоил и гроша…
Когда вошли
Те палачи
С зажжённым факелом из тряпок,
Барак, как рой,
Сорвался с мест
И бросился на пулемёты с камнем
и даже без него…
Кипучая
Безудержная
Ярость.
Огонь в глазах.
Куда же делся страх?
От человека мало что осталось,
От зверя больше.
Содрогнулся штат
Айнзац-команды…
Нам было больше нечего терять.
Мы, словно крысы, шли по трупам
Своим, чужим,
Мы были неотступны,
Как Страшный Суд,
Как плата за грехи…
Фемида ужаснулась от деяний,
Под маской спрятала девичий взгляд.
Плясала над телами Немезида,
Мы затащили их в барак
И подожгли сооруженье…
Нашли нас утром.
Там же, у барака.
Никто и не подумал о побеге:
Нам некуда бежать.
Читатель,
Верь мне:
На дне бутылки то же отраженье,
Что и в любом куске стекла…
Никто и не подумал о побеге.
11.
Одиночество.
Знаете ли вы, что такое одиночество?
Минуты превращаются в часы,
Часы в дни.
В один день.
Нескончаемый.
Нет окон.
Дверей.
Голые стены.
Еда два раза в день.
Первый день бьёшься в истерике,
Оставляешь кровавые следы на бетонных стенах,
На третий день приходит призрак отчаянья –
Становится всё равно.
За отказ от пищи –
Единственный способ избавления –
Бьют током.
Через ошейник.
Несильно.
Не до смерти.
До зыбкой грани
Снов.
Через время
По ошейнику вновь пропускают ток,
Чтобы вернуть ваше тело к реальности.
Я держусь уже двенадцатый день.
По моим подсчётам…
Неожиданно отодвинулась стена.
Часть стены.
В проёме вырисовалась фигура.
Одинокая, холодная, неизбежная.
От неё веяло опасностью, смертью.
Впрочем, мне было всё равно.
- Ты свободна.
Он попытался снять ошейник,
Я вырвалась, плюнула в лицо незнакомцу
И с силой ударилась затылком о стену.
Звякнула надрывно цепь.
-Ну что же ты?
Я – друг, -
Он протянул мне руку
Ладонью вверх, -
Я Мнишек.
А ты?..
- А…
-Что же они с тобой сделали?
Сволочи!
- Ан… Ан…
- Мы отомстим за тебя!
Мы за всех отомстим!
- Анишка.
- Вот и познакомились.
Я вышла на солнечный свет,
Вдохнула свободы воздух.
Безжалостна лет поступь –
Анишки больше нет.
Анишки больше нет –
Голубоглазой девчонки,
С русыми, до полу, косами.
Анишки больше нет.
Есть полумёртвое нечто
С иссечённым морщинами ликом,
Усталым безжизненным взглядом –
Беззвучным души криком.
А мне было двадцать лет…
Что стало с моей Варшавой?
Куда мне теперь возвращаться?
Я выжила. Не за что драться.
Зачем мне теперь идти?..
Трясусь в санитарном поезде.
Сплю. Просыпаюсь. Сплю.
Прокручиваю лица
Тех, с кем была в строю
В Равенсбрюке.
Становится легче.
Куда и зачем
Я еду,
Кого там надеюсь
встретить?
Меня не узнают люди,
Я не узнаю себя…
Кто я?
Зачем я?
Может, не нужно?
Может, сойти,
Не вернуться, забыться,
Может, прилечь
Средь высокой травы
Может, уснуть,
Убежать,
Раствориться,
Может, опасть, как по осени листья,
Или увянуть, как в вазе цветы?
Вот остановка.
Конечная станция.
Мимо меня
Проносят бойцов
С оторванной голенью,
Распаханным брюхом,
Но улыбающимся лицом…
Эта улыбка –
Знамение,
Выход -
Они умирали, чтоб выжили
Мы,
И лучшей наградой
Им будет
Память
В наших
Сердцах…
Я БУДУ ЖИТЬ!
12.
О, Женщина!
Ей имя – Безнадежность.
Она, как детский сон –
Пуглива.
Невыносимо
Быть не с ней
И с нею быть
Невыносимо.
О, Женщина!
Ей имя – Безнадежность.
Я встретил Анишку
Тому пятнадцать дней.
Я встретил Анишку.
Она была средь прочих
В кофейне, что под окнами. Люблю
Я там бывать. Хороший кофе
Там подают. И булочки к нему…
Её увидел я,
Она сидела в профиль,
Свет утреннего солнца был к лицу
Неблагосклонен.
Время. Время. Время.
Она была одна.
И я один.
Я подойти хотел,
Но неземная сила
Легла на плечи Тишиной, прибила
К сидению меня.
Я стал смотреть…
Как в cinema
Покорный зритель.
Что связывало нас?
Воспоминанья?
Печаль?
Та, что одна на всех?
А, может быть,
Связал нас лагерь
Татуировкой вечной на руке?
Мы меченые,
Мы уже другие,
Нам не вернуться в мир простых прохожих,
Где друг и враг
На лица схожи,
Где пепел душ
Вокруг лежит
Весенним снегом…
Она ушла.
Я вслед за нею.
Зачем?
Не знаю. Просто так.
Она прошлась по магазинам,
Свернула в переулок,
Чуть дыша
От странного волненья
Я свернул туда же…
Проулок оказался пуст.
О, Женщины!
Вам имя - Безнадежность.
Шарманщик навевает грусть
Своей игрою…
Тихий, сонный ветер
Ухаживает за старлеткой,
Досрочно сбросившей наряд,
Лишь для того, чтоб быть воспетой
Усталым и потерянным поэтом.
Таким, как я.
Но я хочу молчать…
Играй, шарманщик –
Дай мне шанс забыться…
Но что это?
Мне слышатся шаги.
И за спиною
Шёпот-плач:
«Франтишек, ты?»…
О, Женщины!..
(ПОЛИЦАЙ)
1.
Я этим сукам не прощу Освенцим,
Покуда бьётся сердце криком в горле,
Пока парами алкоголя
Не будет выжжен каждый метр моей постели,
Я этим сукам не прощу Освенцим!
Я этим сукам не прощу Майданек.
На белой коже выжжен, выбит номер,
А сумочка в руках у дамы…
Я этим сукам не прощу Майданек!
Я не прощу,
Я не уйду,
Я не забуду
Над каруселью лёгкий дым
От полыхающего гетто
В Варшаве.
Я был там.
Один.
Один. Кругом пылали ставни,
Кричали крыши, лопалось стекло
И словно спички, словно звёзды,
Выгорали лица людей, и детский стон…
О, этот стон!
Ребёнок плакал в люльке
Пока не задохнулся, рядом мать
С штыком разворочённым брюхом,
Распахнутый, ужасный взгляд
Был непокорен.
А ветер нёс
Дымы и пепел –
Нерукотворный фимиам -
Вакханкам, адамитам, фарисеям,
Я был один. Я не кричал.
Лишь мелко трясся…
Меня забросили в подвал,
Меня припрятали в подвал,
Меж рисом и картофелем, в подвал,
И я боялся.
Да, я боялся выйти в свет,
Боялся каждого шептанья
Сосновых, старых половиц
Под сапогами.
Я не дышал.
Я слышал стон.
И ничего не мог поделать.
В подвале том было окно,
Но я тому окну не верил.
Не верил я ни стуку двери
Ни треску дерева, ни пеплу,
Через окно я видел к небу
В мольбе протянутые руки…
Тем, кто молил о милосердьи,
Давали порцию свинца,
А ветер доносил мне песни
Из-за стены –
Там пели вальс…
Весёлый вальс.
Я выбил табуреткой стёкла,
Изрезал в кровь
Ладонь, лицо
Но выбрался.
Дом рухнул – я завыл,
Рукой размазывая пепел
По полумесяцу лица,
А за стеной кружились карусели
И вальс сменил бравурный марш…
Кто слышал вопль мой?
Только трупы.
Стенанья не нужны стенам.
Пошатываясь, я побрёл на звуки
Чужого,
Злого
Праздника…
А кровь всё плакала навзрыд -
Вычерчивала письмена на коже.
Я выходил из Ада в жизнь,
Но жизнь была на Ад похожа…
Я этим сукам не прощу Освенцим!
2.
Здесь были дни, когда себе не веря,
Я пел о дальнем,
дольнем,
вышнем,
Когда в себе, увидев зверя,
Я волком выл на лица, крыши.
Здесь были дни.
Здесь были дни,
Когда не пели звёзды,
Когда казался свет скитальцем,
Осенним злым протуберанцем
Метался я меж сонных стёкол
В такие дни.
В такие дни мне память выдавала
Сухой паёк воспоминаний,
Сто фронтовых обид, страданий
И лагерный жестокий смех
Над теми, кому рвали рёбра,
Клещами вырывали глотки,
Гонведские венгерки,
Каски, чётки,
Взгляд воспалённый,
Шаг на бег
Срывается.
Огонь. Паденье.
Я видел всё –
Я жал курок.
И палец пел от напряженья,
От боли лопался висок.
Что это было?
Сны, виденья?
Что это было?
Я ли там?
Взгляд воспалённый.
Бег. Паденье.
И запах смерти.
Из ствола.
Расстрел моею был работой.
Одной из многих.
«Полицай!» -
Я слышал в каждой деревеньке,
Что проезжал…
И не было мне ни покоя,
Ни сна, ни жизни, ни мечты.
Я шпрехал по-немецки бойко.
Я польский идиш подзабыл.
И ночью лишь являлась робко
Ко мне у изголовья мать,
Садилась, не спеша, на койку
И всё смотрела на меня
С немым укором…
И я ей клятвенно твердил,
Что накоплю побольше сил,
И в лес уйду, и стану злым,
Но вопли горна
Призрак рассеивали вдруг,
В слезах я вскакивал с постели,
И верный «Люггер» из шинели
Выхватывал дрожащею рукой.
В кого хотел стрелять?
Кричал: «Постой!»
И в пустоту протягивал ладони.
Холодный душ. Бритьё. Примерка формы.
И снова я готов
Быть не собой…
В тот день
В варшавском парке
За стеной
Я клялся всем Богам, что не забуду.
Что не прощу,
Что не спущу,
Что отплачу
За кровь я кровью!
Не отплатил,
Всё всем простил,
Не отомстил -
З
А
Б
Ы
Л…
Пусть и меня забудут.
Здесь были дни.
3.
Здесь были дни, сменялись ночи,
Как часовые в лагерях.
Я жил, я верил, я боролся
С самим собой. Я помню как
В казарму нашу постучали -
Гестаповец вошёл в барак.
Меня и двух ещё связали,
Пинками гнали, как собак
В жерло вагона,
плотный смрад
Чужого страха.
С нас содрали форму.
Три робы выдали. Один хотел бежать.
Так и остался на перроне
С простреленной башкой лежать.
Мы не пытались –
Поменялись роли.
Так что с того?
Мне не впервой…
…И трясся я в вагоне обречённых
И каддиш бормотал какой-то гёз.
Вокруг меня круг отчужденья,
Вокруг меня десятки глаз,
В глазах тех беспредельный ужас:
Я – волк среди затравленных собак.
Я – волк.
Я – пария.
Я – нелюдь.
Я слился со стеной вагона.
Но челядь,
челядь,
челядь,
челядь
Мне пятки лижет, смотрит в рот.
И гадко мне,
До дрожи больно,
И в области души набат!
Трясусь в вагоне обречённых –
Отрезаны пути назад.
Вдруг вижу –
Нет! Не может быть! –
Знакомое в толпе лицо.
Анишка. Ангел среброкрылый.
И вспомнился вдруг отчий дом.
И я заплакал…
И я заплакал. Её имя
Я стал шептать как заклинанье
Она скользнула по мне взглядом
И вновь ушла в своё сознанье.
Я двинулся
Сквозь сонмы тел.
Я двинулся.
Плевать мне на конвойных!
Я двинулся.
Я быть хотел
Поближе к ней
Пусть и ценой
немалой крови.
Конвойным было всё равно –
Под стук колёс удрых конвой.
Я к Анишке подсел, а гёз
Всё бормотал заупокой.
Глазами меря пустоту,
В каком-то диком полутрансе
Она молчала, я рукой
Дотронулся до края платья.
Её протяжный долгий крик
Вернул к реальности дозорных
И выстрел в воздух прекратил
Напев седой заупокойный.
Поднялся дикий шум и гвалт
Кричали люди,
Выли люди.
Как тени, как призраки, как Иуды
Вымаливали жизни малость.
Анишка всё кричала, крик её
Бездомной птицею метался по вагону
И возвращался удесятерённой болью
К устам несчастной.
Отстранился
Я от неё, вонзил свой взгляд,
В решёткою размеченный квадрат,
Что здесь окном зовётся.
За окнами плыла печаль,
Разреженные серые дома,
Как рот прополотый цингой.
Анишка замолчала, её взгляд
На мне остановился. Нелегко
Во мне было узнать того мальчишку,
Что ей писал стихи,
Дарил цветы
И клялся в верности до крышки гроба.
«Франтишек, ты?» -
Так ласково, знакомо
Здесь измождённый голос прозвучал,
И я хотел ответить, только к нёбу
Язык прирос от изобилья слов.
Пришлось кивнуть обритою главою
И промолчать. На небе меньше звёзд
В ночь лунную, чем было между нами
Недоговорья, боли, тишины…
Сидели мы друг против друга,
Молчали
Изучали
Сны…
И были сим довольны.
Меж тем остановился поезд.
Всех выгнали на плац для переклички.
Пока зека считали нычки,
Дозорные считали нас.
По головам.
По группам крови
Нас разделили позже,
Женщин в женский лагерь
Отправили вторым составом.
Нас здесь оставили
Освенцим-Биркенау
Маячил впереди
Ещё незримой тенью…
4.
Тень становилась ближе, глубже,
Дышали смертью серые просторы,
Почти больничные, слепые коридоры
Бараков, канцелярий и домов.
Вот вновь
Раздались окрики конвойных,
Хруст плеч остатков непокорных
И надпись на вратах: «Труд делает свободным»
Насмешкою звучала.
Била плетью по каждому,
Кто поднимал глаза.
Таким был первый день,
Таким был первый день, а я
Я вспоминал её лицо
И был им счастлив.
Нас на плацу –
Был март в разгаре.
Дожди. Снега. Опять дожди. –
Раздели. Развели в бараки.
И выдали нам робы, стихари
И даже рясу.
Так жили.
Не было героев.
Так жили.
За весной весна.
Работой был загружен крематорий
Сполна.
Пятнадцать до полуночи минут.
Я никогда так долго не мечтал.
Освенцим-Биркенау. Равенсбрюк.
Мужчина – Женщина.
И тишина
Апрельской ночи…
Был таким апрель
Ещё в той незнакомой жизни,
Где было счастье,
Где жила любовь
Где простотой и светом были мысли
Наполнены.
Сочился смех,
Как винный сок
Из пламени бокала,
Где был я ослеплён и нем
Пред Анишкой.
Она сияла
Луною в серебре реки,
Манила корабли
И встречи ждала,
Но не со мной.
Увы…
Мы были словно два
Цветка сирени,
Быть может, потому
И не любили мы
Она была с другим,
И я с другою –
Нам счастье вечно кажется вдали,
Но там песок лишь…
Так настало утро.
Нас выгнали на мёртвый плац,
И, слава Богу, что нашлась работа
Мне по плечу. Опять в айнзац-
Команде. Первым делом
Мне дали порученье расстрелять
Полсотни узников-евреев
Из-под Варшавы. Сей же час
Я выпустил оружие из рук,
Обвёл прощальным взглядом лица, стены
И плюнул прямо в лоб тому,
Кто дал приказ к расстрелу пленных…
Что мне осталось пять секунд
Коптить весенний, чистый воздух,
Я понял лишь, когда мне в грудь
Упёрся рогом штык подствольный.
Он процедил мне:
«На колени»,
Он прокричал мне:
«На колени!»
Он, жилы разрывая,
девятибалльным штормом пел мне:
«На колени!!!»,
Но я стоял.
Я всё стоял и взгляд не отводил
От глаз того, кто предложил мне сделать выстрел.
На штык тихонько надавил
Блондинистый солдат с лицом арийца.
А тот, кто дал приказ,
Весь как-то сник, обмяк и сдулся.
Он выстрелил, но промахнулся.
Железной рукояткой выбил зубы
Мои.
На мокрый от дождя асфальт…
Но штык убрали между делом.
Я снова мог дышать спокойно.
Я стал своим среди отбросов
И стал их бога восхвалять…
5.
Равенсбрюк. Оголтелая масса дев
С бритыми наголо головами.
Девушки, женщины, старухи, дети
В грязных, асфальтовых тюремных платьях –
Жуткое зрелище.
Солнце весеннее
Невинно играет на лицах их,
Цветы распускаются за оградой
Лагеря. Напевают дрозды
Марш обречённым.
Я среди них.
Странно-белое платье
Локоны вьются
Аж до плеча.
Улыбка – пусть горькая –
Я радуюсь Солнцу,
И взгляд не затмила
Равнодушья печать.
Здесь никто никому и ничем не обязан.
Здесь стадо, а сзади
С семихвосткой пастух.
Нас разбивают
на блоки, отряды
И ведут
В душевую…
Покорно
Шагают люди
Покорно,
Но каждый шаг –
Бомба
С замедленным действием,
Крик – запал.
Я не кричу –
Не умею.
Я разучилась кричать
За эту вторую жизнь
С глупым названьем – «Война».
Далеко впереди
Стон
Оборвался свинцовым
Смехом
И путь продолжил
Строй
По телу.
Ещё тёплому телу…
Открылись со скрипом петель
Адовы те ворота
Стадо загнали в загоны
И – слава Богам! –
Дали воду!
Пусть ледяную,
Пусть:
Лёд - это тоже
Жизнь
Грязь сотен тысяч вёрст
Камнем струится вниз
С тела.
Мне хорошо – я живу.
Душ, как февральский дождь
Или январский снег
На памяти том берегу.
Там был когда-то дом,
Любила и плакала мать,
И Солнце в седых облаках
Смеялось.
На том берегу…
По белому полотенцу
Выдали каждой из нас,
Насухо наказали вытереться
И на раздачу одежды –
Марш!
Холод обдал лица,
Холод обжёг сердца
Нас обманули,
Нам не вернули
Тюремные платья, замерзать
Оставили женщин…
Чей-то ребёнок заплакал.
Кто-то заткнул ему рот.
К нам вышел доктор, представился:
«Мария-Гертруда Ворк».
Она объясняла долго,
Что это проверка на прочность,
Что дарвинскую аксиому
Не отменили ещё,
А наши зубы стучали,
А наши колени дрожали,
И обречённостью тлели взгляды
При этих словах её…
Так стояли мы двадцать минут,
Наготу прикрывая ладошкой,
Не падали в снег слёзы –
На лице замерзали коркой.
Первыми падали дети,
Скрючившись в ком от холода,
Матерей отгоняли выстрелами,
Рвущими воздух патронами.
Непонимающим пуля
Разрывала плечо иль ногу,
Реже стреляли в голову –
Мы были им нужны.
Двадцать минут унижения,
Двадцать минут отчаяния
По мановению доктора
Вдруг обратились в часы…
К концу этой пытки
осталось две трети,
Цеплявшихся за
Любую жизнь.
Нам бросили робы
Как кости собакам
На снег, ожидая,
Что сделаем мы…
Мы озлоблённой, неистовой стаей
Бросились на
Кучу тряпья.
По снегу катались,
Волосы рвали,
Бились, как звери,
За матерчатый плат,
Ставший Граалем…
И Панацеей,
Последним оплотом
Женщины, Гордости.
Мы были в преддверии Ада,
Видели пропасти
Грязное жерло…
6.
Медленно тянется время.
Один сплошной день.
Промежуточный сон.
Лающий смех
Старосты блока.
Он всегда смеётся.
Он начал сходить с ума
На третью в бункере ночь,
На четвёртую он устал.
И сдался.
Сдаёмся и мы.
Потихоньку.
Поодиночке
Усталыми ягодами
В кре-
ма-
то-
рий
Падаем.
И с пеплом – свобода!
Очередь ждёт…
Самое страшное - ожиданье
Выстрела. После легко.
Нас убивают. Мы убиваем.
И тем и другим
Всё равно.
Мне одиноко, а впрочем,
Чего ещё можно ждать
Тому, кто стрелял в невиновных,
Кто братьев своих стрелял
Как зверей на охоте.
Было в моде
Стремиться попасть прямо в сердце
С пятнадцати метров.
И я попадал.
И выстрелом каждым
Себя в сотый раз убивал,
Как Каина Авель –
В спину.
Здесь каждый помнил меня
В полицейской фуражке,
Здесь мне в морду плевали,
Били в живот…
Так хотелось мне, но на деле
Меня для них не было.
Вот и всё.
Всё, что осталось –
Память о прошлом.
Кривое хоть зеркало,
Да своё.
Мне и смотреть порой
Тошно,
Да как выйти из тела,
Когда в нём идёт кино?..
Я снова в Варшаве.
Детские годы.
Я у мамы один –
Отец в лагерях.
И мелодия скрипки –
Бесценный Вивальди –
И простуженный ветер,
Голых веток печаль
По парку разносит.
Снова Осень.
Светлая Осень,
Мирная Осень,
Тёплая Осень
Перед войной…
Лампу прошу не гасить –
Лампу нельзя убить,
С лампой не страшно жить.
Я буду спать с огнём.
Я буду спать с огнём.
Дым можжевеловых досок,
Крики людей и окон.
Я словно в гетто снова.
Проклятое déjà vu!
Лагерь. Горят бараки.
Всюду снуют люди,
Ходят немые слухи.
Что здесь произошло?
Что здесь опять случилось,
Чем провинились снова?
Бараки горят, как дома.
Бараки горят. Никого не спасут.
Никто и не хочет.
В окне одного из бараков
Мелькнуло лицо мальчишки.
Ему было очень страшно.
Я в нём разглядел себя
И бросился,
Всех толкая,
И бросился
Наперекор всем
В пылающий ад барака,
Чтоб вытащить пацана…
И вытащил. За спиною
Барак превратился в песок
Мальчик открыл глаза.
Я понял, что вышел срок
Мытарств моих.
Звали его Андрейкой.
Весёлый и добрый малыш.
Ночами он бился в кошмарах
Да так, что кусал язык
Едва ли не до крови…
Мне его не было жалко,
Я просто любил его.
Так верят на слово Богу.
Так верил и я
До…
Андрейка зовёт меня папой,
Кто я, чтоб его разуверить?
Да и зачем это нужно?
Даже волки живут в семьях.
Каждому нужен кто-то.
Тот, на кого положиться
Можно в любую минуту.
Даже если случится
Непоправимое, ты будешь знать,
Что кто-то прольёт слезу,
И будет тебя вспоминать
Хотя бы один раз в году…
Пусть
И один раз
В году…
7.
Песня.
Откуда здесь песня?
И откуда я её знаю?
Женский голос.
Тонкий голос.
Колыбельная моей мамы.
Я начинаю петь.
Странно –
Поют все…
Люди не понимают слов,
Не слышат мелодии,
Но поют!
Волна
С отчаянностью льва
Бьётся о линию берега.
С каждой волной всё сильнее,
яростнее,
злее…
Но через миг
Остаётся лишь пена…
Песня глохнет, молкнет,
Обрывается на
Полуслове
Кроме
Тишины
Боле
Ничего…
Холод –
В стенах барака щели,
Сквозь щели время
Уходит рекой.
Час за год.
За Вечность – неделя.
Нас с каждым днём всё меньше.
Тех, кто прошёл школу
Марии-Гертруды Ворк,
Но транспорт приходит снова.
Точен,
Как Цюрихский Банк,
Полон,
Как сердце – болью.
Не осталось в бараках лежанок,
И трупы редко выносят.
Они разлагаются тихо,
И даже почти не пахнут.
Холодно,
Холодно,
Холодно –
Запахну поплотнее рубаху.
Всё, что осталось – сон,
Всё, что мне дорого – память,
А за окном – костры.
На наших костях жарят
Нежные бёдра Ев,
Рёбра местных Адамов
Руку ребёнка ест
Обершарфюрер Тарнкхоф.
А в крематории стон.
Белые клещи, обугленной кожи
Вонь.
Выбрасывают из двери скелеты
С ободранною спиной…
Полведра мяса
Вращает глазищами.
Кровавая пена изо рта –
Кричать пытается.
Сонный выстрел
Истинного арийца.
Занавес.
Что ещё скажешь?
Смерть – избавленье.
Только не здесь.
Здесь душа исчезает навеки,
Тело пустое ещё долгое время
Может дышать…
Скоро апрель…
Скоро апрель. Мне будет двадцать.
По отражению в луже не скажешь.
Волосы редкие и те – выпадают.
Что со мной,
что со мной
будет дальше?
И будет ли «дальше» вообще?
Я номер пять тысяч и две единицы –
Недавний совсем продукт.
Из нашего транспорта осталось трое.
Я, страдалица Эльза и Рут –
Молчунья.
С Рут невозможно вести разговор:
Она отвернётся к стене и заплачет,
Эльза послушает речь твою,
Головой покивает,
И снова в рассказ
О том, как ей было страшно,
О том, как ей было больно,
Когда десять бравых молодчиков…
Тут отключаюсь я.
Я вспоминаю дом,
Я вспоминаю Варшаву
Тихие улочки и небеса
Цвета тёплого золота с отблеском алым
И на горизонте алые паруса…
Паруса те пропитаны кровью.
Нет на бриге матроса и боцмана,
Капитан со вспоротым брюхом
В трюме меж сундуков
Скорчился…
Но маленькой, стройной девочке
С русой косой до пояса
Не пристало думать об ужасах.
Ей бы принца.
Ну хоть какого-нибудь!
А корабль, между делом,
Всё ближе.
Радость.
Страх.
Ожиданье.
Смятение.
Только вороны
На запах падали
Стаей шумною
Налетели.
Обезглавленная наяда
Смотрит в небо обрубком шеи,
Руки сжимают голову,
А вместо лица – зеркало…
Нос корабля таранит мол
Доски гавани со скрипом жалостным,
Сминаются, словно бумажные
Жизни, надежды, он
Сходит по трапу.
Тяжёлая поступь.
Скрыто под шляпой лицо.
Тянет ко мне руки.
Делает шаг.
Ещё…
Просыпаюсь.
8.
«Папа, смотри – жучок!» -
Протягивает мне ладони.
Я говорил уже, кажется -
Меня он зовёт отцом,
А матери нет…
Андрейка растёт по часам,
По минутам,
Он учится заново видеть мир.
Ему здесь спокойно, привычно,
Уютно.
О том, что за вышками – жизнь,
Он забыл.
Или не знал об этом,
Родившись по сторону сю
Малым комком нервов,
Разрезав ночную мглу
Собственным криком,
Холодные руки
Отняли его
У Марии Земной.
Так матери он никогда не увидел,
Не знал и того, от кого он рождён.
Андрейке пять лет.
Половины лица
Просто нет…
Тот злосчастный пожар
Виноват.
И всё же,
И всё же,
И всё же,
Жива
В нём искра жизни –
Негасима она.
А на руке жучок
Горит перламутровой спинкой,
И я говорю: «Изумруд»,
И вижу в ответ улыбку
На лике блаженном…
Глаза мои слепит Солнце,
Усталый и нежный ветер
На воле меж сосен бьётся,
Лениво рождая песни
Дроздов и горлянок.
Мелких, но столь узнаваемых птиц
И боль и страдания меркнут
От музык целебных их –
Они пахнут домом…
Они пахнут домом,
Свежескошенным хлебом,
Ароматом лугов и трав,
Бесконечным, бездонным,
Бескрайним небом,
Которым ты дышишь,
Если устал…
И мне так спокойно, так сладостно, словно
Чудо свершилось – я вышел за дверь
С надписью глупой над вратами,
Но это лишь сон.
Отсюда побег
Возможен лишь в качестве пепла…
Андрейка
Свободно гуляет на заднем дворе
Под скрытым присмотром.
Мы его прячем всем бараком,
Подкармливаем, чем можем,
Спит он на верхней койке –
Рядом со мною.
Если нагрянет проверка,
Он знает куда забиться –
Война научила прятать
За улыбкой жестокие мысли.
«Папа, смотри – жучок!»…
9.
На плацу, утрамбованном
Тысячей ног,
Нас построили –
Особей женского пола.
Добровольцев на эксперименты
Пытались найти снова.
Увы, безуспешно…
Слишком многие обманулись,
Слишком многие не вернулись
Слишком многие обернулись
На ветвях снега ветхой одеждой.
И апрель – не апрель,
И весна – не весна,
Что за жизнь?!
Для чего она, Боже?
Если есть ты в выси,
Если есть ты на дне,
Если в сердце моём,
Что ты можешь?
Молчать…
Я тоже молчу.
Плакать, как Рут, не умею,
Как Эльза, страдать не умею
Зачем и кому нужна,
Не знаю…
А время, меж тем, неустанно
Капелью сжигает жизнь,
И холод пробирает до суставов,
И мучает артрит…
Но мне лишь двадцать!
Я не хочу так просто умирать,
Я не могу себе позволить сдаться,
Пусть я одна,
Пусть
Я
Одна!
Ради самой себя
Сражаться стану…
Кто же ещё,
Если не я?
«Она!» -
И голос, будто из могилы,
И палец указующий под стать,
Но в пальце этом больше силы,
Чем в сотне тел.
Таких, как я.
Я покоряюсь ослеплённой лгунье,
Что вместо губ частенько подставляет зад,
И выхожу из жизни строя,
Я – холостой, пустой снаряд,
Готовый к смерти.
Ещё набралось под десяток
Воспоминаний бледных человека
За ангелом с повязкой «Гитлер Югенд»
Процессия теней пошла.
Как дети малые за флейтой Крысолова
Бросались и в огонь, и в воду,
Так мы за ней,
Давно готовы,
Покинуть этот мир,
Где слишком больно,
Где тела храм
Покинула душа
Недобровольно.
10.
Мой мозг раздавлен, сломлен, смят,
Мой мир унижен, выжжен, брошен
На спинку стула, чуть дыша
Ложится Осень
Шёлковым шарфом,
Как змея…
Мой дом
Не здесь.
Мой дом
Сожжён.
Моя семья –
Скелетов стадо
Мой номер –
Девять
Сорок
Два.
Два треугольника из ткани
На рукаве.
Во мне
Живут
Своей особой
Сонной жизнью
Лиц хоровод,
Петля из тел
И вечный дождь.
Мне было больно.
Мне больно и теперь
Об этом думать.
Не думать не могу –
Мысль – шаг
По via Dolorosa
С надеждою и без неё
В конце…
Вот снова
Поезда огни
Сияют странным, мёртвым светом
Трясутся тени там, внутри.
Ни света, ни души,
Ни воздуха, ни смеха…
Да, было так.
Я был среди теней.
А, впрочем, для чего
Рассказываю это?
Кому посвящена
Усталость ломких строк
Осенним вечером,
Когда душа согрета
Немой печалью?..
Святая простота,
Беззлобное молчание,
Безмерный океан
Из ожидания
И неземной тоски,
Спроси,
Откуда мне известно это.
Тебе ответит нежный ветер,
Несущий тем, кто юн и светел,
Кошмарный
Чёрно-серый
Пепел…
И к Одиночеству пути
Добавит встречу
Тот же ветер.
А мне останется
Уснуть,
А мне останется
Забыться,
Вновь выпустить
Те судьбы, лица,
Пересечению которых,
Перемешению которых,
Перекрещению которых
Свидетелем бесстрастным был
Слуга покорный…
Позвольте сей же час вернуться
Туда, где мы оставили героев –
В Освенцима слепые коридоры,
В стерильность разрешённых боен,
Больничный запах душегубок,
Мир лжецов,
Где каждый, как никем,
Собой доволен…
Андрейка спал, когда парами шнапса,
Перемежаемыми крепким матом
В наш сон ворвался староста барака,
За ним эсесовцы в чёрных плащах
И с автоматом.
Тихо щёлкнули затворы,
Был плавно спущен медленный курок
И, словно птицы, заметались люди,
Пытаясь вырваться.
Шёл сорок пятый год.
Начало мая…
Как только зазвучала эстакада
Тех выстрелов, накрыл собой
Андрейку я, а за окном светало
И алым облака наполнились, и рос
Кровавый жемчуг выпал на растенья.
Я опоздал – он был убит,
И струйка жизни обагрила
Седое серебро ланит…
Трясущейся ладонью
Я прикоснулся к телу,
Что хранит тепло,
И слёзы ненависти,
Отмщенья слёзы,
Избороздив моё лицо,
Капелью били в грудь его…
Мне было больно.
Как водится, в слезах
Находим утешенье.
До утешенья было далеко
Я закричал,
Но этот крик
Остался одинок
В печали…
Мои собратья, как зверьки,
Прижались к стенам –
Страх владел телами
Немногих выживших, увы…
Нацисты были недалече
В предсмертный, предсвободный вечер
Ещё десяток душ
Не стоил и гроша…
Когда вошли
Те палачи
С зажжённым факелом из тряпок,
Барак, как рой,
Сорвался с мест
И бросился на пулемёты с камнем
и даже без него…
Кипучая
Безудержная
Ярость.
Огонь в глазах.
Куда же делся страх?
От человека мало что осталось,
От зверя больше.
Содрогнулся штат
Айнзац-команды…
Нам было больше нечего терять.
Мы, словно крысы, шли по трупам
Своим, чужим,
Мы были неотступны,
Как Страшный Суд,
Как плата за грехи…
Фемида ужаснулась от деяний,
Под маской спрятала девичий взгляд.
Плясала над телами Немезида,
Мы затащили их в барак
И подожгли сооруженье…
Нашли нас утром.
Там же, у барака.
Никто и не подумал о побеге:
Нам некуда бежать.
Читатель,
Верь мне:
На дне бутылки то же отраженье,
Что и в любом куске стекла…
Никто и не подумал о побеге.
11.
Одиночество.
Знаете ли вы, что такое одиночество?
Минуты превращаются в часы,
Часы в дни.
В один день.
Нескончаемый.
Нет окон.
Дверей.
Голые стены.
Еда два раза в день.
Первый день бьёшься в истерике,
Оставляешь кровавые следы на бетонных стенах,
На третий день приходит призрак отчаянья –
Становится всё равно.
За отказ от пищи –
Единственный способ избавления –
Бьют током.
Через ошейник.
Несильно.
Не до смерти.
До зыбкой грани
Снов.
Через время
По ошейнику вновь пропускают ток,
Чтобы вернуть ваше тело к реальности.
Я держусь уже двенадцатый день.
По моим подсчётам…
Неожиданно отодвинулась стена.
Часть стены.
В проёме вырисовалась фигура.
Одинокая, холодная, неизбежная.
От неё веяло опасностью, смертью.
Впрочем, мне было всё равно.
- Ты свободна.
Он попытался снять ошейник,
Я вырвалась, плюнула в лицо незнакомцу
И с силой ударилась затылком о стену.
Звякнула надрывно цепь.
-Ну что же ты?
Я – друг, -
Он протянул мне руку
Ладонью вверх, -
Я Мнишек.
А ты?..
- А…
-Что же они с тобой сделали?
Сволочи!
- Ан… Ан…
- Мы отомстим за тебя!
Мы за всех отомстим!
- Анишка.
- Вот и познакомились.
Я вышла на солнечный свет,
Вдохнула свободы воздух.
Безжалостна лет поступь –
Анишки больше нет.
Анишки больше нет –
Голубоглазой девчонки,
С русыми, до полу, косами.
Анишки больше нет.
Есть полумёртвое нечто
С иссечённым морщинами ликом,
Усталым безжизненным взглядом –
Беззвучным души криком.
А мне было двадцать лет…
Что стало с моей Варшавой?
Куда мне теперь возвращаться?
Я выжила. Не за что драться.
Зачем мне теперь идти?..
Трясусь в санитарном поезде.
Сплю. Просыпаюсь. Сплю.
Прокручиваю лица
Тех, с кем была в строю
В Равенсбрюке.
Становится легче.
Куда и зачем
Я еду,
Кого там надеюсь
встретить?
Меня не узнают люди,
Я не узнаю себя…
Кто я?
Зачем я?
Может, не нужно?
Может, сойти,
Не вернуться, забыться,
Может, прилечь
Средь высокой травы
Может, уснуть,
Убежать,
Раствориться,
Может, опасть, как по осени листья,
Или увянуть, как в вазе цветы?
Вот остановка.
Конечная станция.
Мимо меня
Проносят бойцов
С оторванной голенью,
Распаханным брюхом,
Но улыбающимся лицом…
Эта улыбка –
Знамение,
Выход -
Они умирали, чтоб выжили
Мы,
И лучшей наградой
Им будет
Память
В наших
Сердцах…
Я БУДУ ЖИТЬ!
12.
О, Женщина!
Ей имя – Безнадежность.
Она, как детский сон –
Пуглива.
Невыносимо
Быть не с ней
И с нею быть
Невыносимо.
О, Женщина!
Ей имя – Безнадежность.
Я встретил Анишку
Тому пятнадцать дней.
Я встретил Анишку.
Она была средь прочих
В кофейне, что под окнами. Люблю
Я там бывать. Хороший кофе
Там подают. И булочки к нему…
Её увидел я,
Она сидела в профиль,
Свет утреннего солнца был к лицу
Неблагосклонен.
Время. Время. Время.
Она была одна.
И я один.
Я подойти хотел,
Но неземная сила
Легла на плечи Тишиной, прибила
К сидению меня.
Я стал смотреть…
Как в cinema
Покорный зритель.
Что связывало нас?
Воспоминанья?
Печаль?
Та, что одна на всех?
А, может быть,
Связал нас лагерь
Татуировкой вечной на руке?
Мы меченые,
Мы уже другие,
Нам не вернуться в мир простых прохожих,
Где друг и враг
На лица схожи,
Где пепел душ
Вокруг лежит
Весенним снегом…
Она ушла.
Я вслед за нею.
Зачем?
Не знаю. Просто так.
Она прошлась по магазинам,
Свернула в переулок,
Чуть дыша
От странного волненья
Я свернул туда же…
Проулок оказался пуст.
О, Женщины!
Вам имя - Безнадежность.
Шарманщик навевает грусть
Своей игрою…
Тихий, сонный ветер
Ухаживает за старлеткой,
Досрочно сбросившей наряд,
Лишь для того, чтоб быть воспетой
Усталым и потерянным поэтом.
Таким, как я.
Но я хочу молчать…
Играй, шарманщик –
Дай мне шанс забыться…
Но что это?
Мне слышатся шаги.
И за спиною
Шёпот-плач:
«Франтишек, ты?»…
О, Женщины!..
Голосование:
Суммарный балл: 30
Проголосовало пользователей: 3
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 3
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
|
Оставлен:
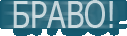 |
ev679540
|
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор
Интересные подборки:







