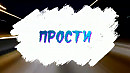-- : --
Зарегистрировано — 123 533Зрителей: 66 600
Авторов: 56 933
On-line — 23 333Зрителей: 4613
Авторов: 18720
Загружено работ — 2 125 427
«Неизвестный Гений»
Час кальвадоса. Фрагмент романа.
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |

`Рассвет ли, закат ли, очередные ли сумерки очень белой ночи: мягкие тени на земле и светлое небо с блеклыми звездами. В низинах волнами течет туман. Похоже на воду. Железнодорожная платформа, на железобетонных сваях, медленно плывет по туманной акватории. Как корабль. Недавно прошел дождь, и лужи на платформе отражают неоновый свет от фонарей, разбитых, примерно, через один.
Таркус сидел в шезлонге, на палубе белого океанского корабля, и пил пиво из бутылки. Плыл куда-то в тропики, на какие-то острова, с креолками, крабами и кораллами. Отхлебнув из бутылки, Таркус запрокидывал голову и смотрел на сиреневое небо, на белых, до боли в глазах, чаек или альбатросов, паривших среди мачт, антенн, вымпелов, перекладин, тросов, канатов и других пенькоджутокрученых изделий, несомых лайнером. Когда созерцание небес прискучивало, или глаза начинали слезиться, Таркус опускал голову снова к пиву и дул поперек горлышка. По мере убывания пива звук становился все ниже. С опущенной головой Таркус мог наблюдать за двумя джентльменами, сновавшими туда-сюда по палубе. Джентльмены были одеты в шорты, гольфы и тропические шлемы. По пути своего следования они аккуратно огибали трубы, основания мачт, тюки с кофе, табаком, коньяком и парфюмерией, матросов, компасы и кнехты.
Джентльмены ходили молча. Изредка напряженно переглядывались. Со стороны казалось, что они идут к конкретной цели, хотят поделиться между собой чем-то очень важным, решить какую-то проблему, а вовсе не просто прогуливаются по ограниченной океаном плоскости. Иногда они останавливались, теребили свои шлемы на головах, снимали и вновь одевали темные очки, клубили ароматным сигарным дымом, и, так и не произнеся ни слова, шли дальше.
-Из пробки, - подумал Таркус,- как пить дать, из пробки, эти их панамки. Глотнув пива, с уже можжевеловым привкусом, Таркус откинул голову, ожидая увидеть над собой Южный Крест. Но увидел лишь бледную Малую Медведицу. Стал искать Большой Ковш, но не нашел. Дунул в дно бутылки, как желе дрожавшее под слоем пива, и замер. Сказочным Джинном, извлеченный из сосуда, звук попал в аккорд к звону рельс и далекому гудку. Приближалась электричка. Двое мужчин, один в мятом плаще, другой в ватнике, и оба в кепках, молча прошли мимо Таркуса. Противно пахнуло Беломором. Пора было идти. - Это был не волшебный Джинн, а просто джин – тоник, - подумал Таркус и поставил под скамейку пустую бутылку.
Налетел электропоезд – сначала слепящим светом прожектора, затем толчком воздуха, и загрохотал мимо. Мужчины остановились и стали кричать что-то друг другу на ухо, заполошно размахивая руками и не слыша ничего из-за шума. Поезд прошел, мужчины замолчали, неуверенно потоптались и побрели дальше.
- Ну, наконец-то, поговорили, - подумал Таркус, - Цицероны хреновы. Взял со скамейки свой потрепанный портфель и медленно поднялся. За шиворот упала капля и холодом прозудела по позвоночнику, замерев на копчике. Таркус поежился ягодицами и зашагал по платформе. Электричка, уже прощально, погудела издалека. И опять ее сигнал слился, на сей раз, с гудком какого-то ночного производства. Таркус обернулся. По радуге рельс огромного радиуса к небу белой ночи взбирался светящийся червячок электрички.
Под ногой разбилось неоновое зеркало лужи, и в ботинке захлюпало. Через несколько шагов из дырочек летней туфли выступила пена. СМС, - подумал Таркус, - конечно, это СМС - синтетическое моющее средство – я не прополоскал носки после стирки – сантехники отключили воду. Таркус снял промоченную туфлю и запрыгал на одной ноге. Под фонарем поднес туфлю к глазам. На зеленоватом глянце кожи изысканно бархатилась розовая пена. С трудом удерживая равновесие, дунул внутрь туфли. Из дырочек вылетела стайка мыльных пузырьков. Над железнодорожной платформой вспыхнуло радужное облачко.
Рассвет. Или закат. Да не день ли. Но что не ночь - точно. Или нечто иное. Серо–серебряное сияние. Нет ни света ни тени. Ни земли ни неба. Ничего. Или все. И чувство тревоги. И легкости. И неотвратимости. Страшного и манящего. Как глаза гюрзы. Большой каменный зал. Благородные пропорции – два куба. Окна – щели под потолком. За одним из них птица. Огромная, темно – оранжевая. Суровый всевидящий взгляд. А столь многое хочется скрыть. Стереть из минувшего. Забыть. Рядом лежит или плывет труп. Труп моего друга. Я это знаю. Не так уж сильно он и разложился. Почти голый череп. Ввалившиеся глазницы. Зубы без губ. Характерная переносица. Завитушки рыжеватых волос. Полусгнившие эти ботинки помню. А вот истлевший клок ткани. Это была белая рубашка.
Да, да мы же тогда купили две одинаковые рубахи. То ли случайно, то ли нарочно, уже и не вспомнишь. Ну, одна вот она. А мою выкрала давно покинутая любовница. Перед расставанием она вдруг стала похищать у меня заношенные, пропахшие потом вещи. А я, когда приходил к ней, забирал их обратно, удивляясь столь странной прихоти. Но тут же обнаруживал, что из моего скудного гардероба пропало что–то еще. Потом уже, много позже, она призналась, что одевала эти мои одежды и имитировала близость со мной. Вот на этой рубашке мы и расстались.
Мелкий дождь. Джемпер на голое тело. Виноватый взгляд. Стук головой о закрывшуюся дверь. Ощущение невозвратности. Отчетливо вдруг увиденные листья тополя в каплях. Будто одел нужные очки.
Тело мое покрыто трупной жидкостью. Уже затекает мне в рот. Захлебываюсь. Да, похоже, я и сам разлагаюсь. Болезненное наслаждение. Засвербело колено. Показался белый кольчатый червь. А вот еще и еще. Вытаскиваю их из себя и отбрасываю. На ощупь твердые. Шевелятся с силой. Попытался одного раздавить. Раздавились пальцы. Их все больше и больше. Кишат. По спине скользящий удар змеиных извилин. Гюрза. Ужас и боль.
Таркус дернулся, как от удара электричеством в спину, и очнулся. В страхе еще, открыл глаза, но ничего не увидел – темно. Хотя сам он и лежал без движений, под ним что-то размеренно поскрипывало и гудело. - Ну вот, мне только этого еще и не хватало, – подумал, - похоже, кто-то рядом похоти предается. Приподнял голову – звуки прекратились. Снова приложился ухом и сообразил: это его старый диван всем своим изношенным и чутким нутром отзывается на удары его собственного расходившегося сердца. Нащупал включатель ночника и надавил. Стало внятней.
Незастеленный диван, пол вокруг заплеван недососанным валидолом, на столе недописанное письмо. С надеждой утолить жажду, потряс пластиковую бутылку – пусто. Дотянулся и придвинул по столу с противным скрежетом банку с увядшим букетом сирени, сам же и наломал как-то ночью на островах. Вынул из воды мокрые ветви – за ними потянулась нить слизи и плавно опустилась на бумагу. Чернила податливо расплылись полосой и снова засохли. Жадно приник к банке и стал проглатывать, обливаясь, мутную воду. Вкуса сначала не почувствовал, только прохладу и, как будто, песок. Затем появилась горечь, и память услужливо предложила в аналог трупную жидкость. Едва успел склониться с дивана, как бурно изверглась рвота. Попало на лист бумаги, валявшийся на полу, и, сквозь слезы, на уцелевшем фрагменте, Таркус прочел – «…человек появляется на свет, а тут может быть все что угодно – всемирный потоп, гражданская война, чума, чье-нибудь пришествие, импрессионизм или, вообще коммунизм. И вот мы вынуждены своей конкретной личностью, во всей ее многогранности, конкретно реагировать на эту конкретную данность, во всем ее многообразии, ища какие-то точки соприкосновения…».
Сплюнув сопливую тянучку желчи, Таркус откинулся на диванную подушку и произнес в потолок: «Да, ребята, много чего вы мне показывали, но такого я еще не видел. Порадовали. Пальмовые вам ветви, лавровые венки и Оскары, Оскары – от благодарного зрителя за уникальную постановку. Особенно вам удались эпизоды с червями и вот этот, последний, с листком бумаги на полу. Я понимаю, трудно отказаться от любимых и наработанных сюжетов, но может, когда-нибудь, вам вдруг прискучат кошмарики, и мы тогда займемся чем–нибудь повеселее, ну, скажем, легкой эротикой…»
Сверху на лицо упало соцветие сирени, Таркус стряхнул его на влажную ладонь и рассмотрел – пять лепестков – на счастье.
Очарованный нечаянным счастьем, Таркус плавно приблизился к неясной, прозрачной сущности, слился с нею, и тихо прозвучало в два голоса или подумалось: «как я по тебе скучаю». Улыбаясь со сна, открыл глаза и прищурился на часы – 11:20, - это будет 2:2. Посмотрел на входную дверь, ограждающую его комнатушку от коммунального коридора, вспомнил, как он кухонным ножом отскребал с нее, щелястой и перекошенной, слои старой краски, грязной и хрупкой, как загнал под ноготь пластинку этой краски. Сразу пошли мурашки по ногам, а вот от хорошей музыки выступают порой на руках. Как потом шпаклевал и олифил, и, наконец, покрасил, и, как потом долго сидел в сумерках и курил, глядя на законченную работу. Ну да, наверное, любой предмет воспринимается ассоциативно, а вот что у кого с чем ассоциирует, это уже другой вопрос. Вот, к примеру, сейчас надо пойти налить в железный предмет с носиком и крышкой мокрой воды и все это поставить на горячий огонь, а когда вода забулькает и начнет переходить в парообразное состояние, надо в нее насыпать сушеных листьев растения «чай». А потом можно подымить листьями растения «табак».
Таркус с неохотой поднялся, медленно оделся, снова опустился на неубранную постель, еще посидел с одним носком в руке, глядя в зашторенное окно. Опять вспомнил, как у знакомых видел окно, задрапированное и вовсе ватным одеялом – «чтобы участковый не заглядывал». А то, как-то, был в квартире у одного геолога, так там проблема штор была решена еще интересней: пространство между рамами, до форточки, заполнялось сушеной рыбой, привозимой из дальних и героических экспедиций. Выходило непрозрачно, проветриваемо да и к пиву хорошо. Удобство, польза, красота. Но были и в этом решении свои недостатки – использовать удавалось только верхние слои рыбы, к тому же эпизодически пополняемые. Во-первых, снизу не достать, а если даже и достать, исхитрившись, скажем, какими-нибудь длинными щипцами, бельевыми, каминными или на заказ сделанными, то напрочь утрачивалась непрозрачность. От этого снизу рыба превратилась в труху. Да еще эта жена геологическая надумала рассаду какую-то сажать и зудела на мужа до самого лета, чтобы он ей ведро чернозема принес. И вот, в день рождения А.С. Пушкина, геолог с Таркусом пошли за землей, с ведром и бутылкой. Как водится, посидели на травке, выпили во славу «солнца русской поэзии», поспорили сколько строф в главе «Онегина», потом попили пива из ларька, с рыбой из окошка. В результате, вместо просто земли, принесли целый муравейник. Ведро с мелкими рыжими и очень жизнестойкими муравьями простояло в комнате еще неделю, потому что супруга геолога дулась за пьянство и от работ по дому категорически отказывалась. Понятно, что за это время муравьи переселились в нижние слои рыбьей трухи (ну, а куда еще-то), и жизнь в доме стала невыносимой. Когда же все объяснилось, жена обозвала геолога почвоведом дебильным, а он ее - мичуринкой драной и еще добавил, что надо не ждать милости от природы, т.е. пока муж сходит за землей, а пойти и самой взять – вот ее задача. На том они и расстались, что повлекло за собой полное исчезновение рыбы, трухи от рыбы и, стало быть, и муравьев, поскольку потребление пива с уходом жены резко возросло. Исчезновение же муравьев из квартиры и рыбы из окна, вызвало, в свою очередь, воссоединение супругов. Рассаду, конечно, в августе сажать было уже поздно, но рыба стала вновь накапливаться, хотя в этом уже не было смысла – бурное примирение вызвало необходимость обзавестись нормальными шторками. Да и разомлевший геолог принес страшную клятву - не пить много пива, и даже ел землю, оставшуюся от муравейника.
Таркус ступил в коридор и тут же поехал одной ногой по рваному линолеуму пола, угодив в кошачью кучу. Ну, мерзкий соседский кот – кастрат, крысолов и вор Яша. И почему у него все время понос. Стоило всего лишь раз пролить в комнате ацетон, так теперь смотрит как на врага, при встречах шипит и гадит исключительно ему под дверь. Сам виноват, надо под ноги смотреть. Чтобы не упасть, неловко запрыгал второй ногой и, так «пританцовывая», въехал в старый шкаф, стоящий напротив его двери, а пустым чайником грохнул по трубе отопления. Странно, но по трубе шифрованно простучали в ответ. На шум из кухни в конце длинного коридора выглянули соседи – Толя и Надя, все пьющая пара неопределенного возраста.
…да что это за дым такой в квартире…как будто горелым железом пахнет…опять, наверное, завтрак неудачно приготовили…
Соседи сидят в обнимку на старом сундуке – между ними початая бутылка портвейна. Что он, что она, только в трусах и голубых мужских майках на лямочках, ну еще наколки кое-где. Вообще-то, Толя всегда появляется в, пусть и старых, но отутюженных брюках, да и Надя может вдруг оказаться в какой-нибудь экзотической шляпке с пером и брошью, а то и вуалью, когда на лице образуется травма. Но сегодня простительное исключение – Толю только что выпустили из вытрезвителя, и сейчас с него снимается стресс и строятся планы мщения знакомому сержанту Сереге. Этот козел долбанный опять забрал трезвого Толю. Ну, да ничего, он свое еще получит. По Толиной версии, виноваты сами менты – они его загипнотизировали. Он, почти трезвый, возвращался домой из пивного павильона, как тут, параллельным курсом, к нему, со скоростью пешехода, пристроилась машина «спецмедслужбы». А этот долбанный сержант высунулся из своей долбанной форточки и смотрит, и смотрит. Ну, и что тут делать? Остановиться нельзя, бежать нельзя, смотреть на них нельзя, пошатнуться, тем более, нельзя – остается притворяться сильно трезвым. И вот, от перенапряжения, у Толи закружилась голова, и он потерял сознание. Ну, а дальше - все как всегда. Хорошо еще, придя в себя в машине, успел деньги в носок засунуть – вот на портвейн как раз хватило. Ну, да они ему еще устроят, гипнотизер долбанный.
Решено применить к нему самые прямые, доходчивые и честные санкции. Проходя мимо его подъезда, непременно там мочиться и также призвать к этому всех многочисленных знакомых. Кроме того, на стенах по всей округе крупно написать, что он, сержант, мол, козел, ну и, конечно же, пройтись по его истинной сексуальной ориентации и пристрастиям. Для этого Надя сегодня же принесет с работы ведро кузбаслака и малярную кисть. Обсудив все нюансы предстоящего акта возмездия и допив портвейн, соседи, победно пошатываясь, удаляются отдыхать в свою комнату.
Тут же, на кухне, выяснилось и происхождение запаха гари – под раковиной оказалась огромная сквозная дыра в подвал. Из нее-то и валил дым, сверкала электросварка, лился задорный мат сантехников. Таркус поставил на плиту чайник, расшеперился над дыркой и приступил к бритью и умыванию. Бреясь, переводил взгляд со своего отражения в облезлом зеркале на рекламную страничку из журнала, приклеенную рядом – запотевший, в капельках, бокал пива на фоне голубого неба с белыми облаками. Таркус давно заметил, что с похмелья пиво это кажется прохладным и привлекательным, а в мирное же время, наоборот, теплым и противным. И сколько раз утренняя дилемма – пить или не пить, решалась положительно от одного взгляда на этот мимикрирующий бокал. Таркус неоднократно на кухонных собраниях предлагал убрать этот алкогольный онанизм со стенки, как лишний соблазн, или, хотя бы, заменить его на картинку от колготок, как у всех нормальных людей. Соседи же, яростно отстаивая картинку, уверяли, что им без нее никак нельзя, что бывает, подойдешь с утречка к умывальничку, наберешь холодненькой воды в кружечку, пьешь, а сам смотришь на стенку. И кап пивка попил. А тут что получится – вот колготки Si- Si, а вместо пива - соси.
Изо рта повалила обильная пена с омерзительным мыльным привкусом, и Таркус заподозрил, что опять перепутал тюбики и чистит зубы кремом для бритья, а побрился, видимо, зубной пастой. Ну, да это еще ерунда, а вот Солнечный Капитан как-то приобрел по случаю банку эскизных белил и натолкал их для удобства в использованные тюбики для зубной пасты. И его отец однажды утром возопил, что живопись он окончательно возненавидел, и что если еще раз, он, отец, почистит зубы масляной краской, то оборвет уши этому художнику недоделанному. Это, видимо, по смутной ассоциации с Ван–Гогом, который, помимо истории с ухом, еще и, действительно, ел краски, чтобы сильней проникнуться формой, или содержанием. Ну, это уж кому как повезет – есть белила цинковые, есть свинцовые и титановые, и есть среди них очень не полезные для внутреннего потребления. Или, опять же, смотря чем запивать – видимо, абсентом, все таки, лучше. А вот, если отечественные белила споласкивать отечественной же водкой, то, как выяснилось, зубы чернеют.
С отвращением выплевывая хлопья пены, Таркус попал на плакатик на стене. Шапочка пузырьков поверх фужера ожила – зашевелилась и зашипела, по Богемскому стеклу скользнула янтарная капля.
- А может, и в самом деле, пивка, может это сигнал такой. Ну, да там видно будет. По толстой чугунной трубе со страстным завыванием что-то пронеслось вниз. – Это фановая труба, - с уважением подумал Таркус.
- Дай закурить, – сказали из дырки под умывальником. Таркус положил на полочку зубную щетку и стал осторожно отступать. Уперся в соседский стол, взял с него мятую пачку «Беломорканала» и одну за другой метнул в дыру три папиросы. Поковырялся в пачке, достал последнюю, сломанную, и отправил туда же. Затем спичечный коробок. Следом пустил, уже с силой, полусгнившую картофелину, он ее специально оставлял – уж сильно и беспокойно она ему кого-то напоминала. И непонятно чем - то ли формой, то ли запахом, то ли цветом, то ли проклюнувшимся бледным ростком, то ли вообще. Внизу замолчали, а затем позвонили в дверь.
После чая наступило время лежать на диване, курить и думать, как же жить дальше. А жизнь складывалась несколько не так, как хотелось бы. К своему, в общем-то, зрелому возрасту, уже удалось сжиться с собственными психо-физическими причудами и, главное, с трудом, но почти удалось уже избавиться от тупой физиологичности и эмоциональности юности. Мир был как-то объяснен, и претензий к нему уже не было – правила игры понятны. И даже снова слегка понравилось жить. Вот только никак не удавалось поадекватней отреагировать на социальную данность. Тут, надо признать, что и то, чем реагировать, то есть он сам, и то, на что реагировать, то есть данность во всех своих ипостасях, явно оставляли желать лучшего. Ну, над собой еще можно как-то поработать, но все равно, на любой момент он будет представлять из себя свершившийся факт, с которым не поспоришь, то есть - ту же данность. Ну, а внешняя данность…, она на то и данность, что с ней , тем более, не поспоришь. Оказалось, что живописью, да и вообще искусствами, в родной стране всерьез заниматься не надо – это вредно и для себя и, особенно, для окружающих. Видимо, этим надо позаниматься да и бросить, и идти себе дальше, а не утомлять, опять же окружающих, своим творческим долголетием.
Закончил Таркус в свое время факультет графики, да и то едва и закончил, друзья еле уговорили сделать диплом. Потому что на пятом курсе нахлынул вдруг на него цвет, а скорее, не просто цвет, а система его разложения, и стало ни до чего более. Лет десять он посвятил разработке этой своей системы, впрочем, сильно не упираясь и позволяя себе всевозможные околохудожественные выходы. И создал-таки довольно интересную и уникальную форму и даже подвел под нее соответствующую теорию – содержание. И даже изредка картины удавалось продать.
От создания крепкой «ячейки общества» судьба как-то отвела и, как теперь казалось, к благу, хотя нервы потрепала на этой почве изрядно. Но, пользуясь относительной свободой, все равно приходилось решать насущные проблемы. С одной стороны, надо платить за комнату и удовлетворять прочие материальные потребности, а с другой стороны, для этого неизбежно надо насаживаться на крючок, за который могут и подергать. Проще говоря, нужны деньги, и добыть их надо с минимальными моральными и физическими потерями или сделать так, чтобы они были не нужны вовсе. Пойти в сторону аскетизма, самодисциплины и, стало быть, отшельничества он как-то еще не был готов. Да, и какое сейчас отшельничество – и в пустыне найдут и заставят прописаться и трудоустроиться. К тому же, и деньги – это еще не все. Их надо заработать, затем, получив, донести до дому – не потерять, не потратить, не отдать взаймы.
Затем надо дойти до магазина, снова не лишившись денег по дороге, умудриться купить что-либо съедобное и не явно тухлое, правильно взять сдачу, вернуться со всем этим домой да еще приготовить что-то удобоваримое. Получается, таким образом, что кастрюля борща гораздо дороже денег. А еще одежда там всякая, обувь… Одним словом, реальных компромиссов пока не просматривалось.
Нельзя сказать, что Таркус не предпринимал попыток работы, в обычном понимании этого слова. Однажды, от отчаяния, он устроился на производство каких-то шлакоблоков. К его величайшему удивлению, его приняли, несмотря на полнейшее отсутствие какого-либо стажа, опыта и необходимых документов. В первый рабочий день поначалу понравилось – показалось, что это нечто вроде тренажерного зала, да еще и деньги платят. Но через несколько часов стало довольно тяжело с непривычки и невыносимо захотелось, чтобы этот рабочий день скорее завершился. И неприятно осмыслилось, что конечно он пройдет, и непременно пройдет, этот бездарно проведенный день. Где-то через пару месяцев, уже втянувшись, он вяло ощутил стабильность, тупость и безысходность подобного образа жизни. Да, и несколько опасно было вступать в традиционные производственные сношения с соотечественниками, и так донельзя обозленными сношениями с собственной государственностью. Да, и хотелось бы прожить как-то поделикатней и не оставить следа на многострадальной Земле.
- Ну, не выношу я эти их массовые затеи, - уныло думал Таркус, гася окурок, - эти их армии, футболы, заводы, общественный транспорт, очереди, всенародные гуляния и веяния моды. И художников я тоже не люблю. Да и вообще людей, а охотников так просто ненавижу. Ну, все, все, хватит. Все-таки, философия это волдырь на теле практики – надо пойти, пожалуй, пива выпить.
Таркус открыл на звонок дверь – на лестничной площадке оказалась незнакомая старушка.
- Вас к телефону, - произнесла она полушепотом и покарабкалась по лестнице вверх.
- Меня… к телефону…- опешил Таркус, - к какому телефону?
- Ну, к нашему телефону, в квартире, - прошелестела старушка с укоризной, обернувшись скрюченным туловищем с середины пролета. Таркус скинул с ноги тапок, угодивший в кошачью кучу и, осторожно ступая босой ногой, пошел за старушкой. Под полом ехидно хихикали сантехники.
- Что-то я неважно себя нынче чувствую – старушки какие-то, телефоны, эта сварка под полом. А вот один мой знакомый, вообще, во время алкогольной депрессии влез в лоно своей любовницы и, может, так и погиб бы, задохнувшись, и сошел бы за выкидыш, но спас его, опять же, страх. Он представил, как он теперь будет заниматься любовью со своей изумленной кенгуру. Получалось - не извне вовнутрь, а изнутри наружу. И он вылез, гаденыш. Потом он перестал пить и снова стал смелым, и даже поступил на работу в милицию. А бывшую любовницу определил в дурдом, потому что от перенесенного шока начала пить уже она и, когда напивалась, рассказывала, что родила милиционера с усами и, что шлица от шинели не сходилась у него на заднице. Потом ее выпустили из дурдома, но на воле ей уже не нравилось и, когда она, пьяная, встречала на улице милиционеров, она кричала им, - Сынки, вашу мать, вези в дурдом обратно.
Между первым и вторым этажами старушка исчезла, как в подвал провалилась.
- Ну, ведьма, чтоб тебя сантехники взяли.
Либо она внезапно помолодела лет на шестьдесят пять и резво убежала вверх (вот же еще тополиный пух вьется), либо ударилась оземь и превратилась в одну из этих зеленых мух, и жужжит себе по стеклу.
На площадке второго этажа одна из четырех дверей была приоткрыта. Таркус бесшумно постучал в облезлую обивку и заглянул внутрь. Длинный, полутемный, захламленный коридор, в конце его светится прямоугольник туалета, с распахнутой настежь дверью. Сидя на унитазе, кто-то,похоже ,спит, уронив голову на колени и на руки. Спущенные штаны мягким комком скрадывают ступни спящего. А вон, вроде, и телефон на тумбочке у стены. Таркус робко вошел, притворив за собой дверь, взял лежащую рядом с аппаратом трубку, зачем-то потряс ее, дунул в микрофон и сипло произнес, -Слушаю.
- Ну, что же вы, - донесся мужественный баритон с того конца провода.
- А что я? – не сразу нашелся Таркус и уперся указательным пальцем в стенку.
- Вам надо бы подойти к нам поговорить.
Палец заскользил вниз по стене, исцарапанной разноцветными номерами телефонов.
- Ну хорошо, - сказал Таркус и наткнулся пальцем на номер с фамилией Нехорошева Н.У. – а о чем?
- Ну, не о жизни же, - надавил баритон.
Палец попал на приклеенную древнюю вырезку из журнала «Советский экран» - артист Евгений Матвеев в роли Брежнева.
- Значит - о смерти, - подумал Таркус, - а это сантехник в роли участкового.
На полу вспыхнула яркая узкая полоска света, будто как щель, задымилась пылью, потрепетала и раскрылась вширь, прямо под ногами. Таркус инстинктивно подпрыгнул и присел. Промелькнула давешняя старушка, где-то между светом и тьмой, в красных и зеленых пятнах.
- Здравствуйте! – сказали из света.
- Здравствуйте, а чего? – испуганно ответил Таркус и обернулся.
В проеме так неожиданно растворенной двери сияла пышнотелая блондинка, в чем-то коротком и прозрачном, вся в солнце и тополином пуху, как в пене – Афродита, в общем. Пахнуло чем-то волнующим и полузабытым. Резеда? Или рододендрон?
- Простите, вы мне не поможете? – Мне нужно передвинуть шкаф.
На Таркуса нахлынули вдруг сомнения – тот ли тапок он оставил дома. На всякий случай, скинул и второй, положил трубку, как она и была, рядом с аппаратом, и вошел в отлетающую в сияющую высь ракушку Венеры.
Стюарды, пристегните пассажиров привязными ремнями. Господа пассажиры, приготовьтесь к полету – летим в Париж, город, где сбудутся все ваши желания. Деньги, голые женщины, шикарные автомобили, вино, как в каталогах, одежда, как в журналах, шезлонги и пальмы, как в рекламе, а, главное, полная свобода – кто хочет, идет на стриптиз, кто хочет – курит гаванские сигары, да, да голландские тоже можно.
Кстати, как вы считаете, что лучше – иметь подобные желания и удовлетворять их, или не иметь вовсе.
Последняя формальность, господа, перед путешествием надо сделать прививки. Лежите, лежите, стюардесса сама к вам подойдет, штаны только приспустите.
- Чушь какая, - успел подумать Таркус, - если ремни привязные, то их надо привязывать, а если пристегивать, то пристяжные…
…развяжите меня суки… построили в Сибири свой Париж …человек хочет быть божественно прекрасным, а вы говорите - общественно полезным… а вон ворона летит как вертолет большая…на часах 13:31… парторг сказал…у нас все шизофреники…сказал…я сам шубообразный сказал…вялотекущий…если будешь квартиру требовать…сказал…уволим…у нас напряжение большое…целых 300 эрстедов…шизам нельзя… а он все лежал…вставал только портвейну выпить…опух весь…потом сказал…пойдем далеко и долго…хитон тебе сандалии справим… а на столе свеча трепыхается и кажется белый чайник морды корчит… липкой лапкою с печаткой в тонкой лайковой перчатке… покормил лошадь яблоками… любовь шлюха…ремонт…вам не понять вши вы бельевые… а вон в ванной все время лежит…у него лобковые… какие лучше не знаю… а пепел под себя стряхивает… у меня чесотка была…неделю не спал…и тут же триппер…период такой болезненный в творчестве… опохмелиться надо… а у тебя сержант Сережа на жопе шлица не сходится… если наше заблеванное купе клоака…то ты в нем указующий ли карающий перст ли…тогда зачем пипифакс… ужели ты в презервативе… я тоже с государством ни в каких отношениях только в интимных… нет пипифакс это не фамилия этого пассажира…это бумага такая…протокол на ней нельзя писать…прото кал разве… сука стюардесса…прививочка… к тебе в постель даже клопы не полезут…раз в месяц разве… нахаляву…а вот пчела залетит…у вас пластинка кончилась…
В хрустальном бокале, с недопитым глотком густого красного вина, возится ошалевшая пчела – то полезет по стенке и срывается с самого края, то пытается взлететь, пьяно гудит басом и плюхается обратно. Рядом, на апельсиновой корке, полыхает рубиновым пламенем солнце, преломленное сквозь линзу хрусталя с вином. Вот она опять, со своим пчелиным упорством, докарабкивается до кромки, цепляется передними лапками, подтягивается и с хмельным бахвальством смотрит на Таркуса. Это ее и подводит – падает вдругорядь, кверху брюшком, и кружит по стенке, зудя замоченными крылышками. Еле сдержавшись от мысленной банальности, что вот, дескать, так же и мы – всю жизнь жужжим, карабкаемся куда-то, да и срываемся порой в портвейн, Таркус вдруг осознал, что он уже очень долго наблюдает за пчелой и не может отвести от нее взгляд. Ну, не может и все тут – то ли не решается, то ли глазные мышцы отказали. А сам он - неизвестно где, неизвестно с кем, неизвестно сколь долго и неизвестно в какой ситуации. Наконец, собравшись с силами, Таркус закрыл глаза, потряс головой, и вновь открыл. Ну, и ничего страшного, где он был, там он и есть, никуда не делся: по-женски уютная комната, сквозь раскрытое окно вся залита закатним солнцем. Напротив него, через журнальный столик, тоже в кресле, спит Блондинка - Афродита, откинув назад голову так, что видна трепещущая жилка у нее на шее, и иногда всхрапывает. На одно опущенное веко садится муха, и, кажется, что Венера открыла один глаз и слегка вращает зрачком. Неземным узором ажурные колени широко расставленных ног слегка подрагивают, едва касаясь края стола и чудом не проливая на себя лужицу вина с приставшими пушинками.
- А вот, интересно, что это на ней, чулки или колготки. Лучше - если бы чулки. Вот бы посмотреть. Может, из- под стола попробовать?
К горлу стало подступать что-то сладкое и горячее. - Портвейн, наверное, - подумал Таркус.
Пластинка давно доиграла и крутится вхолостую, завихряя над собой комок пуха. И круглый солнечный зайчик на потолке тоже крутится. И голова кругом идет.
Толчком сдвинулся воздух, обозначенный летающим пухом – от сквозняка распахнулась дверь в коридор, а показалось, будто, комната качнулась. Ноги безотчетно дернулись и ударились снизу в столешницу – упал бокал. Недопитое вино пополнило ранее пролитое и, таки, скатилось на колено Богине любви, вместе со злополучным насекомым. Блондинка подняла голову и пристально и хищно посмотрела на Таркуса, будто и не спала вовсе. В проеме двери показался мужчина из туалета. Он так и не натянул на себя штаны и, как стреноженный конь, прошаркал по коридору, путаясь в комке своих одежд, благо что был в рубашке. И даже головы не повернул.
- А это я ему в туалете освежитель воздуха подменила на немецкий «миллионник», нервно – паралитический. Три часа отдыхал, зато три часа тишины, а то достал со своим аккордеоном – пиликает с утра до вечера. Он, видите ли, симфонию какую-то сочиняет. Какая, на фиг, симфония, работать надо!
Горячая липкость с назойливым визгом вонзилась в извилины лона, и Таркус стал пустой и прозрачный, как полиэтиленовый мешок из-под выпитого пива. Блондинка приподняла голову с подушки, равнодушно оглядела Таркуса глазами, обретшими глубокую синь, облизнула запекшиеся губы, сложила их в соблазнительную гузку и дунула, хрипло присвистнув на излете дыхания. Таркус затрепетал, прилипнув на капельки пота к нежной и влажной коже живота Афродиты, с сожалением оторвался, потрепыхался в воздухе и опустился в угол, на пыльные пустые бутылки. Блондинка потянулась сытой медведицей, подцепила вилкой маринованный грибок из вазочки со стола и, подставив розовую ладошку, чтобы не капнуть на постель, донесла его до приоткрытого рта. Хлюпнула, втягивая сопливый маринад, со вкусом прожевала и заглотила, по-птичьи клюнув головой. Ухоженными коготками вытянула из пачки сигарету, щелкнула золотой зажигалкой, затянулась и выпустила струйку ароматного дыма, как бы окончательно сдувая с себя Таркуса. Для чего-то облизнула ладошку и стала оглаживать, любуясь, свое обнаженное тело. Похрустела конфетным фантиком и фольгой и, явно наслаждаясь, мелкими глотками запила шоколад вином, гранатово посверкивающим в хрустальном фужере. Серебряной пилочкой принялась полировать ногти на ногах. Иногда брала из пепельницы дымящуюся сигарету, покуривая, вытягивала ногу и шевелила пальчиками, оценивая.
Наблюдая из своего угла за игрой складок пышного тела, Таркус вновь стал наполняться ощутимостью.
- Странно, доктор, весьма странно все складывается – не могу я ничего делать всуе. А от этого, зачастую, утрачивается полноценность бытия, ведь жизнь, как и искусство, есть личностное реагирование на действительность. А поскольку и то и другое, то есть, и личность и действительность, находятся в постоянном и необратимом движении, хотелось бы сказать - в развитии, то речь и может идти только о сиюсекундности. Вот вдруг вижу я неназываемой красоты закат, ну, и встать бы и залюбоваться, окунуться в это невозвратное виденье, забыть обо всем, отвлечься от мирской суеты, ан нет, не могу – мешает какая-нибудь дрянь, да вот – ботинки у меня грязные. Неготовым я себя чувствую к общению с такой красотой. Ну, и не побежишь же ботинки чистить, а закат бы подождал пока гаснуть. Да и пока бегаешь, что-нибудь непременно другое выяснится - чаю, скажем, необходимо выпить для полноты восприятия. Вот, как раз, в суету-то и впадаю. Может, этот закат и дан-то мне был, чтобы от всех этих мелочей отрешиться, в качестве медитации. А как подготовишься полностью – и ботинки почистишь, и чаю крепкого выпьешь, душ примешь, рубашку чистую оденешь, сигару хорошую закуришь, так и закат уже не нужен, и так все хорошо. Получается, можно принимать эти закаты за мнимую величину – вот сказать себе, - «Подготовлюсь-ка я к восприятию всеобщей гармонии, являемой мне ныне в форме заката», - и подготовиться. А еще лучше, постоянно жить с ощущением этой гармонии и постоянно быть готовым к любым ее проявлениям. И представить-то перед собой можно абсолютно любое явление – про это, поди, и сказано: «от тюрьмы да от сумы не зарекайся». Вот, и непонятно, что более важно – само явление или готовность к нему. А, пожалуй, где есть что-то главное, там что-то и неправильно, ведь главным может быть только одно – равновесие многих неглавных составляющих. То есть именно гармония.
- Как вы думаете, доктор, это у меня серьезно? Это случайно не шизофрения?
Лагерь наш разбит в пампасах и, наконец-то, по ночам над нами Южный Крест… Но замечают его, конечно же, только посвященные - мы же видим и слышим только то, что знаем и о чем нам рассказывали. А чего не знаем, того для нас и нет, хоть нам кол на голове теши. Вот примерно об этом мы и дискутируем постоянно с серым сержантом Сережей. Ну, конечно, не только об этом. Сейчас, например, мы вяло спорим, в каких пропорциях надо смешивать итальянскую граппу с французским кальвадосом – эти напитки раздобывают в избытке наши интенданты – пластуны вялоползущие; а еще местную араку и татарскую бузу. Мы на практике установили, что слово «бузить» происходит именно от названия этого вкусного пшеничного пива, у нас именно так получается; поэтому, приказом по лагерю, бузу мы тоже в чистом виде не пьем. Что же касается кальвадоса, то если его пить отдельно, ни с чем не смешивая, то меня, например, сразу одолевает настырный насморк, а Серегу- нестерпимый понос. А вот с граппой - все наоборот, в том смысле, что у Сереги тут же наступает насморк, а у меня настырный понос. Ну, что поделаешь, - склонны мы с ним к интеллигентским недомоганиям и рефлексиям.
Сегодня мы с сержантом Сережей дневальные по лагерю, и вот сидим в тени, на холодке, у огромного пня от секвойи гигантской и эмпирическим методом оттачиваем композицию коктейля. Дело идет к вечеру, и мы оба склоняемся к тому, что соотношение должно быть где-то 7 к 3-м, в пользу кальвадоса, а с утра казалось, что - наоборот, 3 к 7-ми – значит нужно постоянно соотноситься еще и со временем, создать гибкую систему. Мы убеждены, что напиток получается живой, реагирующий на положение планет относительно солнца, и мы полны энтузиазма довести наш кропотливый труд до совершенства. Компонентов-то у нас хватает, а вот главный интендант, пластун шубообразный, прекратил выдавать нам туалетную бумагу, мотивируя традиционно, что пипифакс, мол, казенный, а на вас не напасешься. И ему совершенно наплевать, что задницы и носы у нас вовсе не казенные, а страдаем мы ради общего дела. Впрочем, насчет страданий - это мы, конечно, лукавим – если бы не побочные эффекты, так уж чего плохого – сидим себе, попиваем живительные напитки, ведем приятную беседу, да, время от времени, заслышав шевеление листьев, настигаем в бамбуковой роще зазевавшихся креолок, одетых только в бусы и браслеты из кораллов и из чего-то еще.
Солнце уже низко, и боковое освещение подчеркивает четкость палаточных рядов, прочерченных с запада на восток. Во всем лагере единственная доминанта, это административный корпус – та же палатка, только повыше.
Закат для меня – самое беспокойное время суток, время, когда увеличивается доля кальвадоса, очень некомфортно я себя чувствую в этот час. Накатывает вдруг ощущение полнейшей бессмысленности бытия, а лихорадочные поиски хоть какой-нибудь альтернативы этой равнодушной цикличной круговерти порождают только чувство тревоги и беспомощности. Если бы это была только мысль, то я бы назвал ее пошлостью. Но у меня это вовсе не мысль - это болезнь, тяжелая болезнь.
Наш доктор даже прописал мне принимать ежевечерне и одноразово 200г спиртовой настойки пиона – он, видимо, полагает, что это поможет мне сгармонизироваться и угомониться. Иногда так и происходит.
Я выпиваю свое лекарство и смотрю на наш лагерь, заново его ощущая. – А, и действительно, кто мы здесь? Зачем мы сюда пришли и откуда? Какова цель нашей экспедиции? То ли военная, то ли научная, или это чей-то жестокий эксперимент по взаимоуживаемости. Никто пока внятно нам ничего не разъяснил.
А, тем не менее, у нас уже есть и пленные – вон, в отдельной нервной клетке сидит бывший местный император Нейрон. Да и врагов у нас больше внутренних, чем внешних. К тому же, у каждого главный враг – это внутренний, в буквальном смысле, что-то типа глистов, только в голове. Доктор называет их тараканами.
Сержант Сережа отрывает от последнего, стремительно иссякающего рулончика кусок бумаги и интенсивно сморкается в него. Для меня это очень нехороший признак – это, скорей всего, означает, что опять граппы перелили, и вскоре мне придется семенить в бамбук.
Если поиски недостижимой гармонии затянутся, то так мы всех туземок распугаем, а это выльется еще и в гормонную дисгармонию. Впрочем, тогда куда все это выльется, и куда мы будем «семенить», я даже ума не приложу, а предположить боюсь
Я уже склоняюсь к компромиссу и думаю, что, может, надо добавить чего-нибудь сладкого (ликера?), для эффекта слипания.
Серый, тем временем, опять пытается трофейным кинжалом пересчитать годовые кольца на пне – он делает это каждое наше дежурство, но всякий раз сбивается – уж очень их там много.
- Вообще-то, меня зовут Малиновый Король, за мои музыкальные пристрастия, но близкие иногда называют Ягодой, иногда даже Ягодицей (я, лично, думаю, что ягоды ягодами, а ягодицы ягодицами), уже за мое плотное сложение, невеликий рост и вечно румяные щеки.
- Знаешь, Ягода, Профессор мне недавно сказал, что у этой самой секвойи только период взросления – 2,5 тысячи лет… Думаешь, это он гонит или нет? Получается, что под этим деревом мог отдыхать Христос, я, кстати, так и не понял, где он шлялся 33 года, вполне, мог и здесь быть, да и везде.
Серега распластывается по пню и втыкает кинжал в самую его середину – получается что-то вроде солнечных часов. А в меня, где-то в области солнечного сплетения, опять вонзается тоска – уж очень изящен этот небольшой нож из неведомого сплава, похожего на бронзу, с ручкой из потемневшей кости, с невероятным вкусом украшенной резьбой и неограненными камнями. Когда его берешь в руку, он сразу становится естественным дополнением тела, и выпускать его уже не хочется. А я, когда вижу необыкновенно красивую вещь, меня одолевает ощущение трагичности и недолговечности этой красоты. Всегда находится очень много желающих ее сломать, сжечь, спрессовать, переплавить, взорвать. Конечно, я согласен, что не столь важна сама Венера Милосская, сколь то, что «искра мелькнула, гений родился»… Но все же жаль…
В данном случае этот гений – неизвестный дикарь-туземец. И, конечно, в чем-то прав этот серый сержант, тоже вдруг залюбовавшийся кинжалом, торчащим из пуповины тысячелетий. Он говорит, что, похоже, мы здорово отупели за эти 2,5 тыс. лет. (Под «мы» он имеет в виду не сержантов, которые как раз стабильны, а все человечество). И что, как же так, Христос принял на себя все наши грехи, а от самого главного, первородного – разума (к тому же, как известно, % разума всегда одинаков, и, поди, их подели), не избавил.
И вот этот… разум и завел нас в это дерьмо. ( По предыдущим разговорам с ним, я знаю, что здесь он под дерьмом понимает так называемый «прогресс» или «цивилизацию» ).
Тень от кинжала уже приближается к краю пня, лекарство действует, Час Кальвадоса проходит, и тревога отпускает меня обратно, в местные «кущи».
В организме, и на этот раз, справившимся с приступом, наступает реакция – некая возбужденность и с ней болтливость. И я начинаю излагать Сереге, что понятие «разум» еще никто толком не определил. Вот наш повар, к примеру, искренне считает, что ум – это коровьи мозги, он может сказать, что вот, мол, Малина, я тебе нынче такую умнейшую косточку подложил в борщ. И что (вот издевка-то), чем человек «умнее», тем ему смешнее даже определять это понятие. И что человек и его разум уникальны, а подсознание, похоже, общее, и оттого «блаженные» иногда могут черпать информацию из этого общего котла и видеть будущее, и от этого считаются «святыми». А животные, поскольку они менее уникальны, по той же причине могут, например, предчувствовать стихийные бедствия и находятся в большей гармонии со Вселенной. И что разные шаманы, колдуны, предсказатели и ясновидящие всяческими манипуляциями на время отключают сознание и обретают свой дар. И что где-то там есть информация о том, как нам жить в любви и гармонии.
И что единственный смысл бытия в том и состоит, чтобы двигаться в этом направлении – а там, может, и другие цели укажут.
- Вот, обрати внимание, - продолжаю я вещать истекающему соплями Сержанту, - что эрудиция и ум вовсе не одно и то же, а зачастую, и противоречащие явления, оно и понятно - в пустую башку можно больше всяких мыслей натолкать. И, стало быть, мозг хорошо устроенный лучше, чем хорошо наполненный! Более того, избыток информации явно ведет к падению духа. А образование – это от слова «образ», т.е., в первую очередь, бесконечное приближение к «образу и подобию»… И, заметь, как глупо потому звучит – «среднее образование», а тем более «высшее». Вот, оттого-то есть люди, которые пишут книжки, а есть люди, которые их читают.
Впрочем, смотря что считать книгой – но это уже все от уровня. Чем тупее автор или читатель, тем важнее для них сюжет… Да добавь ты, наконец, кальвадоса! Вот нас тут всего двое, а мы не можем найти обоюдную гармонию даже в напитке, и сколько нас тут таких «умных».
- Да нет, почему же, я все понял, ты хочешь сказать, что чем кто-то умнее, тем он и глупее, а идиот может быть очень умным человеком, - сморкается Серый.
- Ну да, примерно так.
Совсем обессиленный своей закатней лихоманкой и непривычно длинным для меня монологом, я откидываюсь на траву. Сержант же, перегруженный информацией, бредет в сторону бамбуковой рощи. Это что-то новое, неужели все напасти нынче на него. А может он просто туземку углядел, ну ,да все равно, там ей будет, на чем подскользнуться – не уйдет.
Из-за ближайшего бархана появляется наша разведгруппа во главе с Профессором. Кого-то несут на самодельных носилках, судя по их длине - это Шизлонг ( в переводе Длинный Шиза ). Опять, наверное, туземцы набили или гадость какая-нибудь укусила, оно и понятно, за ним же глаз да глаз нужен.
Он, собственно, и ходить-то недавно начал после травмы – отправился как-то в туалет и, пока приседал на унитазе, сломал ногу; хотел бы я посмотреть на это действо. И по сю пору его донимают вопросом, справился он тогда с поставленной задачей или же нет, а так просто, зашел, ногу сломал и дальше себе попрыгал.
Несут Шизлонга, глубоко увязая в песке, Фил и Фоб – тоже еще та парочка. И друг без друга не могут, и вместе только ссорятся, похоже, что они очень любят свою взаимную ненависть.
Профессор командует Фобофилам, чтобы они несли раненого в процедурную палатку ( мы обычно говорим - просто дурную ), а сам сворачивает к нашему пню на своем 3-х колесном танке.
Замыкает шествие Кнехт, с огромным рюкзаком на спине. Кнехтом его зовут оттого, что он на ночь пришвартовывает себя за ногу к ножке кровати – чтобы не унесло в открытое пространство. Да и выглядит он подходяще – маленький, коренастый, с бритой головой и торчащими плотными ушами, устойчивый такой весь, прочный.
А, самое важное, что он из Одаренных, а не просто себе пассажиром по палубе болтается. И Дар у него полезный – он умеет к поверхности, на которой стоит, прикрепляться напрочь. Уж не знаю, как он там это делает, привинчивается, приклеивается, прирастает или присасывается, или, может, примагничивается, а только приделывается к потолку или стене и очень прочно, сам свидетель тому.
Заявилась, как-то, к нам в палатку, незадолго до отбоя уже, дежурная сестра и заявляет, так, мол, тебя растак, Кнехт, ты такой сякой, Комендантша тебя срочно вызывает. А он тут, как назло, решающую партию в домино никак не доиграет, и «голый» у него на руках. На щелбаны играл – и чего ему эти щелобаны – по его глупой башке хоть защелкайся, только палец отобьешь, а от него только металлический звон идет. И запах такой неприятный. Однако уперся, – Не пойду, - говорит, - пока не доиграю, и все тут. – Как это так, не пойдешь, - орет эта дура, - а не пойдешь, так понесем, и смотри, задница у тебя, в отличие от башки, не железная – уколем.
А с Кнехтом так не надо разговаривать, он упирается сразу. И тут: доминошки свои бросил, руки в боки уткнул, ноги расставил и глаза закрыл – замер. Дрожь по нему только легкая прошла, и все – прилип к полу, кафелем обделанному. Так они сами чуть все не обделались – втроем его с места сдвинуть не могли. И чего они только не предпринимали: и гвоздодером пытались отковырять, и веретенное масло ему под ноги лили, и размягчающую клизму вводили, и напугать пытались – а вот, мол, мы сейчас пригоним сюда атомный ледокол «Ленин» и к тебе его пришвартуем, а он радиоактивный, он же атомный - все бесполезно.
Комендантша уже сама прибежала посмотреть – походила вокруг, пальцем в него потыкала, пощипала за все места, пощекотать попыталась, потом нежно так по голове погладила и распорядилась в том духе, что пусть он тут торчит, раз ему приспичило, Дровосек железный, пока сам не отсохнет. И, может, так бы и засох, кто его знает, сколько он так, прилепленный, проторчать может. Ну, кормить, положим, через трубочку можно, как тех, кто голодовки объявляет, манной кашей; прочие надобности – тоже уж, как-нибудь - не привыкать. А чего ему еще? Да тут кто-то из наших сообразил, - Надо, - говорит, - Нефиртите позвать - этот примороженный враз оттает.
А это, надо сказать, наша самая соблазнительная медсестра, возмутитель нашего гормонального спокойствия. А зовут ее так по поводу того, что она на все наши фривольные заигрывания отвечает: «Не фирти». И если учесть, что мы, смущенные ее внешними данными, просто прохода ей не даем, то можно понять, что фраза эта не сходит с ее вызывающе-ассоциирующих губ. Я, лично, подозреваю, что сказать она хочет нечто попроще, просто у нее такой милый оральный дефект, скорее всего, искусственно наработанный в плане кокетства, вот так и выходит – «Не фиртите».
Кнехт же, как имя это услышал, глазки свои маленькие вылупил мигом и заморгал, и завращал ими развратно.
Нефиртите явилась, обошла его кругом два раза и говорит, - Ну фто ты тут тофчишь, как…, - и дальше ему на ухо что-то. Смотрим, а у него уже и рот до ушей и во все лицо – и действительно как… И Профессор, тут же оказавшийся недоуменным зрителем, тоже ему сказал от себя, - Не надо играть в бисер, Кнехт, - и почему-то добавил, - «Иозеф, матрицу твою».
А то, что голова его утратила былую идеальную параболоидальность и обрела некую шишковатость, так это уже следствие экспериментов по присобачиванию его к стенам, потолку и даже к деревьям.
Ну, бледно-фиолетовые члены на деревьях – это отдельная история, да и не моя вовсе, а Шизлонга.
Тренькает звонок, хлопает крышка люка, и профессорский танк, дыша горячим металлом, останавливается около нашего блокпоста. Танк этот уникален: снизу он – обычный трехколесный велосипед, а броня только сверху, склепанная из оцинкованных детских ванн, люк создан из цельного тазика, и из этой башни уже торчит перископ от маленькой подводной лодочки. Звуки этих металлических деталей, подразумевающих воду, сразу возвращают в детство.
Таким образом, даже в боевом положении, Профессор блиндирован только сверху, по пояс, а худые волосатые ноги на педалях беззащитно торчат снизу. Зато, если двигаться по дну мелководья, то очень похоже на субмарину. Наверное, можно еще в песок по пояс зарыться – дот будет.
Профессор снимает свою танкистскую амуницию – розовую резиновую купальную шапочку, наушники от плейера и очки для подводного плавания, и остается в сером кимоно на пуговицах (это наша униформа) и белых полукедах на босу ногу. Бородка клинышком, почти и не треснутые роговые очки, свисающая на лоб прядь волос, ныне мокрая от пота, небольшой животик – Профессор и есть, гениальнейшая личность, между прочим.
- Привет, Малиновый Король, - Профессор устало опускается на песок рядом со мной и протирает очки белоснежным, отутюженным платком.
- Здравствуйте, Профессор, - я привстал и, с почтением жму его пухлую холеную руку. Вот ведь – гоняет на танке, а руки вовсе и не в мазуте.
- Как сходили? – Интересуюсь я у Профессора.
- Ну, в целом очень даже неплохо, кое-что есть.
- А что с Шизлонгом? –
Мимо как раз проносят бедолагу. Он приподнимает голову и тянет к нам руку. Видимо, хочет что-то сказать – щелкает пальцами и дергает кадыком. Но ничего от него не доносится, и он снова отключается.
- Да послали его в разведку, а он задрался с двумя туземцами – закурить они у него попросили как-то не так. Ну вот, сначала они ему наваляли, а затем он стал пятиться да и напоролся на сульфазиновый кактус, да еще четырьмя точками – теперь неделю пролежит. Ничего, не впервой, впредь умнее будет.
- Ну да, он-то будет, как же! – думаю я, – непременно будет. И, именно, умнее!
Профессор угощает меня чудесной местной сигарой и закуривает сам. – Ну, а в лагере что?
- Да, вроде, все в порядке, Нейрон вот только расскандалился.
- А что так?
- Да, опять эта Нефиртите… Специально она его, что-ли, д-дразнит, - я начинаю заикаться от возмущения, - вздумала полы мыть перед его клеткой, да хоть бы швабру какую взяла, так нет, ей надо так просто, тряпкой. А халатик у нее - сами знаете… И вот он уже сутки склоняет ее к соитию и совокуплению и орет. что ему непременно надо предаться с ней любви, надо непременно завладеть ею, в том смысле, что вступить с ней в интимные отношения, заняться сексом, на предмет того, чтобы произвести половой акт…Это он имеет в виду, что намерен ее…
- Ну, я понял, понял… безобразие! Сколько раз ее предупреждали! Ведь какой ни есть, а бывший, все-таки, император, нельзя же так издеваться над человеком. Завтра же, на утреннем обходе, поставлю вопрос перед Доктором и Комендантшей, кстати, что там с комендантшей, ходят слухи, что ее какой-то Железный человек изнасиловал, Кнехт, что-ли… А, ну так вот, пусть они ее обяжут ходить в, каком-нито, балахоне, размером на Шизлонга. А то она вас всех окончательно с ума сведет, террористка. Профессор подозрительно посмотрел на меня, на что я скромно потупился, чувствуя, как заполыхали щеки.
- И без герра Рентгена видно, что у Вас, Ваше Величество, в черепной коробке, а именно – в струях граппы и кальвадоса резвится эта голая членовредительница. Выбрось эту дурь из башки. И прекращайте эти ваши алиготэ–алигофренные эксперименты – всю чащу загадили. Не там ищете, гармонисты!
- А теперь слушай внимательно. Даю тебе три дня, чтобы прошли эти ваши насморки до обмороков и пессимистичные поносы, и пойдешь в одиночный маршрут, подготовься. Конкретной цели нет, есть примерное направление, позже я растолкую. А пока лишь предварю. Последняя наша вылазка выявила несколько отстраненный и узконаправленный взгляд на деятельность человечества. – Мы вычленяем, очищаем, конкретизируем из почвы отдельные химические элементы – металлы, жидкости, газы и т.д. Как-то их перерабатываем, куда-то применяем, не сказать бы, используем, т.к. пользой тут и не пахнет, и превращаем в хлам, но уже необратимо безжизненный.
К примеру, золота добыто и очищено, кстати, ртутью, на данный момент, вот чтобы тебе наглядней представить, это куб, примерно с гранью в 100 метров. С другими металлами дела обстоят неизмеримо ужаснее по масштабам. Пока умалчиваю о том, к каким убийственным последствиям приводят эти производства, но если мы со временем окончательно разложим всю планету по полочкам, а потом опять смешаем по своему т.н. «разумению» во всякие видеомагнитофоны, автомобили и пр. дрянь, то в данной точке Вселенной жизнь, в нашем понимании, закончится. Конечно же, я сухо схематичен, но дело еще и в том, что, примерно, то же самое происходит и в нашем, якобы, «познании», и в этике, и в эстетике
Вот, примерно, в эту сторону и пойдешь, и, естественно, один. И не бойся ты одиночества, это наиболее нравственно, а все эти ваши, якобы, любови и дружбы, это от незрелости, растерянности, беззащитности и темных инстинктов. Одним словом, можно все, но все зависит от твоего уровня. Ну, да это потом, сейчас еще не поймешь. А одному, как известно, и Бог помогает. И в одиночестве больше слышишь, видишь и чувствуешь. А также многое не забалтываешь, не затаскиваешь, не залюбливаешь – не профанируешь, проще говоря. А любая чужая жизнь, пусть она и кажется тебе необходимой рядом, так или иначе, поглощает изрядную часть твоей. Кроме того, все эти ваши «влюбленности» неизбежно ведут к ревности, злобе, отчаянью и прочим несветлым ощущениям бытия. А уж объективные причины для этого не заставят себя долго ждать. Вести себя с окружающими, все-таки, желательно ровно и предсказуемо. А в обычной суете, рано или поздно, каждый из вас начинает ощущать, что к нему относятся всего лишь потребительски. И, как, все же, глупо и непоправимо неправильно, что люди так безобразно и некачественно расплодились, вызвав из преисподней таких монстров, как индустриализация, урбанизация, типизация, унификация и прочая мерзость. А, ведь, человек задуман как существо ярко уникальное, без права на аналог.
Впрочем, это все тоже потом, впоследствии, а то, что-то, я брюзжать много стал, устал, стало быть.
- А Вы, Профессор, вот, с устатку-то… Я приподнимаю с земли объемистое, гончарное подобие греческой красно-черной вазы.
- Я, вообще, заметил, что все мы с удовольствием пользуемся местной утварью, как-то она симпатичней нашей.
Вот и Профессор, несколько с сомнением протягивает мне свою резную чашу из кокосового ореха. – Ну, плюхни, разве что, немного, попробуем, что вы тут смастерили.
Профессор осторожно, мелкими глотками опорожняет свою скорлупку и тут же начинает громко урчать животом. Удивленно смотрит на меня и почти бежит к своей бронемашине, чихнув на прощание. С ржавым скрежетом накрывается тазом и затихает. Я же, с трудом, но сдерживаю истеричный хохот - нельзя же смеяться над таким уважаемым человеком, но как представлю, что, судя по всему, ему предстоит…
И как же это я мог предложить Профессору такой неоднозначный напиток. Идиот! «Выпейте, дорогой Профессор, после дальнего похода, расслабьтесь».
Сначала просто заложило уши, затем над бамбуковой рощей поднялась стая ворон ( кто-нибудь, наверняка, скажет, что вороны в бамбуке не водятся ). Оглохший, я не враз сообразил, что это профессорский чих ( ну, или там еще чего ), раздавшийся из танка, многажды усиленный жестяной акустикой брони. Следом еще дробная очередь подобных оглушительных звуков. А первая же мысль у меня была, что на нас напали, и Профессор открыл огонь из танковых орудий какого-то крупного калибра. Хотя я-то точно знаю, что его бронемашина ничем подобным вовсе не оборудована, а пуляет Профессор в экстремальных ситуациях обычно из мастерски сделанной рогатки, а уж совсем прижмет - так из пращи, выставившись из люка. Надо признать, что эта мощная акустика является самым уязвимым местом броневого щита нашего лагеря, поскольку работает одинаково успешно не только наружу, но и вовнутрь. Вот, однажды в походе, какой-то оголтелый (голый телом) дикарь, без всякого уважения к бронетехнике, пустил каменюкой в наш танк и угодил прямо по тазику. Раздался глухой взрыв, и ноги Профессора безвольно соскользнули с педалей. Из ступора его выводили суток трое, и с того случая слух возвращается очень медленно. А еще же надо было найти опытного жестянщика, с тем чтобы починить наш подбитый танк, так чтобы Профессор не расстраивался. Тем временем, из танка-усилителя несутся громовые проклятия в адрес дебилов, компонующих совершенно непотребные коктейли, ну просто неприличные. По-моему, так я даже расслышал несколько слов, совершенно не свойственных аристократичному Профессору. Ну, да его можно понять в этой ситуации, да, к тому же, он, наверное, просто забыл, что его слышит весь лагерь.
А то, вот еще как было – Шизлонг, как-то, завлек в пришвартованный к кокосовой пальме танк, креолку, и всю ночь страстно сопел и пыхтел там на всю округу. И вот, с длительно и мерно раскачиваемой пальмы, наконец, срывается костистый кокос, и, конечно же, попадает исключительно по крышке люка. Изможденная и оглушенная туземка, естественно, предполагает, что это у Лонга так мощно процесс охаживания завершился, и лишается сознания (если оно у нее еще оставалось), уже от собственного подступившего восторга, и начинает дико орать. Контуженного от всего происходящего, Длинного Шизу начинают бить частые конвульсии и прямо головой о броню, а всеми остальными местами, как кролика, о креолку. От такой кондрашки эта дура завыла еще зазывней, ну а конвульсии Шизлонга соответственно увеличили амплитуду и частоту. Так они и колотились наперегонки, пока броневые листы не вошли в резонанс с этим бедламом и не разъехались по клепаным швам. Понятно, что в лагере начался переполох, а местами и паника – включили прожектора, сирены, а некоторые даже электробритвы, да кто же это услышит за такими децибелами. И, главное, не понять, что происходит - может, извержение чего-нибудь. Вот у аборигенов – у них все просто – боги их прогневались за какие-то там пригрешения. Быстро подхватились, погрузили свою иссохшую праматерь и угреблись в своих пирогах за горизонт. Жертвы приносить, грехи замаливать. Вернулись через три дня, притихшие, исхудавшие и просветленные.
Когда же мы все собрались у подбитого танка, в жестяных руинах, поверженный Шизлонг подергивал уже только кадыком и отрешенно напевал: «Нас извлекут из-под обломков». А креолка, с заклиненным взглядом, пребывала в устойчивом зкстатическом Дзэне.
Перенесенный шумовой шок вызвал у Шизлонга впоследствии сексуальное отвращение к бронетехнике, однако же, он закончил автотанковый факультет УрПТУ (ныне академия). А еще у него теперь всегда полные карманы заклепок – на всякий случай, от чего он никак не может миновать металлоискатели. Зато он вошел в туземный эпос под именем «Тот, который громко любит», а восхищенные креолки каждое утро приносят ему лукошко сушеных лягушек, видимо, чтобы не иссякли его громоподобные способности; «…и дорогая не узнает, какой танкиста был конец».
- Ну, знаете, Доктор, странный вы мне вопрос задали – есть ли у меня галлюцинозы? Ну, там запаховые, слуховые, зрительные и всякие прочие? Ну, вот как Вы себе находите, если у сумасшедшего спросить, считает ли он себя сумасшедшим, то будет ли его ответ объективен. Ну, впрочем, извольте, давайте попробуем порассуждать на эту тему. Да, вот, к примеру, возвращаюсь я как-то домой и вижу лоток, а на лотке продают мужские носки. И носки эти такой расцветки, что я очень явственно ощутил их вонь, хотя их пока еще никто не одевал.
Ну, и как вы считаете – галлюциноз ли это? Или просто сложное ассоциативное реагирование на цвет?
Или вот, другой пример, гораздо более яркий. Вот смотришь на этих двух персонажей, которых часто показывают по телевизору, ну этих, с округлыми фамилиями, лощеными рожами, по которым хочется съездить вяленым лещом, и ощущаешь тоже страшную вонь – ведь от них, явно,тоже воняет, чем-то ,типа, давно нестиранных носков. И что Вы скажете, это галлюциноз? Вот я, например, думаю, что это вполне адекватная реакция.
А вот, Доктор, я Вам расскажу совсем нечто странное. – Со мной часы разговаривают. На «видике», на «мобильнике», отдельные, или из телевизора.
Поначалу, я заметил следующее: что как случайно не брошу взгляд на табло, то замечаю симметрию – 15:15, 13:13 и т.д. Ну, и прожил я с ощущением легкого удивления несколько дней, а, впоследствии, ситуация усложнилась, то бишь, могли уже показать не просто, скажем, 12:12, а 12:21, что, понятно, ещё зеркальнее.
Ну, а затем, я стал внимательнее относиться к этим «беседам». Да вот, Доктор, сами посудите, что если вы вдруг, в растерянности и невзначай, оглядываетесь на часы, опаздывая на свидание и пытаясь обвязать себя свежим галстуком, видите на циферблате 16:34, то, понятно, что речь идет о 7:7. Или, допустим, так – вот у вас выпрыгнуло 22:10, то и так совершенно ясно, что 10 – это и есть 22 часа, т.е., опять же, 22:22.
Со временем до меня стало доходить, что если, допустим, 22:11, то следом непременно будем 22:12. Ну и как Вы, Доктор, сами догадываетесь, я Вас в этом уверяю, а можем и поспорить, что нащелкает 22:13, а это и есть 4:4.
А вот однажды, я очень долго ждал любимую (которая у меня действительно есть, в отличие от Солнечного Капитана), метаясь по комнате, задаваясь вопросом, через сколько же минут или часов она придет, обратил свой взор на часы – а там было 19:25, это получается 10:7, т.е. разница в три минуты, до гармонии, и Вы, конечно же, мне не поверите, но ровно через три минуты она пришла.
А то, вот еще: как-то так сложилось, что очень долго не было подобных сигналов, и я стал болезненно часто поглядывать на часы - и все тщетно. Сижу в кресле, смотрю телевизор, а идет репортаж о вокзале какого-то периферийного городка. И, вдруг, очень крупно показывают вокзальные часы. Ну и, сами понимаете, на них 14:41, и у меня было такое ощущение, что мне кто-то свыше подмигнул.
А со временем, мне стало понятно, что если 13:24, то надо из 3 отнять 1, а из 4 – отнять 2, вот оно и будет 2:2, ну и - нетрудно догадаться, что если будет 11:24, то, естественно, надо две первые единицы сложить, а от четверки, опять же, отнять 2 – вот Вам и будет 2:2.
И я подозреваю, Доктор, что это еще не предел, но Вы же, наверняка, скажете, что у меня шизофрения. Но это Вы сами меня спровоцировали на подобные разговоры своими странными для меня вопросами о каких-то галлюцинозах. Ведь, никому не дано, кроме одной очень серьезной Субстанции, судить, что такое объективно и что такое галлюциноз.
Мы сдаем свое дежурство по смене, и я спускаюсь извилистой узкой тропинкой к лагерю. Cержант же Сережа чего-то замешкался в бамбуке, видимо, производит какие–то свои отправления.
А закат передо мной разыгрывается действительно грандиозно–предгрозовой: розовые прозрачные облака местами перекрываются мрачным пурпуром. Извечная борьба добра со злом, находящая некий компромисс в легкой золотистой прозелени. Понятно, что добро в результате победит, но когда-нибудь потом, не сейчас. А пока, зачарованный величественной картиной, я опять начинаю ощущать тоску в районе диафрагмы – как же хочется жить по-настоящему! Профессор бы сейчас сказал : «Ну, так и живи, кто тебе не дает?». Да не это ли самое пытался он мне сейчас втолковать. Профессор, надо признаться, своим заданием и инструкцией к нему, внес в мою голову полнейший сумбур. Что он, все-таки, имел в виду? Куда это он меня посылает, в каком таком направлении и почему в одиночестве? Но вид заката настраивает меня тревожно-оптимистично, и я ощущаю нехарактерную для меня решительность. «Пойду, - думаю я, - конечно пойду. Да, да, надо идти».
Таркус вышел из полутемного, пропахшего мочой парадного, глубоко вдохнув посвежевшего озонистого воздуха, и огляделся. Оказывается, только что прошел дождь, даже ливень, судя по лужам с прибитым тополиным пухом по краям и каплям с карнизов. Но уже выглянуло солнце – в воде отражались угловато и ярко освещенные верхние этажи двора– колодца и квадратик синего неба. А вокруг этих светящихся акваторий так и хранился полумрак. В дальнем углу двора, меж луж стояли и судачили две бабки в белых панамках. С появлением на крыльце Таркуса, они зловеще замолчали и уставились на него. Таркус растерянно и неловко потоптался на месте, потупился и надвинул поглубже на глаза кепку.
Прямо напротив, в раскрытом окне низкого первого этажа, на фоне тюлевых занавесок, около цветущей герани в жестяной консервной банке, рядышком сидели и так же обозревали двор два больших пушистых кота – белый и черный. Коты эти жили в соседях и дружили редкой котовьей дружбой. И вот, ходили друг к другу в гости – по очереди сидели то в одном окне, то в другом.
Таркус, осторожно огибая лужи, чтобы не промочить летние в дырочку туфли, зашагал к обшарпанной грузовиками арке. Привычно различив запах мусорных баков, минуя анфиладу дворов, Таркус попал на довольно оживленную улицу. Близкишащие пешеходы как-то враз все приостановились и тоже вперились в Таркуса. и, даже показалось, что пассажиры прогрохотавщего мимо трамвая в удивленной укоризне синхронно вывернули шеи, оборачиваясь.
- Да, что за черт…что они все… - cквозь зубы вслух пробормотал Таркус, и подняв воротник курточки, скользнул налево, вдоль дома по стенке. Почти пробежав целый квартал, с облегчением отметил, что здесь уже никто не обращает на него внимания.
- Да пошли они все… - пробурчал опять вслух, уже со злобой, - лучше бы на свои рожи повнимательней в зеркало посмотрели. Постепенно успокаиваясь, распрямил спину и замедлил шаг.
Прямо перед Таркусом шествовала женщина с независимой походкой, в длинном незастёгнутом плаще. Размахивая маленькой сумочкой в одной руке, из другой она вылизывала мороженку в вафельном стаканчике. Тряхнула высоко поднятой головой, поправляя плавную волну волос, и оглянулась на Таркуса.
…Ну, надо же…девушке слегка за сорок…а она счастлива…как первокурсница…сбежавшая с лекции...
Общую картину даже и не портил, а скорее дополнял, поясок от плаща прогульщицы, выскользнувший из бретелек и волочащийся за ней, пряжкой прямо по тротуару…
…Сказать не сказать…неловко как-то…а и не предупредить непорядочно…
С трудом решившись, Таркус немного опередил даму, вдохнув запах чудесных духов, и, краснея и запинаясь, глухо произнес, -
-Простите…у вас пояс от плаща…вот…
Женщина осторожно, чтобы не размазать помаду, слизнула с карминных губ мороженое и невозмутимо улыбнулась, благодаря и действительно светясь спокойным счастьем.
Таркус, смутившись еще больше, опять сделал вид, что очень сильно спешит. Меж тем, оглядевшись, понял, что не только спешить некуда, а и вообще, во всей этой суете он забыл, куда шел, да и забрел, оказывается, в полузнакомый район. Чтобы сосредоточиться, сориентироваться и не привлекать опять всеобщего внимания, Таркус пристроился на какой-то остановке, позади всех ожидающих, у фасада здания.
На перекрестке, на первом этаже углового дома, видимо, в фойе некогда серьезного учреждения, лысился огромный гипсовый бюст…
…это как же они его туда вперли-то…слепили прям там что-ли…вроде и не сезон нынче…для подобных монументов…да как же его оттуда теперь вытащишь…по кускам придется…ну да уж как-нибудь…
Таркус дернулся, как ужаленный – что-то настойчиво толкало его пониже спины. Отскочив и обернувшись, обнаружил плотный рулон ватмана, торчащий из форточки полуподвального окна. Управляла рулоном пожилая тетка, в шиньоне фиолетового цвета, с перекошенным от злобы лицом. Далеко не сразу Таркус сообразил, что это он им свет застит. И, как ни странно, но фиолетовая фурия напомнила Таркусу, что вышел он просто прогуляться, ну и за пивом уж заодно. Что касается пива, то Таркус уже заприметил на противоположной стороне улицы столики летнего кафе, под полосатой «маркизой». Но сейчас дорогу ему преграждал трамвай, остановившийся без видимых причин, вовсе не на остановке, и занудно звонивший.
Оказалось, что перед трамваем, прямо между рельс, с упоением целовалась пара голубей, а молоденькая вагоновожатая, с уважением еще к любви во всех ее проявлениях, не посмевшая нарушить идиллию, затормозила и подавала пылким птицам сигналы.
Ветром у Таркуса с головы сорвало кепку, и он кинулся за ней прямо по брусчатке проезжей части, разбрызгивая лужи. Голуби испуганно взлетели у него из-под ног. Завизжали тормоза, и черная сильно тонированная BMW, заложив крутой вираж и чуть не сбив Таркуса, остановилась у поребрика, опустились стекла, и из затемненного салона выставились круглые стриженые физиономии, на вид совсем без эмоций.
- Ох, не надо было мне сегодня из дома выходить, - подумалось Таркусу, - за пивом мог бы и соседей сгонять или Солнечному Капитану позвонить.
Извиняющимся жестом приподнял плечи – мол, так вышло, уж простите, виноват. «Колобки» переглянулись, обменялись короткими фразами, стекла скользнули вверх, заглушая бухающую музыку, и машина рванулась, взвизгнув, на сей раз, покрышками.
С трудом сдерживая дрожь и, все еще, держа в руках мокрую фуражку, Таркус повернулся было идти. Прямо перед его носом двигался борт трамвая, размалеванный яркой рекламой. Понуренную голову даже поднимать не стал – и так было понятно, что злорадствующие пассажиры столпились у окон так, что, вроде бы, и вагон накренился.
Проскрежетав железом и провизжав ребордами по разболтанным рельсам и расшатанным нервам, трамвай, наконец, открыл Таркусу путь на ту сторону улицы, ко все более желанным столикам под полосатым тентом.
И сквозь солнце, сверкающее всем спектром на каплях непросохших листьев молоденькой липки, Таркус увидел ее.
Стройная, несколько вызывающе одетая, Пипка шла, ни на кого не глядя, с незнакомым, неуловимо строгим и угрюмым выражением лица. Видеть же ее было привычно все время громко смеющейся или мило икающей.
-А ведь я ее, похоже, совсем не знаю, - подумал Таркус и пошел ей навстречу.
А казалось, что знал он ее довольно близко. Ее и ее двух лучших подруг.
Пипку и Пупырышку звали так по поводу их груди. К Жабьей же Лапке это не относилось ни в коей мере. А ее прозвание объяснялось вечно холодными руками и очень красивыми, длинными и холёными пальцами. Все они, время от времени, подрабатывали натурщицами, и, конечно, водились с художниками. Таркус даже помнил, как забавно он с ними познакомился. Было это на банкете в мастерской у Менгиста. Отмечалось приобретение Менгистом настоящего человеческого скелета для анатомических штудий. Скелет этот он выпрашивал целый год у своего соседа по мастерской, старенького художника–соцреалиста. Ну, вот загорелось ему, видимо, впечатляло, что этот скелет, некогда, очень давно, принадлежал живому человеку, который вот так же жил, гулял, работал, может, даже был тоже художником и завещал свою натуру потомкам, на пользу святому искусству. А скорее всего, еще при жизни запродал свой скелет по бедности, а деньги пропил.
И вот, наконец, в период жуткого безденежья, этот апологет коммунизма уступил любимый предмет Менгисту за пол-ящика водки. Начал-то он с целого ящика, уверяя, что расстается почти что с родственником, что он всю жизнь с ним прожил. Но сошлись- таки на десяти бутылках, кои все вместе тут же и выпили.
Конечно же, в процессе празднования, остов этот прозвали Сильвестром Арнольдовичем или Арнольдом Сильвестровичем, за его «накачанную» плоть, конечно же, усаживали его за стол, надевали на него шляпу, вставляли в почерневшие зубы сигарету, а в кисть руки рюмку, и, конечно же , подкладывали его в обнимку к уснувшим, и прочее и прочее, все как положено пьяным циникам.
Таркус же тогда пребывал в творческой депрессии, и в ответ на заигрывания Пупырышки, возьми да и заяви, что он- де импотент, и ему от этого скучно с ними резвиться, а вот он, лучше-ка, винца выпьет, да не составит ли она ему компанию.
-Я вам рекомендую вот этот салат из кальмаров, в нем очень много белков, и, кстати, это мы его сами с Пипкой готовили, а Лапка - вот эту селедку «под шубой», Пупырышка принесла на засохшей палитре, классической округлой формы, керамическое блюдо с салатом и два бокала с вином.
-А с кем это там Пипка танцует? – спросила она, как Таркусу показалось, с легкой ревностью, непонятно к кому. Пипка тоже бросила на них острый взгляд и икнула, прикрыв рот ладошкой с, почему-то, зеленым лаком на ногтях.
- А…это Фил, художник – пейзажист.
-Фил… - какое странное имя.
-Ну, это просто. Полностью его зовут Фильмоскоп, потому что очкарик и потому что пишет свои пейзажи со слайдов. К тому же он весьма любвеобилен и «чувствителен».
Жабья Лапка в этот момент отбивалась от ухажеров в дальнем углу, в районе мягкого уголка. Таркус тогда еще отметил, что вот, мол, надо же, в человеке столько женской привлекательности, что все мужики вокруг просто с ума сходят, даже этот «призрак коммунизма» бродит рядом. А вот, скажем, пластунам вялоползущим от нее не разползтись – земля мешать будет.
Ну и, конечно же, Пупырышка немедленно поделилась известием про Таркусову «беду» с подругами. И, со всем пылом женской сердобольности, они бросились его «спасать». Через несколько дней каждая из них была уверена, что это именно она уберегла Таркуса от генной немоты, потому что сильно старалась. Когда же выяснилось, что у него как раз обратные проблемы, они не сердились, напротив, им было очень смешно.
А очнулся Таркус тогда через пару дней, всё в той же мастерской, от страшного треска. Фильмоскоп с остекленевшим взглядом крушил несчастный скелет об колено и бросал осколки в кипящую на плитке жёлтую эмалированную кастрюлю.
-Ты что…ты что делаешь? – в ужасе просипел Таркус, силясь приподняться.
- Что, что…студень варю, едрёна вошь! –Чем закусывать-то будем?¬ Всё давно кончилось, а ни у кого ни копейки.
- Съешь что-нибудь? – спросил Таркус у Пипки, усадив её за столик открытого кафе.
-Нет, спасибо. Ну, если уж так хочешь сделать мне приятное, возьми бокал белого сухого вина. Я, вообще-то, спешу.
-Очень жаль, я думал ,посидим, а то можно и ко мне…
-Ты же предпочитаешь одиночество.
-Ну да, предпочитаю, да день нынче у меня не задался как-то.
Пипка внимательно посмотрела на Таркуса.
-Ты, вот что, Тараканьчик, ты выпей-ка сейчас пива, лучше светлого, и не больше двух бутылок. Потом съешь чего-нибудь горячего, так чтоб из носа капало, и иди, поспи. А вечером я, возможно, и загляну тебя проведать.
-Выпить я, конечно, выпью, на счёт поесть - сомневаюсь, а чтобы поспать, это ещё до дома дойти надо. Поскольку сказано, что проторенные дороги и широкие врата не ведут…
-Ну, всё, всё, зануда, иди за вином, я с тобой посижу полчаса.
Таркус направился к стойке, просто составленной из двух столов, накрытых белой скатертью. За столами бармен, с гладко зачёсанными назад волосами, в «бабочке» и жёлтой жилетке с зелёными узорами, ловко жонглировал бутылками.
- Э-э-э…будьте добры, - обозначил своё присутствие Таркус.
Бармен посмотрел на него и перестал улыбаться. И едва успел подхватить свои бутылки.
-Весьма внимательно вас слушаю, - пропел поставленным голосом.
-Бокал вот этого испанского, русскую шоколадку и две девятой «Балтики», - попросил Таркус.
- Что за вино? – спросила Пипка, пока Таркус выставлял на столик заказанное.
- Испанское, название не запомнил, как видишь, белое, думаю, ничего.
- Очень хорошо, то что надо, - Пипка с хрустом отломила квадратик шоколада и засунула Таркусу в рот.
- А вот про это я где-то читал.
- Про «это» - про что?
- Про пиво с шоколадом. Там главный герой любил сидеть в своей пещере на своём уникальном унитазе, смывающем всё подряд неизвестно куда, есть шоколад, запивать его пивом и путешествовать по карте. Признаться, был бы у меня собственный туалет, а не коммунальный, я бы с удовольствием провёл остаток дня так же.
- Ах, оставь эти нездоровые образы. Скажи лучше, сам-то ты что-нибудь пишешь сейчас? - Пипка отхлебнула вина и одобрительно икнула.
- Я…пишу…да, - Таркус наполнил свой фужер пивом и ожидал пока осядет пена.
- Цвет, Таркус, сейчас главное - цвет.
- Да…главное…знать бы ещё что такое главное.
- Опять ты ворчишь. Ну, вот посмотри, как ты одеваешься – во всё чёрное, вот и жизнь у тебя такая же. Не удивлюсь, если у тебя и трусы чёрные.
- Не помню…но рубашка же у меня белая.
- Ну, наверное, у тебя и в жизни бывает чего–то немного светлого, - Пипка хитренько посмотрела на него, заслонясь бокалом, - совсем немного, ровно столько, на сколько торчит твой белый воротничок.
Таркус с завистью посмотрел на ярко–розовую Пипкину курточку, на жёлто–зелёные брючки, на изящные красные туфли на тоненькой «шпильке».
«Лодочки», вроде бы, подобные туфли назывались тогда «лодочки».
Как – то в детстве, играя на свежевыкрашенном полу, он обнаружил следы маленьких подковок, и был абсолютно уверен, что по ночам к нему приходят маленькие лошадки, а он их не видит, потому что спит. И несколько ночей он пытался их дождаться, но тщетно – опять засыпал. А вот острое ощущение сказки осталось до сих пор.
И вот только сейчас, глядя на Пипкины каблучки, он, с сожалением разрушая далёкое чудо, сообразил, что это его мама, тогда ещё молодая, топталась перед зеркалом, видимо, на подобных каблуках.
- Послушай, Пипетка, я ведь тебе уже говорил, что да, я, действительно, пытаюсь заниматься чем-то таким, что имеет отношение к цвету. Он для меня значим. И надеть на себя что–либо цветастое я просто не могу, я буду чувствовать себя не комфортно.
А чёрное…чёрное, это даже не цвет, напротив, это поглощение цвета, и, стало быть, света, который, собственно, и разлагается на цвета.
С одной стороны, вроде бы, понятно, чьё это – чёрное. А с другой, - ну, скажем, монахи – чернецы, с их самым строгим уставом. В любом случае, чёрное – это неприятие света со всеми его условностями, моралью и правопорядком, необщительность. Вот, как ты язвительно подметила, я и веду довольно замкнутый образ жизни.
- Бедный, бедный Таркус, ну ты уж постарайся до вечера не стать совсем монашком – я тебя навещу, ты меня убедил.
- Хорошо, постараюсь, а ты, наоборот, хотя бы до вечера уж побудь монашкой, потому что мне тоже очень интересно узнать какого цвета у тебя…
- Розового, Таркус, розового, - цвета радости и единения с миром.
Белоснежным, отглаженным платком Таркус привычно стёр со щеки помаду, оставленную на прощанье Пипкой, улыбнулся полученному таким образом розовому и обратился снова к пиву.
Мимо столиков, не спеша, как гуляют по парку, проходила симпатичная пара непервой молодости. Она, в облегающем летнем платье, чуть полноватая, вышагивала, заложив руки за спину, и лукаво улыбалась, явно чувствуя свои чары. Он же, в светлом костюме и при галстуке, приотстал на полшага и молчал с напряжённым лицом.
…не иначе как ,у них вспыхнула старая страсть…он, видимо, долго был в «отъезде»…где и осознал…что ему нужна лишь она одна…а она давно уже замужем…
«Блудный сын» тронул свою даму за локоть, что-то ей сказал и быстро направился к стойке. Бармен – иллюзионист налил ему полстакана водки, затем наполнил до краёв, следуя поощряющему жесту ладони. Мужчина глубоко затянулся папиросой и одним махом выпил водку, выдохнул дым и отрицательно покачал, опять же ладонью, на предложенную конфету. Поспешно настиг свою спутницу, уже уверенно обнял её за талию и что-то зашептал ей на ухо.
…вот так-то лучше…да и мне пожалуй пора…что-то засиделся…пиво допил…розовая пелена…розовая пипка вечером придёт…а я чёрный…а тётка фиолетовая…под машину чуть не попал…и на змею чуть не наступил…фокусник пришёл…что-то говорит…жёлтая жилетка…пошёл вон…главное цвет…жёлтый…розовый…чёрный…фиолетовый…идти надо…
В изнеможении я остановился у подножия бархана. Скинул на песок добела выгоревший рюкзак - взмокшую спину слегка обдало холодком. Всё неприближающееся туземное поселение, какой-то аул, кишлак, а, скорее всего, бывшее отделение совхоза, по-прежнему было на горизонте.
…не мираж ли…как зыбко всё и как вязко…и как пить хочется…
Вяло удивился желанию плоти заглушить усталость и жажду полным, пусть и тёплым, стаканом водки, и даже конфеты не надо. Возникло чувство голода, утоляемого слегка подтухшими варёными яйцами. Распухшим, шершавым языком выскреб из-за зубов песок со слюной и сплюнул. Липкий комок по сложной траектории проколыхался в дрожащем пекле и звучно шлёпнулся оземь, злобно зашипел и подпрыгнул обратно. Передо мной покачивалась треугольная голова гюрзы с залепленными плевком глазами.
…матрицу твою…пустыня называется…плюнуть некуда…а ведь ещё бы чуть-чуть…я бы на неё наступил…
Тоже заметно напуганная, змея дрожала жалом, пускала пену и прерывисто шипела. Ослеплённая, попыталась чем-то, хотя бы, плюнуть в ответ, но поперхнулась, хлопнула пузырём, как надувной жевачкой, и поползла, извиваясь, поперёк песчаной зыби. На верху бархана обернулась, угрожающе фыркнула и скользнула вниз, за гребень, завиваемый лёгким смерчем.
- Твою мать…- снова процедил я сквозь зубы и сам же нервно рассмеялся над собой, мол, свежая мысль.
Продолжая пятиться, я расслабленно опустился на песок и утёр пот со лба. Трясущейся рукой достал из нагрудного кармана рубашки сигарету и спички. Не прикурив, резко вскочил, отряхивая сзади джинсы, и внимательно осмотрел место, где только что сидел, на предмет того, что не хватало теперь ещё сесть на кого-нибудь. В лунки, продавленные ягодицами, с безразличием вечности, стекал песок. Натёк и замер.
…ну всё…всё…всё…хватит…хватит…- я схватил рюкзак и судорожно подёргал за шнурок завязки. Как всегда, в подобных ситуациях, образовал неразвязываемый узел. Громко поделился с пустыней очередной «свежей» мыслью и разорвал истлевшую ткань. Достал бутылку мятного ликёра, зубами выдернул пробку и, запрокинув голову, присунулся к раскалённому горлышку. Густая сладкая масса комками проскальзывала в организм, обжигая и царапая гортань.
…похоже на зубную пасту…и абразивный эффект такой же…а здесь не так уж и плохо…песок заискрился…кварц туды его…а вон верблюжья колючка…наверное должны быть и верблюды…они-то вроде не ядовитые…хотя тоже плюются…прости гюрза…я не хотел…
Я опустил бутылку и отдышался. Вокруг стало несколько жизнерадостней, ещё бы - адреналин с ликёром. И даже история со змеёй показалась смешной.
Собственная моя тень падала на рюкзак и дальше на песок, становясь всё уже. Покачал головой – тень тоже, поднял руку с бутылкой – тень сверкнула изумрудным лучом, попытался пошевелить ушами – тень не шелохнулась; её придавил крупный мохнатый паук в контуре головы.
Насекомое посучило лапками, выползло из тени, постояло и боком двинулось ко мне. Я отступил дальше за рюкзак, паук восьмируким «кролем» засуетился по песку следом. Так мы и двигались вокруг рюкзака друг за дружкой, причём паук, порой, менял направление, остановившись и прикинув, в какую сторону ближе. Я тоже усложнил игру - когда тень падала на паука, я корчил ему разные смешные, как мне казалось, рожи и жесты. Паук всегда замирал при таком действе и, казалось, наблюдал за моими гримассами и пассами. А когда солнце, наоборот, светило мне в глаза, я припадал к бутылке, щурясь на слепящее зелёное бульканье. После каждого такого цикла, сквозь красных «зайчиков» в глазах, я замечал, что паук становится всё крупнее. Так он и увеличивался с каждым глотком, пока, после очередной мятной вспышки, отбросив пустую бутылку и проморгавшись, я не увидел, что паук оказался чуть повыше меня ростом. Щетинистый хитиновый покров, четыре ноги и четыре руки, мощные ощеренные челюсти, выпученные добродушные глаза на круглой голове и крест из светлых волосков во всё пузо.
Паук сделал шаг (у него, соответственно, это четыре шага) в мою сторону и остановился, улыбаясь во всю свою пластинчатую пасть и выжидательно глядя на меня, будто проверяя, будем ли мы и дальше играть в догонялки или уже хватит. Затем скрючил действительно забавную физиономию, дразня уже меня, и подошёл поближе. Я же стоял не шевелясь, оторопело наблюдая, что будет дальше. А дальше, новоявленный приятель приобнял меня левыми руками - одной за плечи, другой за талию, а я его правой там, где у него было поуже. И мы двинулись с ним прямо на солнце, барахтаясь в барханах. Причём из солидарности я разулся и закатал джинсы - пусть будем оба босиком.
Паучилло, на удивление приятным бархатным баритоном всё успокаивал меня на ходу, убеждал не расстраиваться ( хотя я и не расстраивался вовсе, чего мне расстраиваться ). Говорил, что и ревновать нет смысла, мол, подумаешь - изменила, вот делов-то, бабы есть бабы, да и наплюй ты на них.
…да…да…я тут, давече, на одну наплюнул…едва жив остался…как-то у вас тут всё слишком всерьёз…
- Да уж, не то, что у вас. Вот, к примеру, у нас, пауков, ублажнённая членистоногая наша подруга может,вообще, сожрать своего мужчину. А ты говоришь…
…да я молчу…я молча радуюсь…что не сплю с паучихами…хотя,кто их сразу разберёт…в сети-то постоянно влипаю…да не Тарантул ли ты…не мутант ли…куда это мы идём…жара…
- А знаете, Доктор, что ещё я заметил. Вот, чтобы я ни совершил, ну или написал, я заранее знаю, кто из знакомых как к этому отнесётся, даже и рассказывать и показывать нет смысла. Знаю, кого будет раздражать, кто в глаза похвалит, а потом обгадит, а кто действительно нечто толковое произнесёт. А затем, и про незнакомых мне людей, я стал замечать то же самое – кто, что скажет про то или иное явление. Стоит мне на кого-либо настроиться, как я явственно слышу его мнение (это тоже к вопросу о галлюцинациях). Надо признать, чаще всего это сплошь пошлости и банальности. Но бывают и полезные вещи: вот намедни прорвало у меня кран на кухне. – Я взял да и представил перед собой сантехника, да так явственно, что ощутил запах перегара. И он мне всё подробно объяснил, что и как надо сделать. Но, для начала, изрядно обматерил, в том плане, что, мол, какой же я мужик, если такой ерунды не могу сделать. А раз я не мужик, то лучше и для других дел соседа приглашать. Сначала-то, я не всё понимал, что он говорит – слова, вроде, знакомые, где-то уже слышанные, а вот в какие они фразы складываются, и какой в них смысл, это уже сложнее. Но ничего, постепенно разобрался и всё сам починил; и только тут до меня дошло, что этот гад меня сильно оскорбил. Я приготовил несколько обидных слов из его же лексикона, чтоб ему понятней было, и, на всякий случай, обрезок трубы, и стал его обратно зазывать. Но вокруг меня каруселью крутились лишь мерзкие смешки и обрывки фраз: »…да пошёл ты…да пошёл ты на…». Так я и остался неотомщённым, и впредь стал более разборчив в общении.
Ну а, собственно, какая мне разница что они там скажут, пусть себе плетут что угодно. А вот надо попробовать к более высоким инстанциям обращаться, тем паче, что духовника у меня нет. Постепенно и это стало удаваться – стучался и мне открыли. И оказалось, что во многое не надо и, даже, нельзя вмешиваться, как-то реагировать, особенно если не просят. Пусть оно само получает ответ на свои действа. А дальше я стал подмечать, что я и сам могу использовать необходимую информацию. Надо только представить, что я разломал, сбросил с себя эту вонючую корку из засохшей грязи, какой я успел обрасти за годы тупой жизнедеятельности. Ну вот, примерно, как птенец скорлупу.
Жара стала с трудом переносимой – кто-то от души насдавал пару с ароматными добавками, а сам ушёл. В этой бане вечно так – кто пытается сушить парилку, кто, напротив, сдаёт без меры. Топят здесь дровами, и любители качественного пара съезжаются со всего города, каждый со своими прихотями. Банщики на это реагируют адекватно, и у них всегда можно приобрести на любой вкус веники – берёзовые, дубовые, можжевеловые, а так же пиво, водку и воблу. А можно их и в лавку сгонять.
И, конечно же, из завсегдатаев сложились устойчивые группировки по интересам. Самые шумные и многочисленные из них – «болельщики», и, надо признать, самые организованные. На мой взгляд, вся эта фанатичность и тяготеет к некоей тоталитарности и патриотизму, или, скорее, является следствием сего. К примеру, нынче при входе я прочёл объявление:
« Мужики! Сегодня полуфинал – пьём только пиво! За нарушение – штраф (литр водки на после финала)!
P.S. Получите фломастеры для заполнения таблиц.
Актив»
Они притащили сюда три телевизора и хором « болеют», пьют и ходят в парилку. Ни о чём другом разговаривать они не умеют. Как-то при мне они пинками выставили из бани постороннего, положительно отозвавшегося о какой-то вражеской для них команде. И это один из них, узнав, что я абсолютно равнодушен к смыслу их жизни, с презрительным подозрением спросил, а чем же, мол, я себе это заменяю. При этом, в глазах его ясно читалась уверенность, что взамен я предаюсь каким-то тайным порокам. А ведь, пожалуй, он прав. Это вот он же, когда проиграла его команда, неделю ни с кем не разговаривал – ни дома, ни на работе.
Собираются тут ещё «политики» - эти надрывно спорят о геополитической судьбе мироздания, а « сужденья черпают» из скандальных сообщений СМИ. Присутствуют так же « рыболовы», «автолюбители», «йоги», « шахматисты» и ещё какие-то небольшие коллективы, невесть о чём шепчущиеся по углам, оппозиция, надо полагать.
Осторожно сползая по осклизлым деревянным ступеням с верхней полки парилки, я согнулся пополам, чтобы побыстрей покинуть жар полуобморочного облака пара. И, в таком положении, чуть не налетел на странноватую фигуру внизу. Худой, нескладный, с длинными жидкими волосами, персонаж этот стоял, отвернувшись к печи и уперев руки в бока. Вся его поза выражала столько презрения к окружаюшему, что я не удержался и заглянул ему в лицо. На меня глянула мелкая мордочка, скроенная в надменную маску. Я попытался классифицировать его по внешнему виду, но тщетно, - к какой-либо группе отнести его было трудно. Ну, конечно же, он сам по себе, такая яркая индивидуальность. Наверняка у него есть свой собственный мирок, где ему уютно. Может быть, огород разводит или выращивает кроликов на балконе.
И бассейн, благодатная остуда после парилки, здесь великолепен – трёхнефный зал с коринфскими колоннами и с довольно просторной ванной в среднем пролёте. С одной стороны в воду ведут мраморные ступени, а с другой – бронзовый тритон, трубящий в раковину, пускает из этого экзотического инструмента смешную струйку воды.
Сейчас эта струйка гулко барабанит по чьему-то объёмистому чреву, солидно выступающему из воды. А мнится, что это тритон издаёт этот утробный звук своей дуделкой. Чревовещатель, не в силах больше сдерживать здоровый восторг, разражается истеричным хохотом, захлёбывается и переворачивается в воде как мячик, другими своими выпуклостями кверху. А я, покачиваясь на волне, поднятой жизнелюбивым бегемотом, наслаждаюсь прохладой и любуюсь витражом на потолке…
…демоны ли летящие…архангелы ли трубящие…или фавны настигающие…настичь бы сейчас сирингу темнокожую…в бамбуке…затем настойки пеона…и в парилку…и снова в бассейн…и в парилку…чтобы не переживать…да я и не переживаю…чего мне переживать…я одинок…свободен…как тритон журчащий…
В мыльном отделении опять кто-то угодил «в мошонколовку» - ну вот, все же про неё знают, а нет-нет, да кто-нибудь усядется, забывшись или выпив лишнего. Это, собственно, обычная низкая, широкая скамья, покрытая пластиком. Ну, чтобы присесть, тазик с водой поставить, мочалку там положить, мыло. Только у этой имеется трещина с зазубренными краями во всю ширину. И, когда садишься прямо на трещину - пластик, естественно, прогибается, трещина расходится, и у тебя всё проваливается в образовавшуюся дыру. А когда пытаешься встать, трещина, естественно, закрывается и защемляет всё, что туда попало. И самостоятельно выбраться из этого капкана бывает очень трудно, особенно, если в него попадают тучные пьющие мужчины. И если лавка скользкая от мыла. Тут главное - резко не вскакивать.
На сей раз, в ловушке оказался ветхий пенсионер из «политиков». Я слышал, как он только что отстаивал стратегический курс Кубы и хвалил Кастро, даже осип на этой почве. А его самый воинственный оппонент сейчас прыгает вокруг него и орёт что-то в том духе, что попался, мол, сандинист недомыленный. А вот, «фиделя» твоего мы теперь тебе отрежем, а иначе так и будешь тут сидеть, как cтарый селезень на гнезде. А не то отнесём тебя, как ты есть, вместе с лавкой, домой к твоей бабке. Пусть она тебя сахарным тростником кормит да ромом «Гавана-клаб» поит, да, знай, горшки под трещину подставляет, командос ты прищемленный. Сигары, вот только, добрые на вас переводить жалко.
Группа активистов из «болельщиков», завернувшись в простыни, отправляется к директору бани, - Валентине Степановне. – «…нет, пусть она полюбуется, что у неё в бане творится…нет, вот пусть что хочет, то и делает…нет, в натуре, мы тут постепенно все банными евнухами останемся…это они специально наносят удар по нашей демографии…масонов на мыло!»
Кто-то из сообразительных подтащил шланг с ледяной водой и пустил струю на всю мощь под лавку, уверяя, что все предметы от охлаждения становятся меньше - авось, пройдут.
- Но пасаран! – внезапно орёт узник совести, вздев кверху трясущийся кулак с вехоткой. И, действительно, его «предметы» ещё больше распухли и посинели. А ему, наверное, показалось, что его уже начали мучить за политические убеждения.
- Ну, что у вас тут опять? – раздаётся за моей спиной властный женский голос, - ну правильно, привыкли, извращенцы, в каждую дырку соваться.
Это явилась Валентина Степановна, статная строгая дама в причёске, очках и в ослепительно белом, накрахмаленном до блеска халате. Она и в этой дикой и смешной ситуации, среди толпы голых, беснующихся мужиков, чувствует себя уверенно и ничуть не смущается.
- Мне что,прикажете объявление написать: «Не суй – прищемит!»? А будете орать, я тут ваши клубы прикрою! Кто опять спиртное пронёс? А курить, кто здесь позволил? Ну, я вами займусь! А сколько раз я предупреждала, что подобная половая распущенность до добра не доведёт. Стыдно, отец, стыдно, - сам уже на ладан дышит, а всё туда же! Устроил тут, понимаешь, остров свободы!
Все замолкают и недоумённо смотрят на дряхлого политического, переваривая новую трактовку происходящего.
- Ну-ка, кто тут потяжелее будет? Вот ты и ты, - садитесь около него по бокам, а вы - тяните его теперь, только медленно. Ну, вот и весь ваш Карибский кризис. Банщик! Страдальцу в нос нашатырь, внутрь 50 грамм, наружно зелёнки, для экзотики – не будет на кубинок зариться, герой – любовник, понимаешь. И домой его, домой, к бабке.
- Пойти, разве что, домой, - подумал Таркус, выбредая из кафе вновь на улицу, - слово-то какое непонятное – « домой «. Ну, в моей ситуации это, видимо, то место, где я в данный момент обретаюсь, во всяком случае, я, именно, его имел сейчас в виду. Там я и работаю, там же сплю, и куда, кстати, обещала вечером зайти Пипка.
Пипка…Пипка…розовая Пипка…
Как-то, ещё в период, когда Пипка с подругами «спасала» его от генного безмолвия, они должны были встретиться с ней на остановке. И как только Таркус подошёл, слегка запаздывая, к месту встречи, чувствуя себя неловко от непривычного для него букета цветов, из киоска звукозаписи громко зазвучала музыка – Шаде. Эта лёгкая и обаятельная мелодия, в исполнении смуглокожей красавицы, была тогда живо связана с некоторыми волшебными моментами «реабилитации» Таркуса. И тут же, чьи-то маленькие нежные ладошки закрыли ему глаза. Обомлевший Таркус тогда ещё подумал, что, вот, вечно у него так – тёмные периоды перемежаются периодами ослепления. И увидел внезапно весёлое Пипкино лицо, ярко освещённое солнцем.
Конечно же, это она попросила паренька-продавца включить погромче, именно, эту мелодию, как только подойдёт поближе вон тот несуразный персонаж с букетом орхидей, ну вон тот, что глуповато и смущённо озирается, кого-то выискивая в толпе сограждан.
…нет…не хочу я сейчас в свою мрачную коморку…пойти, разве, Солнечного Капитана навестить…но первым делом надо срочно что-то типа туалета поблизости обнаружить…вот за что я пиво не люблю…неконкретный какой-то напиток…правильно А. Толстой сказал…с него в сон и в мочу…
Таркус свернул в ближайшую арку, смутно припоминая, что так, дворами, он может выйти на параллельную улицу. В темноте подворотни едва не налетел на пожилого мужчину в зимнем пальто с рыжим меховым воротником и такой же потрёпанной шапке. Неловко приостановившись и огибая мужчину, Таркус на мгновение глянул ему в лицо и прочёл в выпученных мутных глазах величайшее недоумение. И уже удаляясь и выходя вновь на свет двора, Таркус тоже удивился – а чего это он по зимнему-то? – Вроде, не сезон… А, впрочем, мало ли, может, он ещё зимой зашёл в гости к холостому старому приятелю, ну и засиделся в гостях. А за водкой, видно, кто другой бегал, помоложе.
Так и не найдя подходящего места, становящегося по мере поисков всё желаннее, Таркус действительно вышел на соседнюю, менее оживлённую улицу.
- Да вот же, - припомнил он, немного уже ориентируясь, - вот же, через пару домов справа будет небольшой палисадник, а в его негустой куще, помнится, красовался общественный туалет, на манер античного павильона. И, действительно, в пространстве, видимо, образовавшемся на месте разбомбленного дома, объявилось бело-жёлтое сооружение в стиле «Ампир». Но и тут не повезло – на фасаде, под фризом с советской символикой, какой-то подозрительно коричневой краской, метровыми буквами было размашисто начертано – «Ремонт». Отчасти, обречённо, по инерции, отчасти - всё же, с надеждой, Таркус подошёл к шедевру неоклассицизма. Вблизи же стройплощадки царила совсем не академическая атмосфера: из небольшого, в общем-то, здания лился хриплый рёв магнитофона и гомон множества голосов, из маленьких зарешеченных окошечек валил табачный дым.
Дверь с буквой « Ж « распахнулась от пинка изнутри, и двое мужчин в спецовках сантехников и низко надвинутых кепках быстро и целеустремлённо пронеслись в сторону ближайшего магазина, храня на лицах выражение корпоративной надменности.
- Ну, всё ясно, - с тоской подумал Таркус, - придётся мне уподобиться хамову потомству, а что делать? Мимо, озабоченно принюхиваясь, протрусил поджарый пёс – дворняга шакалистого вида, и Таркус увязался за ним, болезненно завидуя собачьей непосредственности – вот же, хоть у каждого куста ногу задирай…так-то конечно. Родственник шакала попетлял между деревьев и очередной раз отметился у странного вида конструкции, приглашающе поглядывая на Таркуса.
…ага…вот оно…спасибо брат…мы с тобой одной крови…
Сколоченное из досок странное сооружение, приставленное к голому торцу жилого дома, некогда являлось, видимо, трибуной для приёма демонстраций районного масштаба. Сквозь слёзы предвкушения, Таркус увидел колонны с флагами и транспарантами, услышал истеричные мегафонные вопли. Вскарабкавшись сбоку по ступенькам, Таркус прошёл по подгнившим скрипящим доскам к центру трибуны и прикинул ситуацию. Парапет, как нельзя более кстати, прикрывал его чуть выше пояса. Широко расставив ноги, торопливо приступил к вожделенному процессу. Отбежавший было пёс–поводырь, оглянулся на звук напористого журчанья и долго, очень долго с уважением и удивлением смотрел на Таркуса.
- Будто я у него парад принимаю, - подумал Таркус, и, входя в роль, скорчил на лице чванливую улыбочку райкомовца с волосатыми ушами.
Показались оперативно обернувшиеся гонцы, обременённые ношей. Таркус свободной рукой сделал им с трибуны приветственный жест сановного маразматика. Представители цеха сантехников остановились, поставили на землю свои клетчатые « челночные» сумки и тоже замахали руками, выражая одобрение и бурную радость. Один даже подбросил от восторга вверх свою кепку.
- Эх, хрясь их матрицу, - посетовал Таркус, - голубых политических елей не хватает да какого-нито салютишка. Тут же, как по заказу, стрельнула петарда, за ней другая, и с омерзительными воплями пронеслись слабоадаптированные детки нехорошего возраста.
Гонцы, меж тем, стали делать Таркусу приглашающие жесты – тыкали грязными пальцами в сумки, затем себе в горло и в сторону туалета.
…ну нет ребята…спасибо конечно…но от торжественного банкета я пожалуй воздержусь…уверяю вас с большим сожалением…просто мне пора…
Таркус прощально помахал рукой гонцам и зачарованному псу, направляясь к выходу с трибуны и стараясь ступать осторожно, чтобы не промочить туфли.
- Там…там…этот ваш фаллический символ к потолку присосался у меня в кабинете, - заорала Комендантша, врываясь в нашу палатку. Мы, понятно, сразу сообразили насчёт символа, не дураки, конечно это Кнехт, кто же ещё. Но, неужели же, это ему удалось, неужели получилось? И мы всей гурьбой бросились вон из палаты.
Сколько раз мы пытались его приделать к потолку, или хотя бы к стене – ни разу не получилось. Всю башку ему исстукали, сами исстукались, а сколько мебели переломали. Придавливать его надо было сильнее что ли. Профессор говорит, что тут точный рассчёт нужен – сила прижимания Кнехта к поверхности прислюнявливания должна быть точно равна массе его несуразного тела, раз у него на полу никаких проблем нет. И ещё надо, мол, на потолок поплевать, для чистоты эксперимента, на пол-то ведь плюём. Вот же, у нас весь потолок заплёван.
- Ну, что ты тут повис…и висит, и висит, Бэтмен несчастный, ещё гляделками своими бесстыжими лупает, - продолжала разоряться Комендантша. Мы же все онемели от восторга – действительно, на потолке кабинета, прям рядом с лампочкой, висел вниз головой Кнехт, скрестив на груди руки и победно улыбаясь.
- А мне же работать надо, мне же табеля заполнять! Ну, вот как его теперь обратно оттуда отсасывать, дыру, что ли, в потолке выпиливать вместе с ним. А если ты саданёшься оттуда, обдристок, на мою голову. Ему-то хоть бы что, а пол - точно прошибёт. Ну, что тебе полов мало, ну скажи, мало тебе полов, мало?
- Помолчите, пожалуйста, женщина. Этого вам не понять, именно в силу половой ограниченности, - остановил, наконец, эту дуру базластую Профессор. Тут Комендантша ограниченная совсем с глузда съехала – рот поразевала беззвучно и утопала куда-то, не иначе как, Доктору ябедничать. Ну и что, пусть себе стучит. Доктор тоже мужик, он поймёт, что надо стремиться к совершенству, всё выше и выше. Да и потом, ну где вы такое видали, чтобы босой человек на потолке вниз головой очень прочно стоял. Док, может статься вполне, на этот предмет какую-нибудь диссертацию накропает. Да мы, собственно, тут все не хрены собачьи.
Я не выдержал, подошёл к Кнехту и посмотрел прямо в его весёлые глаза. ( А, надо заметить, что смотреть в глаза перевёрнутому человеку очень страшно ).
- Кнехт, ну скажи ты нам, ну как ты это сделал, да ещё один, без ассистентов, ведь мы столько раз пытались…
- Подожди, Малиновый Король, - отстранил меня Профессор, - не отвлекай его, а то сверзится, в самом деле. Он же в таких ситуациях не разговаривает, ты же знаешь. Надо под него подстелить что-нибудь на всякий случай. Тубус, притащи матрац из каптёрки, скажи - очень надо. Ну что, что, ну скажи, - Капитан во сне от смеха обмочился, ну да, или от страха. Скажи – обратно принесём, когда тот высушим.
Тубус, кстати, это оттого, что он виртуозно может заворачиваться хоть во что – хоть в газеты старые, хоть в половик, хоть в шторку, да хоть в политическую карту мира. В аккуратный такой рулончик. Для маскировки лучше не придумаешь.
Тубус тщательно запахнулся в серое кимоно и ушёл.
- Профессор, надо же его, всё таки, как-то отцеплять оттуда, - высказал здравую мысль Шизлонг, - а то понабегут сейчас, начнут опять героического мужчину мучить – клистиры всякие ставить, маслом обливать веретённым. Да и нам перепадёт – Комендантшу-то напугали, а она при исполнении.
- Да, да, конечно надо, сейчас сообразим, - произнёс Профессор задумчиво, - но как же это он сделал? Ага, а вот это интересно. - Профессор подобрал с пола ножной насос для надувания резиновых лодок. Им у нас, когда давление измеряют, манжет накачивают – грушей-то ручной долго, ну и вот…
- Ну, всё ясно, - объявил довольный Профессор, - смотрите, до чего додумался. На стол поставил стопку книг, а сверху пустую кислородную подушку, вот она валяется. А подушку подсоединил к насосу. Затем встал головой на подушку, ногами упёрся в потолок и стал качать, чем, правда, пока не знаю. И вот, когда давление от подушки сравнялось с его двойным весом, он, как он там это делает…и вот, пожалуйста…ну голова, даром что железная. Так было дело, изобретатель? Кнехт моргнул два раза одним глазом.
- Ну, надо полагать, это «да».
В коридоре послышались приближающиеся шум, топот и чьи-то вопли. В дверях показался вертикально стоящий цилиндр матраца с ногами. По верхнему основанию цилиндра и по боковой поверхности шваброй молотила Нефиртите и верещала. Мы, естественно, сколько нас было, все повернулись на её голос, как стрелки компаса, если не сказать большего.
- Фто разрешил матрац фзять? Фто разрешил? Ах ты, футляр с ушами! Кто к потолку…как это к потолку…из потолка разве рафтут такие Кнефты? Не фирди…не фирди…не фирди…- методично охаживала своим орудием упакованного Тубуса царица наших грёз.
Позади раздался страшный грохот. Мы все, как есть, опять обернулись – в развалинах Комендантшиного стола валялся Кнехт.
- Сам отсох, - сказал кто-то тихо, - я же говорил, надо Неффи позвать. А теперь стол сломали…и матрасик не успели подложить…
- Ну, какие, Доктор, к свиньям, навязчивые идеи! Ну, Дар у человека. Вот, вы же не можете к фонарному столбу босыми ступнями прилепиться - конечно, не можете, а вот, скажем, в эти ваши рецепты закататься правильным рулончиком, так что загляденье одно…ну вот…как это зачем? А вообще, всё зачем? А навязчивая идея это вот как. Да вот, я вам сейчас расскажу.
Пришёл, как-то, наш Шизлонг довольно поздно. Выпивал, видать, где-то с креолками да лягушками своими вялеными закусывал. Ну, пришёл себе и пришёл – спать лёг. А на утро проснулся, задумчивый весь такой, растерянный, и рассказывает нам какую-то несуразицу. Я, - говорит, - вчера где-то на дереве видел бледно-фиолетовые члены. Мы ещё, дураки, давай над ним надсмехаться – да на какой высоте, мол, да какого размера. А он так реалистично всё описывает, так вот и так, на высоте около четырёх метров, размером примерно сантиметров 15 – 20, а цветом бледно-фиолетовые. Мы, конечно, давай его с серьёзным видом спрашивать, время от времени – не видит ли он чего необычного вон в том пейзаже за окном, а на потолке, а на репродукции с картины Васнецова « Три богатыря», что у нас на стене висит, в частности - на лбу у Алёши Поповича? Ну и так далее, сами знаете, как это бывает.
Однако, стали мы замечать, сохнет наш длинный бедолага, места себе не находит. Бродит всё с задранной башкой и деревья по всей округе изучает.
Аппетит у него пропал, про туземок ничего слышать не хочет. Ну, помните, вы ещё ему тогда настойку красных стручков от перца на спирту прописали. Ну, казалось бы, точно – навязчивая идея, я бы сказал, видение.
- Ну, видел я, - орёт, - точно видел, а вы все - идиоты.
И вот, как-то на днях, тащим мы с ним из столовки бак с макаронами варёными, ну, такой здоровый, с двумя ручками. Ему ещё пришлось в полуприсяде идти – я-то небольшого роста, так чтобы макароны не вывалить.
Вдруг он как заорёт, как засмеётся, как запрыгает! Ручку каструльную бросил, еле я успел кастрюлю эту подхватить. Ну, всё, - думаю, - тронулся наш Шизлонг чрезвычайно, со своими навязчивыми членами.
- Вот они! Ну, вот же они! Я же говорил, ну идиоты вялоглядящие! Вот же они! Ну, что теперь скажете? Да чтоб у вас у самих, как у Алёши Поповича что-нибудь выросло…да я с вами, полудурками, чуть с ума не сошёл!
Подошёл я к дереву, вокруг которого он скакал, смотрю, а там грибы растут, ну эти, знаете, что на старых подгнивших стволах прорастают. И ведь, всё как он рассказывал…и высота та же и размер. И, знаете, Доктор, с определённого ракурса очень даже…я бы сказал, весьма,напоминает. Да ещё если при лунном освещении, то и, вообще, не отличишь. Да вот, если хотите, пойдёмте, я вам покажу, сами увидите. Ну, как хотите. К чему я это всё излагаю? Ну как же. Да вот, вы представьте, ну послали бы в тот день за макаронами кого другого. Ну не нашёл бы Длинный никогда этих грибов, и что бы было – так бы и прозябал он с этим навязчивым видением в депрессиях и бессонницах, а вы бы его лечили, невесть от чего. А сейчас - вон какой парень жизнерадостный – его из бамбуковой чащи за уши не вытащишь. Это я к тому, уважаемый Доктор, что у каждой навязчивой мысли есть реальная подоснова. А у вас это у самого навязчивая идея, будто у нас у всех навязчивые мысли. Это я, опять же, к тому всё клоню, что пусть Комендантша сама свой стол ремонтирует, потому что у неё тоже совсем не реалистичная навязчивая идея.
Изрядно напарившись, почти уже до блаженства, и охолонувшись в тритоновом бассейне, я завернулся в простыню, уютно устроился в своей ячейке раздевалки и наслаждаюсь покоем. Невольно я наблюдаю за соседями. Прямо напротив меня расположился давешний Гнус из парилки. Он подстелил на сиденье около себя газетку и достаёт из своих потасканных пакетов всяческую снедь – нарезанные, и даже, надкусанные, подсохшие кусочки селёдки, разломанные пивбаровские солёные сушки, половинку плавленого сырка в золотинке и ещё какие-то свёрточки и кулёчки. Пиво у него разливное, всего-то в поллитровой водочной бутылке. Впрочем, кто его знает, что там у него ещё есть в его бездонных кутулях – мужик-то, похоже, запасливый. Обстоятельно расположившись, Гнус отхлёбывает из бутылки, принимает позу избалованного сибарита и горделиво оглядывается. Я стараюсь не встречаться с ним взглядом. Как ни странно, но вид « стола» гурмана вызывает у меня желание тоже чего-нибудь выпить и хорошо закусить. В сумке у меня есть бутерброд с маслом и сыром и банан – это Профессор снабдил меня перед дорогой. Да ещё ёмкость грамм на 450 настойки пиона. Но её надо как-то разбавить, не хлебать же голимый спирт. А вот, как? И не привлекая внимания, чего я совершенно не выношу.
Поразмыслив, я весьма удачно всё устроил – приобрёл у банщика баночку Кока-колы и пластиковый стаканчик чёрного цвета. Хорошо, что денег у нас очень даже много, благодаря, опять же, Профессорскому изобретению. Вот сейчас на дне сумки у меня лежат 10 пачек купюр по 50 рублей, аккуратно завёрнутые Тубусом в бумагу. Это будет 50х100 ( в пачке 100 бумажек ) – 5000. Да 5000х10 будет 50 тысяч. Да ещё остатки от распечатанной пачки в кармане джинсовой куртки. Я неприхотлив, привык к спартанской жизни в лагере, и мне должно надолго хватить. Если, конечно, не потеряю, есть у меня такая слабость. Надо, кстати, за сумкой повнимательнее следить, стараться не выпускать её из виду. Зря я, наверное, купил такую дорогую спортивную сумку. Но, признаться, я немного растерялся в магазине: за время моих скитаний многое изменилось. Появились какие-то товары, назначения которых я не понимал, да даже и названий не слышал. И в нынешних ценах я не ориентировался. Денег пока хватало, и следил я лишь за тем, чтобы не расплачиваться одними пятидесятками – не давать больше одной купюры, как настоятельно советовал Профессор. Дело в том, что деньги у нас, хоть и настоящие, но с одинаковыми номерами. Так уж сработало Профессорское изобретение. А это, естественно, было чревато опасностью. Приходилось предварительно разменивать купюры, покупая всякую мелочь – сигареты, зажигалку, мороженки, шоколадки и прочее. Таким образом, платил я всегда одной бумажкой в 50 рублей и кучей десяток. В результате же этих предварительных разменов, а я старался всегда иметь на непредвиденный случай запас десяток, у меня накопились полные карманы мелочи, что меня, весьма, обременяло. Пока, наконец, я не освободился от неё оригинальным способом – просто высыпал в подземном переходе её всю в раскрытый футляр от гитары худенькому пареньку, зачем-то с косичкой сзади и с серьгой в ухе ( голубой ,что-ли?)). Мне очень понравилось его исполнение незнакомых песен, да и его независимость, наверное, тоже. Я бы онемел от природной застенчивости на его месте.
Футляр заполнился едва не наполовину, и пока я поочерёдно освобождал пузырями отвисшие многочисленные карманы на « молниях», музыкант всё-таки онемел – пустил какого-то сиплого « петуха» и выкатил на меня свои грустные до этого глаза.
- Унесёшь? – глуповато спросил я, чувствуя, что краснею, по своей манере. Паренёк пошевелил губами, силясь что-то произнести, молча кивнул, и я поспешил скрыться в толпе. Это было не трудно, ведь я стал чуть не вдвое легче, да и разношерстного люда, проносившегося мимо, было непривычно для меня многовато. В любом случае, если я и проявил себя чудаковато, то был в этом не одинок, так мне казалось.
Мне надо было срочно сменить одежду, всё с той же целью – не привлекать излишнего внимания. Это грозило неприятностями, ведь у меня даже документов никаких не было. А одет я был, весьма, экзотично для большого города: дешёвые тренировочные штаны с вытянутыми коленками, старые кеды на босу ногу и линялая солдатская рубашка. Мы и это с трудом где-то наворовали, взамен нашего серого кимоно. Вот бы я в нём сейчас хорош был. Да и кирпичный загар, приобретённый в пампасах, выгоревшие отросшие волосы, скорее выдавали в моём облике бездомного бродягу, чем законопослушного городского налогоплательщика. В руке я нёс пластиковый пакет с деньгами, настойкой пиона, бутербродом и бананом, тоже странная ноша для бомжа. На всякий случай, я себе заготовил легенду – мол, студент – старшекурсник, еду из стройотряда, денег, вот, заработал немного. А почему староват для студента, так 10 лет поступал, да 2 раза на второй год оставляли.
Вот, я и зашёл в первый попавшийся приличный универмаг, предварительно наменяв денег. Охранник у дверей покосился на меня с подозрением, но пропустил. Это я предусмотрительно засунул в нагрудный карман рубашки пачку денег, так чтобы она демонстративно торчала, и покровительственно улыбнулся церберу в чёрной форме.
Первым делом, я нашёл джинсовый отдел, уж очень меня тяготили эти фасонистые, на кальсонный манер, штаны. Здешние нынешние джинсы меня разочаровали – все какого-то, чуть не в полоску, противного серого цвета, с пятнами, имитирующими былые благородные потёртости. А то и, вовсе, специально прорванные или с нашитыми, местами, цветными тряпочками. Нет, такое я на себя, конечно, не надену, даже для маскировки.
Мода, что ли, сейчас такая. Но, ведь, если учесть, что мода, телевидение, пресса и прочие поп – шоу являются своего рода индикатором состояния общества, то прав был Профессор, не туда мы идем, не в том направлении.
Да ещё девчушка – продавец пристала, как банный лист – чем, мол, вам помочь, да то да сё. А когда я начал было объяснять ей, что мне нужны классические добротные джинсы и без всяких этих выкрутасов, она снисходительно протянула, - Ну что вы, такие давно уже не выпускают. И начала объяснять мне что сейчас носят, всё какими-то дебильными терминами. Наконец, насладившись своим превосходством и покосившись на мой карман с деньгами, принесла- таки из закромов почти нормальные светло – синие джинсы, да ещё точно моего размера. Я удовлетворённо кивнул и спросил, да нет ли у неё подобной курточки. И она принесла, вроде как парную к джинсам, со множеством кармашков на « молниях», куртку. На ярлыке стоял штамп « Уценка». Тут же, в кабинке я и переоделся, сложив свои обноски в их фирменный пакет, и оглядел себя в зеркало…
…ну что же…очень даже ничего…обувь…сейчас обувь…да бельишко…да прочие мелочи…и в баню…и постричься…однако измучила меня эта дура…
…Я поблагодарил продавщицу, она заученно улыбнулась и ответила, - Заходите ещё, - но в глазах у неё читалась усмешка. А когда я покидал отдел через странноватый турникет, заверещала вдруг жуткая сигнализация, и ко мне бросились охранники. Девица–продавщица радостно захохотала, махнула охране рукой и отцепила от моей куртки какую-то металлическую нашлёпочку специальными щипцами. Ещё в шоке, я спросил, не отцепит ли она заодно от меня и лишние « молнии». Девица перестала смеяться и отошла. Это она так пошутила над переферийным богатеньким придурком, сообразил я, успокоившись. Ох, неосторожно она себя ведёт, а напрасно.
С остальными покупками я справился уже уверенней, видимо, сказывался адреналин, полученный в результате шутки весёлой продавщицы, и опыт, приобретённый от общения с ней. Я нарочито развязно говорил девчушкам – манекенам , что мне нужно, просил заменить, если что-то не подходило. Без смущения расплачивался кучей десяток, выслушивал их механические фразы, благодарил и шёл дальше. Побаивался я одного – смотреть им в глаза, у меня же лёгкая гленофобия ( боязнь взгляда куклы ), как объяснил мне наш Д октор.
Купил я удобные, летние в дырочку туфли, вот эту спортивную сумку чёрного цвета, две футболки – чёрную и белую, двое трусов и две пары носков. Да ещё удивительную трёхполосную бритву, пену для бритья и лосьон, всё « жилетовское», мыло, мочалку и тапочки. Истратил я, судя по количеству оставшихся купюр, что-то около 10 тысяч.
Проходя мимо стенда с выставленными солнцезащитными очками, я подумал, что мне надо обязательно купить тёмные очки, чтобы люди не замечали, что я не смотрю им в глаза.
Всего несколько раз, за всю мою жизнь, довелось мне увидеть осмысленные, внутренне напряжённые глаза, и все эти случаи я хорошо помню.
Да ещё я внезапно осознал, что почти каждый второй пешеход был в тёмных очках, но, отчего-то, на лбу. Чтож, стало быть и я, как кретин, с очками на башке, буду незаметней в толпе.
Кеды свои я положил к другим старым вещам, и при выходе выбросил в урну весь пакет. Охранник проводил меня удивлённым взглядом. А чего удивляться-то, ничего удивительного во мне нет – так уж всё сложилось.
Изловчившись, я разбавил своё лекарство газировкой внутри сумки, прямо в пластиковом стаканчике. Впрочем, никто за мной особенно и не наблюдал – все расслабленно рекреируются после парилки. Смесь ужасно зашипела и вспенилась, я еле успел выхватить стаканчик из сумки, чтобы не облить свои покупки. «Гюрза», - тут же решил я, - этот коктейль будет называться « Гюрза». Как раз, где-то, подступал Час Кальвадоса, и мне ещё не хватало в своём одиночном маршруте впадать в закатнюю меланхолию. Я сделал несколько торопливых глотков и достал бутерброд. « Гюрза» оказалась, весьма, приятной на вкус – аромат пиона утончённо обострился, а привкус спирта наоборот притупился. Повинуясь тропическим ассоциациям, я спрятал обратно бутерброд и достал банан, вот теперь- то что надо, ещё бы нашу туземную сигару.
В ячейке рядом с Гнусманом отдыхает тоже колоритный персонаж. Плотного телосложения, слегка лысеющий, он дремлет, склонив голову набок. На теле у него несколько татуировок – на колене надпись – « Солнечный капитан», на груди из-за гор встаёт солнце, а между лучами светила синие буквы складываются в слово « Урал». Ну, и ещё кое-какие мелочи. В руке он держит полуобглоданный хвостик вяленой рыбы, конечно же, он тоже пьёт пиво.
Очистив наполовину банан, я ещё отхлёбываю своей змеиной смеси, вскоре надо будет ещё разбавлять – очень удачно получилось. В этом же ряду, но чуть от меня вправо, наискосок, сидит, нога на ногу, гражданин с большим животом. Он весь голый, слегка посиневший, на нём только носки, поверх них он ещё умудрился как-то нацепить «вьетнамки», да ещё плюсовые очки в тяжёлой роговой оправе. Посиневший гражданин читает толстый журнал, время от времени запускает руку в добротный, но потёртый портфель с монограммой, отламывает там куски варёной колбасы и ест. Только при мне он поглотил не меньше батона. Ни в парилке, ни в мыльном отделении я его не видел, да судя по носкам и фиолетовому оттенку кожи, он туда и не заходил. - Не иначе, как от жены скрывается, - отчего-то решаю я. - Ну а что, довольно уютно устроился, не диван, конечно, зато в ухо никто не зудит.
Капитану с Урала, похоже, приснилась какая-то дрянь – он сильно вздрагивает, привлекая моё внимание, и роняет рыбий хвост. Очутившись в свободном полёте, этот обглоданный фрагмент немедленно превращается в целую, и даже живую ещё, довольно крупную рыбину. Но, блеснув серебряной чешуёй и трепыхнувшись в воздухе, чудо-рыба шлёпается на ногу Капитану, опять всего лишь высохшим хвостиком. Я, конечно, и не такое видывал, но, поражённый, не могу отвести от Капитана уважительного взгляда. Сам же, Солнечный Капитан просыпается, испуганно смотрит на свою ногу, затем на меня и начинает краснеть, будто застали его за чем–то постыдным. Я тоже чувствую себя страшно неловко от того, что стал невольным свидетелем действа столь интимного характера. От смущения я залпом допиваю свой экзотический напиток и склоняюсь над сумкой, смешивая себе очередную порцию. Но краем глаза, даже, по-моему, одними белками, я вижу, что Солнечный Капитан подбирает рыбий хвостик и начинает торопливо одеваться. А когда я распрямляюсь со стаканом в руке, я с удивлением вижу, что на его голубом нижнем белье в точности повторяются все его наколки в виде вышивки красной ниткой « мулине». – Ну, какой, всё же, неординарный человек, наверняка, Одарённый, и уж точно - не болельщик и не охотник.
Большой витраж в раздевалке, чудом сохранившийся со времён « модерна», вскользь освещается закатним солнцем. Это довольно красиво – вспыхнувший брызгами цвет приглушает освещённость в помещении, и все разомлевшие посетители зачарованы пылающей пасторалью. А меня, не смотря на принятое лекарство, всё-таки охватывает лихоманка вечерняя…
…рассвет ли…закат ли…сирени букет…кольчатые черви…ехидные сантехники…дыра в полу…соседи с портвейном…развяжите меня суки…пчела в бокале…афродита…нефертите…доктор…комендантша…профессор в танке…одиночный маршрут…гюрза…барханы…сугробы… фотоаппарат параноид…матрицу твою хрясь…паук тарантул…пипка…пупырышка…жабья лапка…девушка ощупь…студень из скелета…фиделя прищемило…помочился с трибуны…фаллический символ…к потолку присосался…бледные члены…на дереве выросли…джинсы купил…тубус в матрасе…гленофобия…рыба летающая…капитан солнечный…пора идти…пойду…
А пиво я на воскресенье взял. К рыбе. Рыба-то у меня, уже, потому что неделю лежала. Это один мой знакомый геолог прислал. Он, отчего-то, вдруг пиво перестал пить и рыбу потреблять - я думаю, чтобы одно за собой другое не тянуло. И вот, он теперь своим знакомым такие посылки шлет. А как толково собрано-то, ты посмотри, Таркус, тут тебе и копченая, и вяленая, и соленая, и сушеная, а самое обидное, что здесь еще алюминиевая фляжка со спиртом была. Так что этот первопроходец отмочил – взял и под крышечку проложил какую-то марлю, видимо, по его понятиям, для герметичности - и завертел. Ну, спирт, через эту, блин, марлю, естественно, весь и просочился. Лучше бы он эту фляжку вообще не вкладывал, чтоб я не расстраивался, лучше бы и, вообще, посылку не присылал. Уж если ты в героических экспедициях покоряешь всякие там просторы и открываешь месторождения очень полезных ископаемых, то в капиллярных эффектах надо соображать.
Вот, до чего женитьба человека доводит! По-моему, женатый мужчина, вообще, не мужчина, потому что он крепко сидит на социальном крючке и подобен кобелю на цепи – лает, а не кусает. А ведь, какой парень был! Он однажды вышел из вертолета на какие-то там Ляховские острова, в страшный мороз, без штанов, в местами прожженных кальсонах! Он перед этим где-то в костре уснул. Естественно, местные полярники сразу его за это зауважали и за своего приняли. То-то, я смотрю – посылочная тетка ящик выдает, а сама принюхивается, и злорадно так улыбается своими сургучными губами. Сразу виден опыт – в капиллярах лучше соображает.
А то вот тоже с ним было, в студенчестве еще. Выпускают его, это, утром из вытрезвителя, а он одевается и ментам так серьезно говорит, что, мол, ладно вы меня трезвого вчера забрали, ладно всю морду о свой дурацкий вытрезвитель ободрали, ну на хрена вы мне новое пальто заблевали. Менты шутки не поняли, обиделись, пинка дали и в институт сообщили.
Да и с вытрезвителем-то этим, тоже казус тогда вышел. Его туда из поезда забрали, в каком-то маленьком городке.
А ты, Таркус, вдумайся, какая странная вещь, эти наши поезда. Огромные железные ящики на колесах, с разной степенью комфортности, набитые совершенно незнакомыми между собой людьми. И вот, ты вынужден являть себя ни в чем неповинным людям…
- Обращаю твое внимание, Солнечный, что речь твоя нынче подобна протуберанцам – хлыщет в разные стороны, но все-таки доскажи, что там с Геологом, а то пиво у нас кончается, а рыба у тебя неиссякаема, так что чувствую, что предстоит нам скорая дорога.
- А ну да. Так вот, думал, то он, что доехал, и отдыхает уже в Питере, на своем родном трезвячке, на Синопской набережной. А там у него сержант знакомый был, можно сказать, приятель, Геолог бывало, когда проспится, ночами ему байки всякие травит, или в шахматы играют до развода, а тот ему в знак уважения, и как постоянному клиенту, с утра бутылочку пива выдает, из конфиската, конечно. Ну, или отпустит пораньше, если надо. Один раз так заболтались, что после ночной смены оба в камере заперлись и пьянствовали трофейные напитки весь день, мародеры. Затем один опять в палату спать, а второй – клиентов обслуживать. Кончилось тем, что совсем запутались, кто тут кем работает, и уже начальник их обоих в камере запер и следил, чтобы им пиво не передавали.
Извини, опять занесло. Ну так вот, просыпается это он утром, оглядывается, а вокруг все родное, все знакомое, здания-то типовые. Да еще сержант входит точно такой же – здоровый такой, морда красная, с усами, на жопе шлица не сходится, и, главное, у него ключи тоже на цепочке. Ну, Геолог обрадовался и говорит: «Здорово, Серега, пиво гони». А того еще и звать тоже Серега. Ну, сержант, понятно, опешил сначала. Мы, мол, разве знакомы, да знаешь ли ты, где находишься, и все такое. А Геолог ему прямо: «Ты пургу-то не гони, не до смеха сейчас, а тащи скорее пива, или чего там у тебя!». И ведь принес, пока все выясняли. А у этого почвоведа, блин, с собой еще рюкзак образцов всяких там пород был. Ну, менты поначалу его вообще за опасного идиота приняли – пьяный, с мешком камней, всех по именам знает, с утра пива требует, и уверяет, что он в каком-то Синагогском вытрезвителе. А во всем городке не то что синагоги, а вроде и ни одного еврея нет, разве что сам начальник вытрезвителя, да и тот как будто хохол, как все нормальные милиционеры.
Может, все бы и обошлось, да тут он с этим пальто предъяву выставил.
Да и с поездом-то с этим, с которого его сняли, тоже ведь казус вышел. Ехал-то он с практики, вот же еще камни-то вез. Ну и заехал по пути к родителям. Навестить – пальто новое купил, уж сколько лет собирался, все никак не получалось. И вот, сидит дома, мамины беляши ест, чистенький, побритый, прилично одетый – ехать на учебу собирается, полчаса до выхода. Вдруг звонок – школьный товарищ пришел его проводить с двумя бутылками водки. Вторую допивали уже в тамбуре вагона, проводницы его сразу сажать не хотели – сглазили видать. Ну, заходит он в купе, а там, у окошка персонаж в очках и тапочках сидит, и уже курицу жрет, хотя поезд только тронулся. Геолог-то сразу понял, что не к добру это. Сидит, грустит, колеса постукивают, фонари мелькают. Тут в купе вваливается еще один запыхавшийся. Пассажир, блин. Видно его тоже кто-то провожал. И оказался этот попутчик, на их общую беду (беда-то, как известно одна не ездит) опять же другом беспутного детства нашего бедолаги. Ветер странствий их всех обуял. Пассат, блин. Ну и все…
Обнаружил себя Геолог потом, уже когда транспортную милицию в этом самом городишке вызвали. Все купе мамиными беляшами и камнями закидано, по полу в зловонной жиже бутылки катаются, пассажир в очках с ногами в уголок нижней полки забился, а в дверях купе сержанты стоят, ключи на цепочке вертят. Дружка на тот момент как раз в служебном тамбуре подташнивало – укачало с непривычки. У которого лычек побольше, оглядел купе, поморщился и говорит, – клоака, мол. А Геолог услышал и вступил в дебаты, на предмет, чтобы их не ссаживали, а пустили следовать до пункта назначения, какой в проездном документе указан. Если, дескать, наше купе, по вашему мнению, является клоакой, а Вы в нем перст указующий, тогда для чего пипифакс-то, а?
Сержант задумался, обнюхал палец, на котором ключи вертел, посмотрел на очкарика, и опять выдает в том смысле, что гражданин Пипифакс сейчас сам даст показания, а что касаемо меня, мол, то я, на данный момент в вашей клоаке перст вовсе не указующий, а скорее карающий, в чем вы сейчас и убедитесь, и что это здесь камни разбросаны, - не пора ли собирать. Ну и все в том же духе.
Таким образом, первый этап мирных переговоров высоких сторон был сорван, несмотря на полное взаимопонимание, но имел положительный резонанс в широких слоях мирных пассажиров, обретших, наконец, свободу и независимость. Администрация, в лице начальника поезда и проводниц, выразила глубокое удовлетворение действиями местных силовых структур. Дальнейшие переговоры были перенесены в региональное отделение спецмедслужбы, и после продолжительного отдыха почетного гостя, были продолжены.
Так вот это он мне рыбу прислал, вымоченную в спирте – вкус ничего такой, интересный получился. Но лучше бы все отдельно. Целую неделю лежала. А пиво я на воскресенье взял. А чего? – думаю, - после бани-то. В бане, кстати, тоже, как-то интересно получилось. Держу я в руке кусочек рыбы, а сам задремал, после парилки-то, да с пивом, и выронил этот кусочек. А он пока летел, превратился в целую рыбу, огромную такую, да еще живую. А потом – шлеп! – мне на большой палец правой ноги, нет, левой, нет, вроде правой. Я проснулся, смотрю, а он снова просто кусочек. Видишь, Таркуша, чего только в жизни не бывает. Ну я, понятно, удивился и рассказал все это своей любимой. Рассказал, и тут же вспомнил, что никакой любимой у меня вовсе и нет.
- Вот и хорошо, - подумал Таркус, - хорошо что рассказал, и хорошо что вспомнил, а то увлекся бы, да еще расчувствовался бы, да мало ли что. Да и вообще, хорошо, что у него никакой любимой нет, да и откуда ей в мужской бане взяться? – А когда я рассказал ему о каком-то своем неудавшемся романе, он пожевал пожевал рыбку, косточки изо рта вынул, руки вытер о набросок с обнаженки, пива хлебнул, и говорит, - А ты купи жевачки. Это зачем? – спрашиваю, йога что-ли такая – перевод сексуальной энергии в жевательную?
- Любишь ты все Таркус, усложнять – просто, оттягивает.
Ну, у себя потом сижу, пиво пью, музыку слушаю – сначала Бенсона, а потом ELO. Я всегда ELO ставлю, когда солнце мне в окно попадает, потому что у меня на подоконнике осколок чего-то лежит – янтарный такой – я его «Волшебный кристалл» называю. И как солнце на него попадает, так он светится, и все по-разному. А я стараюсь музыку под него подобрать. Игра такая. Причем, я то знаю, что прикасаться к нему нельзя, а пыль какая попадет, то сдувать надо. Боюсь даже представить, кто мне его подкинул. А тут Менгист заходит – соседки ему дверь открыли, мы с ним в армии вместе служили. И сразу, без всяких слов, хвать мой кристалл своими грязными лапами, они у него вечно в краске. Я даже ничего не сказал, расстроился, лег на кровать и лежу, с Менгистом не разговариваю. А он про всякую дрянь рассказывает – картины какие-то, выставки, девушки. Потом видит, что я ему пива с рыбой не предлагаю, пришипился и ушел, гад, не попрощавшись. А я на волшебный мой осколок и посмотреть боюсь – не погас ли. Ну, думаю, надо пойти водки взять, с рыбой оно тоже ничего так будет. Пришел – что поставить, что послушать – не понять. Радио включил, а там эти подонки свою гнусь исполняют. Я тогда магнитофон на другую скорость переставил и сижу просто звуки слушаю, новую гармонию ищу. Вот так вот, Тараканыч, надо оберегать свой внутренний мир от грязных лап.
И тут мне под руку попадается половинка от детского бинокля, - на участке у себя нашел. И стал я свою комнату через эту оптику рассматривать, в связи с озвучкой на другой скорости. Смотрю – все по-другому как-то, картины интереснее стали, потолок загадочность приобрел, бутылки в углу вообще зашевелились. Блин, думаю – преломляет! Ну, все, думаю – буду на окружающее смотреть только через этот прибор. А он всего-то ничего – весь из пластмассы, увеличивает, ну, может быть раза в два, и, может, даже в игрушечных магазинах продается, хотя вряд ли. Надо только обломки напильником обшкрябать и совсем нормально будет. На дверь стал смотреть, а она медленно открывается, и входит маленький инопланетянин с большими ушами, а за руку ведет Шерон Стоун. Я-то сразу узнал – я как раз недавно фильм один смотрел, ее там голую показывали. Ни хрена себе, думаю, преломления. А вот я ее сейчас прищучу! – Заходите, говорю, присаживайтесь, вот у меня как раз рыба, а вот пиво, а вот водка, мартини, извините, нет, особенно сухого, только перед вами закончился. А Шерон замерла в дверном проеме, и как-то очень странно на меня смотрит – то-ли опасается чего, то-ли сказать что хочет. А я боюсь трубу от глаз убрать – уберу, думаю, а в общественной действительности это какая-нибудь мымра, наверняка окажется. Так и оказалось – техник из нашего ЖЭКа с сыном в гости пришла. А за космический шлем, я его дурацкую шапочку принял. Она, вообще-то, уверяет, что это и мой сын, но я сомневаюсь, хотя в их-то действительности все может быть. Так вот, Таркус, я до сих пор очень сожалею, что тогда трубу от глаза отвел, преломлением пренебрег. А так, глядишь, и обладал бы я на данный момент Шерон Стоун.
Перед Таркусом предстала застывшая картинка, как моментальный снимок из «Полароида» - Солнечный Капитан верхом на толстой, кривоногой работнице ЖЭУ. Капитан весь голый, только на одном плече, невесть как, держится, шитый золотом эполет, с буквой «К», - видимо, «Капитан» или «Курсант», или хрен его знает, что это у него означает, может и вовсе – «Космонавт», с него станется. Правой рукой он держит у глаза ярко – красную половинку от детского бинокля, через него он в упор вперился в лицо «Шерон», второй глаз сладострастно прищурен. Левой же рукой ему пришлось опереться о пол (все действие происходит на полу). У его случайной жертвы «преломления» юбка задрана до носа, колготки сдернуты только с одной ноги, а на другой вывернуты до колена, и живописно стелются по полу. Руки, как и ноги, безвольно раскинуты. В глазах, вытаращенных на трубу в руке Солнечного Капитана, полнейшее недоумение, даже шок. Чувствуется, что с того момента, как она переступила порог комнаты, она не успела произнести ни слова.
Надо ему какую-нибудь стационарную держалку придумать, чтобы руку освободить, неудобно же так-то, подумал Таркус. Да, вот же, можно кастрюлю подобрать по размеру его гениотской башки, просверлить дырку, и вставить туда трубу. И так и ходить. А еще лучше выпилить вторую дырку и вставить туда калейдоскоп. Капитан давно о нем мечтает. Совсем хорошо будет – глаз не надо щурить, и визуальной информации больше.
Только надо под рукой все время жевачку держать, а то мало ли кто к нему в комнату зайдет. Да и квартира служебная, по коридору люди ходят. И хоть наши дворничихи на Шерон Стоун несколько не тянут, в основном из-за стиля в одежде и общей ухоженности, но через трубу вполне. Вот он и станет еще на них нападать в общественных местах. Не все конечно, но некоторые могут обидеться. А вообще-то, неплохо бы и мне завести что-нибудь преломляющее или, наоборот, накрыть весь мир какой-нибудь оболочкой – пусть он преломится в лучшую сторону.
Так вот, это все вчера было, если, конечно, сегодня понедельник, потому что пиво я на воскресенье брал, в баню-то еще ходил – вон же трусы висят на подрамнике, постиранные. Так вот, блин, события и развивались. Так вот и не завладел я Шерон Стоун, потому что не так на действительность взглянул, не через ту призму. А удача, как известно, два раза не поворачивается этим местом. Теперь хоть год в засаде тут сиди, трубы с двери не спуская, не зайдет больше Шерон ко мне. А я ей даже ласковое имя придумал – «Камушек».
- Лучше «Кристаллик», - подсказал Таркус, - волшебный.
- Можно и «Кристаллик», - задумчиво согласился Солнечный Капитан и тут же встрепенулся, - Да что можно-то? Кого можно? Дуру эту висложопую теперь можно, да и то только через трубу. Кстати, трубу у меня увел этот двоечник, инопланетянин этот ушастый. Так что может он и вправду мой сын, раз у него тяга к таким вещам. Только почему это мой сын – инопланетянин? Может и я тоже.
- Послушай, Пришелец, у тебя тарелка есть?
- Тарелка? – загорелся капитан,- а зачем тебе?
- Да нет, нет, простая тарелка, не летающая, ну обычная, из которой едят, у тебя была, помнится, треснутая такая, с надписью «Общепит». Мы в нее кости будем бросать, и кишки. Рыбьи.
- Тарелка, тарелка… - забормотал Солнечный Капитан и зашаркал к двери, быстро суча ногами, чтобы успеть вдеть их в шлепанцы, пока сам не шлепнулся.
Оставшись в комнате один, Таркус стал с удивлением озираться, будто только что сюда и попал. Откинув голову, посмотрел вверх – поблазнилось, что по потолку, действительно, стали складываться узоры калейдоскопа.
- А может и вправду загадочный, да и откуда нам знать, какой должен быть нормальный потолок. Пора уже, наверно, пойти домой – позже тяжелее будет. Знать бы еще где он этот «дом». Хотя считается, что вся жизнь – это путь к «дому».
Вяло оглядел стол: пиво в 3-х литровой банке, хлеб, рыба, сигареты; в уголке заботливо задвинута бутылка, на дне грамм 50 водки. Кокетливо свешиваются чуть не до пола рыбьи кишки.
- Да-да, прав был один «трусливый» писатель, как его назвал другой, более смелый, - «эта погода не для пьяниц».
Осмотрел холсты, прислоненные к стене – красивые, непонятно как нанесенные яркие пятна, плыли как облака, превращаясь в мимолетные образы. Леонардо советовал искать сюжеты для картин на старых заплесневелых стенах. Это уж точно личностное восприятие – вряд ли кто увидит в этих пятнах то, что вижу в них сейчас я. Да и я сам через 5 минут увижу в них что-то совершенно иное – и я изменюсь и изменится данность.
И данность изменилась – из-за двери стал нарастать гомон женских голосов, затем она распахнулась, и вшаркался позлобевший Капитан, с черным, будто чугунным чайником в руке, прихваченным измазанной красками тряпкой.
- Блин, соседки, стервы, накинулись – то я, видите-ли, по «калидору» в одних трусах и наколках рассекаю, то им кто-то в стиральную машину наблевал, то мои гости в раковину на кухне мочатся. Это они гражданский пафос проявляют, воплощают, блин, радость бытия, в обыденном видят вечное, пытаются достучаться до сердец людских.
- А куда мочиться-то! – заорал Капитан на дверь, - если вы по два часа в туалете сидите.
А тут я, мол, им назло чайник с утра на огне оставил. Ну скажи, не дуры? Мне самому этот чайник дорог был, белый такой, симпатичный, эмалированный.
Да он меня как-то от белой горячки спас, если уж на то пошло. Ночью мне очень плохо было, да еще свет отключили. Кошмар, что я пережил. Нашел свечку и зажег, а за ней как раз этот чайник стоял, тогда еще белый. Ну, пламя-то колышется, и кажется, что чайник мне разные рожи корчит – то смешные, то страшные. Я, соответственно, то засмеюсь, то испугаюсь; то рассмеюсь громко, то испугаюсь сильно. Так всю ночь и провел в мощных ощущениях. Наверное , адреналиновый вспрыск меня и спас – к утру уснул, уставший, правда обмочился во сне. От смеха наверное.
- Или от страха,- подумал Таркус, - одним словом от невероятно сильных эмоций.
- Ну, сучки толстожопые, с активной жизненной позицией! Конечно, художника каждый норовит обидеть.
Солнечный капитан замолчал, приподнял чайник и удивленно уставился на него.
- Послушай, Солярий, не ходи туда больше, не связывайся с этим кублом, ну ее эту тарелку. А давай, знаешь как поступим, - будем в чайник рыбьи очистки и окурки бросать, потом все вместе и выбросим. Или поступим еще лучше – плотно закроем крышкой и распишем маслом, как памятник несостоявшейся белой горячке. А назовем его, ну, скажем, «Психоделика», а? И, представляешь, мы одни будем знать, что там внутри находится, а из носика будет доноситься легкий аромат чего-то волнующего, чего-то зовущего в неведомую даль настоящих мужчин. И снесем это на выставку – вон «Весенний салон» на носу. А у тебя есть готовые работы? Ну вот и у меня нет, а тут хоть одна совместная будет. И ведь купят.
- А за сколько заценим?
- Ну, такую дрянь задешево не купят, имидж нужен соответствующий, - давай, штука баксов.
- Три.
- Тогда пять, лучше будет, как-то посолиднее.
- Ну, давай начнем с десяти.
- Договорились, поделим поровну – тебе за исполнение и переживания, а мне за идею.
- А за белую горячку как же? Ты же знаешь, я блондинок вообще недолюбливаю.
- Так она же не состоялась!
- Во-первых, хрен ее знает, состоялась она или не состоялась, а во-вторых, одна такая ночь, знаешь ли…
- Ну ладно, сначала купим тебе новый чайник, еще лучше прежнего, со свистком, чтобы не забывал на огне, а остальное поделим. Идет?
- Идет!
- Ну давай, выпьем за то, что было собрались, но все-таки опомнились, и не выбросили такие большие деньги на помойку. Ты вот, свои куда потратишь?
В глазах у Солнечного Капитана появилась светлая грусть и рассеянность, тем не менее, он с большим бережением поставил на пол сожженный чайник, а обратным движением руки подхватил рыбью кишку, свисающую со стола. И, держа на откляченном мизинце, начал раскачивать как маятник.
- Блин, сантиметров пятьдесят семь будет.
Таркус быстро взглянул на часы – 15:57. Странно, должно же быть 15:51; уж если не 15:15. Шесть минут лишние, сумма первых двух цифр и есть 6, 51 да 6, вот и будет 57. Ну и глазомер у этого Капитана!
- Таркус, кстати, смотри, меня вчера на пивточке научили – видишь я эту кишку даже не накрутил на палец, она просто прилипла кончиком, видишь… а я ее верчу, как ключи на цепочке… видишь… видишь… тут одна такая тонкость есть… я вчера два часа тренировался.
Таркус в ужасе закрылся рукой, - Оставь, это надо на трезвую голову делать, если вообще надо это делать.
- Ну ты, Тараканыч, даешь, ну сам подумай, ну какой дурак будет на трезвую голову кишки на пальце вертеть? Это все равно, что секс на трезвую голову. – Я один раз попробовал, так ухохотался весь – такие смешные ширканья… И кто это только придумал… Наверняка, кто-то пьяный… Опять вроде что-то горит… сколько я ее уже верчу… надо было время засечь… вчера на пивточке одному вот так в глаз кишкой заехали… тренировались… правда он в очках был… но все равно как-то попали… там уже виртуозы были, которые с утра… блин, сорвалась, стерьва!
Многострадальные кишки распластались во всю длину в дымном воздухе, повихлялись в солнечном луче, и сладострастно причмокнулись к пыльному оконному стеклу – чмок!
Таркус перевел растерянный взгляд от пятна на стекле на свою руку с растопыренными пальцами и тыльной стороной ладони утер со лба пот.
Запыхавшийся Солнечный Капитан так и стоял в восторге, с оттопыренным мизинцем к окну, и в одном тапочке.
- Как красиво пошла-то, а? Как пошла! А как легла-то, ты посмотри, как легла! Только не трогай – пусть пока так и присохнет. Вот же – разность масс, разность фактур, баллистика, в результате – естественная структура. Я же говорю, некрасиво может только человек сделать, кистью на холсте. А тапок-то, где? Блин, говорю же, что-то горит!
Солнечный Капитан схватил со стола кружку с пивом, потянулся было залить тихо тлеющий в раскаленном чайнике сандалик, но передумал, сначала со страстным всхлипом отхлебнул половину, а затем уже остаток плеснул в чайник. Чайник тихо вздохнул и выпустил, почему-то из носика, струйку зловонного пара.
- Это они за вчерашнее на меня окрысились. Вчера же воскресенье было? Ну да, про рыбу я уже рассказывал.
- И даже показывал, - заметил Таркус, все еще с удивлением оглядывая руку.
- А я чего в трусах-то в коридор вышел. Телефон, блин, звонит и звонит, а никто не подходит. А у меня пивная медитация – тоже прерываться неохота. А он все звенит; ну пошел в сердцах в трусах. Что ты смеешься? Ну да, есть у меня трусы с сердцами – херцовые. Но вчера не в них был. Те вон они, на подрамнике висят. Подхожу к телефону, а он молчит, как коммунист на допросе, я его теперь Иогансоном зову. И тут я вспоминаю, что телефон уже неделю как отключили за неуплату. А кто звенел-то? Дай, думаю, заодно уж в туалет схожу. Смотрю, обложка торчит – мы теперь дверь в туалет на обложку от книги «Как закалялась сталь» запираем; я раньше на нее сковородку ставил. Если обложка торчит, значит занято, если рядом лежит – заходи пожалуйста, пользуйся на здоровье. Это потому что Жора – сантехник стал постоянно на унитазе вырубаться, и хрен его разбудишь. Я как-то под ним полчаса смывал – бесполезно. Потом ведро воды на него вылил, сдернул последний раз и убежал. А он потом на кухне рассказывал, что на него унитаз из берегов выходит, это, мол, у него профессиональное, сантехник–маринист, блин. В общем, пришлось защелку отвинтить, чтобы который раз не выламывать; и теперь, если видишь, обложка торчит, подходишь и в щелку говоришь: «Жора!», чтобы определить – он там или не он. Если никто не отзывается, то входишь и льешь на него воду, у нас там специальное ведерко стоит, и на стенке график дежурств по его наполнению. И еще нюанс: нельзя в щелку громко кричать, от того что соседки или не предупрежденные люди, бывает, пугаются, вскакивают и стукаются головой о железную ванну, - она как раз над унитазом висит. И тогда она с грохотом срывается с гвоздя, разбивает лампочку, человек пытается бежать, путается в собственных шароварах, проливает ведро с водой, подскальзывается, падает, а сверху на него ванна и из вентиляции возвращается эхо: «Жора!».
Я как раз вчера так Комендантшу напугал. Вышел-то я в трусах к телефону, - он молчит, а обложка торчит. А я как раз из-за Стоун переживал и жевал от этого жевачку, надувную, которая пузырями изо рта идет. И громко, видать, крикнул, раздраженный был. От этого и пузырь лопнул посреди слова, и получилось «Жопа!» Так что было! Меня в милицию вызывали – оскорбление должностного лица и преднамеренное напугание с легкими телестными, Она. Дура об ванну вся исстукалась, отбиваясь. Думала что на нее Железный дровосек напал с гнусными намерениями, да еще в извращенной форме. Чувствуется, что у нее в башке детские книжки и криминальная хроника. Представляю, как бы это все старина Фрейд оттрактовал: - Дровосек на нее, блин, напал. Железный. В туалете! Ну вот почему именно Дровосек? Это мог быть и Феликс, он, как известно, тоже Железный, было бы как–то патриотичнее. Или, скажем, рыцарь Айвенго в железных боевых доспехах, прямо после турнира явился, блин, объявить комендантшу дамой своего сердца – романтизм! А то сразу – «гнусные намерения!». А знаешь, почему «в извращенной форме?» Это, оказывается, она так мой вскрик истолковала. Да может это просто кровельщик с крыши свалился с листом оцинкованного железа в руках, без всяких намерений, просто так свалился, пьяный был. И так озвучил свое ближайшее будущее. А рыцарь мог что-нибудь по-французски залепить. Вот что Феликс имел в виду, так выражаясь при даме, я не знаю. Да тоже, может это пароль какой, для конспирации. Она потом это так объяснила – что у нее, мол, от сильного внезапного испуга возник шок, а от шока уже возникло именно такое впечатление. Импрессионистка, блин, туалетная, с нераскрывшимся либидо. В суд же хотели на меня подавать. Я им два часа эту нашу систему с обложкой втолковывал – а кому такое объяснить! Даже следственный эксперимент с Жорой проводили. Выписали ему денег из общественного фонда на бутылку водки, чтобы все по-честному было. Одних лампочек побили штук пять. Ну, все постепенно свелось к ключевому вопросу – при исполнении в этот момент была комендантша или не при исполнении. Пока вроде остановились, что – нет, что меня и спасло. А у Жоры от всего этого странный комплекс выработался. Он же не знал, что его водой каждый раз обливают, он, оказывается, думал, что у него естественные процессы так сопровождаются, и сейчас ему все кажется, что он за собой смыть забыл. Выйдет из туалета, походит – походит по кухне, встанет у окна, закурит нервно и загрустит вдруг. Потом срывается и несется снова в туалет – проверить. Проверит, выругается громко и все сначала.
Солнечный Капитан замолчал, остановившись у настенного зеркала, присунулся к нему и стал с бешенством выдирать у себя из ушей волосы.
- Ну гады, ну сволочи! И здесь подпакостили!
Таркус задумался, ничуть не удивляясь, а затем все-таки спросил. -
- Да кто это? О чем ты?
- Коммунисты, твари, кто же еще!
- А какая связь у твоих ушей с коммунистами?
- Ну как же… Ты помнишь, я все излагал свою теорию, что у всех коммунистов уши волосатые… А в жизни есть такой закон… Так вот что-нибудь ляпнешь, и сам тут же это и получишь…
Голосование:
Суммарный балл: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
Нет отзывов
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор