16+

Зарегистрировано – 123 565Зрителей: 66 630
Авторов: 56 935
On-line – 4 636Зрителей: 893
Авторов: 3743
Загружено работ – 2 126 036
Авторов: 56 935
On-line – 4 636Зрителей: 893
Авторов: 3743
Загружено работ – 2 126 036
Социальная сеть для творческих людей
Кенигсбергский проект
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |

Кенигсбергский проект
Юрий Дмитриев(Росс)
I.Ощущение пространства
1.
Слушаю телевизор, стоя на коленях, протирая пол в комнате, где на койке лежит мой больной отец. Где-то в Стокгольме, на другом краю света, в другом мире, в другой жизни вручают Нобелевские премии. Телевизор стоит в зале, и мне иногда плохо слышен голос ведущего новостей. По математике? По физике? Да. Почему именно в это время, в этот день, когда я сметаю пыль тряпкой, сижу, облокотившись на ножку стола, рассматривая замасленные кружева на тюлевой накидке, вручают Нобелевские премии? Ну, пусть даже в этот день, и даже в этих новостях, но, почему мать, забывшая всю свою жизнь, своего мужа, своего сына, саму себя, почему она пошла и включила телевизор, который никогда не смотрит? Да, это там, в Стокгольме, там, в другой жизни, которая у ног моего больного отца, - как случайный яркий луч света, - там могут быть чудеса, но не здесь. Никогда здесь. Там могут свершаться научные и духовные открытия, но не здесь. Никогда здесь.
Сегодня – второй день Рождественского поста. Всякий раз в этот день вспоминаю свои литературные изыскания, похожие на страдания юного Вертера. Так вот все что я выстрадал, выглядит, как руины - обломки чего-либо, в каких-то количествах, дымящиеся от пожара, или же залитые дождем, с липким пеплом, поросшие мхом и репейником. То о чем я говорю, мои руины имеют вполне определенные черты. Вот они погребенные под толстым слоем сырой земли, поросшей деревьями и кустарниками, с разбитыми между ними тропами, с брусчаткой в центре, и чугунными скамейками, с квадратными клумбами, где редко растут цветы. Их не видно, но они есть. Я знаю это совершенно точно, потому что видел их на фотографиях военных лет. Речь идет о повести, посвященной жизни в военном Кенигсберге. Но не только.
Дважды теплыми августовскими ночами 1944 года сотни самолетов английских ВВС нанесли удары по центру города, превратив его в груду обломков. Пламя пожара вспыхнуло повсеместно. Раскрашенное в ярко-оранжевый цвет, небо над городом было видно за сорок километров. Погибло четыре тысячи человек. Конечно, я не мог этого видеть, я родился гораздо позже, но то, что я вижу сейчас, выглядит не менее грустно: пустырь, окруженный со всех сторон рукавами реки.
Здесь я хожу каждый день в обеденное время к моим родителям, чтобы приготовить отцу и матери обед. Летом здесь тихо. В полудремоте бродят туристы, зевая, рассматривают высокий шпиль единственно уцелевшего еще тогда, в 1944 году, и позже не погребенного под слоями земли не понятно по какой причине, собора. Иногда я сравниваю себя с ним. Как этот питекантроп, я уцелел в страшной войне непознанного с неведомым. Осенью здесь уныло. Льют дожди и на брусчатке образовываются большие, но чистые лужи. Все кажется вполне закономерным: и длинный мост, и, ищущее в земле червяков, воронье, и пустые мусорные баки, и заколоченные будки сторожей, но только не камень непонятного происхождения. Установлен он почти в центре. На нем есть табличка, с очень странной надписью, что именно здесь в этом месте будет памятник миру.
Вы можете себе вообразить памятник миру? Я знаю человека, который притащил сюда(не сам лично, на КАМАЗе, наверное) этот камень непонятного происхождения – это бывший депутат городского совета Брыкин. Одиозная личность. Когда он был депутатом, его показывали по телевизору чуть ли не каждый день. Он всегда нес какую-то ахинею, поэтому я выключал телевизор, когда на экране появлялся Брыкин. Впервые увидел этого типа на заседании градостроительного комитета, где мне довелось побывать в начале своей карьеры. Вот там Брыкин предложил проект строительства мосточка(именно так он выражался) с некой аркой и голубками в центре сквера рядом с Дворцом бракосочетания. Меня поразило не только место, где он хотел установить эту катавасию, но и то, что его абсолютно не интересовало, нужно ли это новобрачным. Мосточек с аркой он предлагал поставить вопреки здравому смыслу. Там , где не было ни речки, ни озера, ни пруда, ничего подобного и не планировалось. Мосточек должен был появиться на земле, и, когда я высказал свое мнение, что вся эта придумка похожа на детскую площадку, то был изгнан из зала. Слава Богу, этот бред не построили, а вот камень с табличкой о памятнике миру Брыкин все-таки установил. Так, до сих пор, этот камень торчит бельмом на глазу на пустынной аллее, где когда-то был город. Кощунство, да и только. Здесь впору ставить крест с распятием, - в знак скорби, - призывающий к покаянию. Место очень грустное.
Зимой здесь таинственно, словно в сказке, луна кажется особенно яркой, она зависает над башней, как белое яблоко, освящая голые ветки деревьев, разбросанные вокруг собора камни, небольшую лестницу из брусчатки так сильно, что можно увидеть с пяти метров булавку, положенную на оледеневшие ступеньки. В морозные дни снег здесь искрится, как россыпь бриллиантов, а в иные дни метели бывают такими, что, кажется, не спастись. Весной здесь зябко. Все пробуждается, набухает. Но от этого начинает болеть голова, появляется сонливость. Ноги еле идут по влажной траве оттаявшего от снега газона, или по скользкой жиже грязного снега, лежащего еще кое-где, выискивают сухие островки твердого асфальта.
День за днем, месяц за месяцем, год за годом, я прихожу в подъезд, где живут мои родители. Стены в нем выкрашены сотым слоем зленной краски. Разные оттенки ее видны на углах, где краска чаще всего сдирается. Почему этот подъезд всю жизнь красят в зеленый цвет? Сейчас здесь установлена тяжелая металлическая дверь, а в стену вмонтировали домофон. В подъезде – новый лифт, с ярким освещением и поручнями. Правда, кто-то нарисовал в углах лифта, рядом со светильником, тараканов и пауков так правдоподобно, что хочется прищелкнуть их газетой. Новый лифт едет на мой этаж на три секунды быстрее прежнего. Двадцать семь секунд вместо тридцати. Раньше, в детстве, я проверял, сумею ли добежать за это время до нашей квартиры, взять шапку, и вернуться назад. Мне нужно было преодолеть пролет, так как на наш этаж лифт не ходил, потому что там была лифтовая. Не ходит он туда и сейчас по той же причине. Иногда я успевал, иногда нет. Теперь я преодолеваю этот пролет медленно, с каким-то благоговением, облегчением, наполненным тем счастьем, которое когда-то, в детстве, било из меня фонтаном. Вхожу же я в нашу квартиру без детского восторга, ощущая ее, изменившийся запах, с сожалением, с грустью понимая, что и моя одежда впитывает его, придавая ей затхлость и старчество, что изменить никто не в силах, так как это не просто пары, идущие от существующих предметов, это запах жизни, судьбы, раздавленной и разбитой, разрушенной, как и весь город когда-то, после войны уничтоженный и погребенный в руинах под гладким слоем зеленого газона. Сегодня он пахнет гнилой листвой, оксидами серы и водорода, выхлопными газами автомобилей, а вовсе не розами и сиренью, как когда-то в годы моего детства.
Я мечтаю отремонтировать квартиру своих родителей. Хочу это сделать, пока они живы, чтобы у них была возможность жить в нормальных условиях. Но всякий раз понимаю, что это не возможно. Это очень дорого, поэтому боюсь ремонта. Обои в комнатах не просто старые, они грязные, в некоторых местах отклеиваются, а в прихожей, где проходят трубы горячей и холодной воды, зияют черные пустоты. Слегка надрезал обои, чтобы посмотреть, что можно было бы сделать, чтобы убрать этот неровный полутемный угол, надрезав, понял, что нужно менять и плинтуса, за которыми нет напольной плитки, и... плитку. Разруха здесь последовательная и основательная, поэтому и ремонт потребуется аналогичный. Потянуть его сегодня не в силах.
Когда убираюсь в квартире родителей, а это делаю раз в неделю, поражаюсь, сколько пыли и грязи приходится выметать. Иногда мне кажется, что песок и пыль невиданным образом сочатся сквозь крышу, подметаешь пол, а грязь все увеличивается, доводя до исступления. Садишься на сломанное кресло, чтобы передохнуть, и замечаешь грязные стекла, замасленный подоконник. В детской, где теперь лежит мой больной отец, там, где висит икона Пресвятой Богородицы, замасленный не только подоконник, но и пол под иконой, старая престарая мебель. Мать меняет масло, зажигая лучину, как надежду на выздоровление отца, с болью и надеждой, а получается небрежно. Вокруг валяются спички.
Икону Пресвятой Богородицы трудно назвать иконой. Это сколоченные доски размером пол метра на метр, на которые когда-то была приклеена картинка с изображением Богородицы. Когда-то, может быть, пятьдесят, а, может быть, семьдесят лет назад, на ней крепилась крышка с большим стеклом, а по краям были медные образа. Сейчас от крышки остались лишь петли на основании, да и само изображение, так же как и доски потемнело настолько, что лик святой практически не виден. Даже священник, приходивший причащать отца, стоял к этой иконе спиной, поставив перед собой маленькие иконки, на которых лики святых были хорошо видны. Но эта икона Пресвятой Богородицы, я уверен, сильнее любой нарисованной картинки, почему священник ничего не спросил про нее? Мне вообще показалось, что его мало интересовали мы, как люди, он просто беззаветно выполнял свою работу, которая дает ему пищу для души и тела, а мы лишь объект этой работы, такой же, как фонарный столб для электрика. Священник ходил по нашей квартире в черной рясе, высокий, тучный, не вписывающийся в ее габариты, как ворон по паперти. Потом, когда привез его назад в церковь, он выбежал из машины, словно облитый горячей водой, не сказав никакого напутствия. Я вышел, чтобы поцеловать его руку в знак благодарности, но увидел лишь его спину. Сел в машину и у меня потекли слезы. Православная церковь – защитница обездоленных и несчастных во все времена бежит от малоимущих (кем являются моим старенькие родители, как и подавляющее большинство пенсионеров, о которых забыло государство, дав им на жизнь жалкие крохи), как от чумы. Живому человеку, простому, не нуждающемуся в материальном плане(это я могу сказать про себя), нет помощи со стороны церкви, потому он и достоин лишь того, чтобы быть рядом с умирающим бедным человеком и слушать его исповедь. Он, этот простой человек, сегодня, может быть, более чем когда-либо нуждается в духовном покровительстве, в духовной защите и поддержке, но видит перед собой лишь спины священников. Есть ли у церкви милосердие, сострадание и любовь к ближним? Не обросла ли она услужливыми, угодливыми пособниками, больше заботящимися об имидже, чем о своем народе? Я не нахожу ответа.
Про икону моих родителей расскажу подробнее.
Эту икону привезла моя мама из Арзамаса очень давно, в то время, когда в возрасте восьмидесяти лет умерла ее мать, моя бабушка. Она ездила на похороны, а по возвращению привезла с собой дюжину старых фотографий, церковную литературу и вот эту икону. У нас в квартире она долгое время висела в спальне, где жил я, но когда мне пришлось покинуть отчий дом, ее перевесили в детскую. Точной даты, когда была куплена эта икона, никто не знает. Ввиду того, что она не была рисованной, ценности особенной не имела. В селе под Арзамасом она висела в крестьянском доме, в углу в горнице, как главная икона, вокруг которой было много других, но поменьше. Этой иконе молилась моя бабка, чтобы ее мужа, моего деда не забрали на войну, чтобы дети ее были не только здоровы, но и живы, чтобы война быстрее закончилась, чтобы голод обошел стороной. Молилась она каждый день: утром, в обед, вечером, всякий раз, когда была дома. Скажу, что ее молитвы возымели силу.
Моя мать в девичестве Рябинина родилась в Нижегородской области, в селе Хватовка под Арзамасом. Это - мордовские земли, заселенные русскими в 12 веке. Село же возникло в 1826 году по злой воли графа Мухранского, жившего неподалеку, в Новом Усаде. Он изгнал из своего поместья тридцать подневольных за неповиновение. Среди них были и мои предки Клячины, которые еще до отмены крепостного права обрели свободу. Подобное на самом деле происходило по всей России, и в итоге вылилось в Юрьев день – день отмены крепостного права. Так что своими поступками, своим гордым нравом, такие крестьяне способствовали прогрессу.
Поселиться им разрешили на месте провальных ям. Там где внешними водами вымывался известняк. Беляковы, Кудрины, Барановы, Покатовы расхватывали эти земли. Часто возникали драки и поножовщина. Для близлежащих деревень все изгнанные были на одно лицо – алчные, жадные, захапистые, расхватывающие землю получше, повыше. Поэтому и прозвали все село Хватовка. В этом - правда была лишь отчасти. Конечно, в те времена именно так и обживались на новых землях. Но алчными и жадными они не были. Их основным занятием было выращивание ржи, проса, гречихи. Сажали картошку, свеклу, капусту. Некоторые держали пчел, имели клин леса. С липового клина получали лыко. Потом плели лапти, выделывали мочало, вили веревки. Зимой возили дрова из леса в Арзамас на продажу. Многие крестьяне занимались производством колбас, и осенью колбасный дух шел на всю деревню. Для хранения сена в нескольких метрах от дома, опасаясь пожаров, строили сельницы. Их и сегодня можно увидеть в деревнях. Теперь их переделали под склады. Когда-то в этих сельницах оборудовались небольшие тока, и там вручную цепами(это рабочий инструмент на черенке, где закреплялась ремнем длинная дубовая палица) мололи рожь, просо и гречиху. Молотьба шла так: раскладывали снопы и ударяли по ним цепами. Иногда выходила промашка, и толстая палка из дуба ударяла по ногам. Многие от этого хромали, и в народе таких звали клячами(как хромую лошадь). Отсюда и пошла фамилия Клячиных.
Вместе с русскими в эти края пришло и православие. Но далеко не во всех селах были свои церкви. Люди ходили пешком в Арзамас, Нижний Новгород или даже в Москву, чтобы помолиться. В 1910 году в Хватовке крестили первого ребенка в церкви, которая была двадцать шесть метров в длину и пятнадцать метров в ширину. Ее высота с куполом составляла тринадцать метров. У нее было пять куполов – четыре по бокам, один высокий в центре. Внутри стены, купол, алтарь были искусно расписаны. На фресках изображали лики святых. Священник храма Геликонов имел медицинское образование. Он безотказно лечил жителей села, чем снискал уважение и почет. При церкви жили дьякон, монах, староста и сторож. Церковный хор состоял из двух частей – для левого и правого клироса. На правом клиросе стояли певцы с лучшими голосами. В большие праздники в церкви собиралось до трехсот человек. В тридцати метрах от церкви была построена деревянная колокольня, на которой был подвешен огромный колокол, звонить в него можно было с земли. Вешали этот колокол всей деревней. Но уже в 30-ые годы двадцатого века, с приходом к власти большевиков, его отправили на переплавку. Колокол разбивали специально привезенной «бабкой». Тогда же закрыли и церковь.
После установления советской власти новые порядки пришли и в Хватовку. Появился колхоз - коллективная дисциплина. В три часа утра нужно было идти на работы. Рано вставать приходилось, потому что земли крестьянам выделили очень далеко, на неудобьях. Все лучшее забрала советская власть. Но были и противники такой несправедливости. Открыто выступал против коллективизации, например, колбасник Серков, которому очень жалко было отдавать нажитое имущество. Спустя многие годы в селе насчитывалось пятьсот домов, жители которых брали воду из колодцев, отапливались печами. Ничего не изменилось там и сейчас. Это и есть российская глубинка, откуда привезла моя мать икону Пресвятой Богородицы.
После второй мировой войны мой дед Емельян Клячин, поменявший потом дважды фамилию сначала на Стальнова, а потом, после смерти Сталина, на Рябинина, отстроил в Хватовке огромный по тем времена дом с большими сенями и горницей. При доме были подняты хлев на пять коров и банька. За домом же был высажен сад, где росли яблони и сливы. От глаз людских его скрывали длинные кусты малины. В этом доме выросла моя мать и ее братья Николай и Никодим. Теперь братья уже умерли. Когда они еще были живы, они, женившись, поделили дом на две части, и все забрали себе. Моей матери ничего не оставалось делать, как уехать к родственникам в разоренную войной Восточную Пруссию. Она увезла с собой дух тех мест, цепкую хватку за жизнь, умение превращать дело в прибыль, и вечную непокорность ни начальству, ни мужу.
Арзамас, конечно, так и остался стоять на небольшой речке Теша. Теперь золотые купола поднимаются то тут то там. Поволжье заселялось много раз, но до сих пор это слабо обжитой край. В 1152 году князь Юрий Долгорукий, изгнанный из Киева, начал активно обустраивать Владимиро-Суздальские земли. Для укрепления окраин он основал ряд городов-крепостей. Все последующие правители продолжали это начинания, укрепляясь и обороняясь от татар. Где-то в 1370 году была построена крепость Арзамас, или Орземас как писали в старину. По-эрзянски (эрзы - это мордовское племя) Арзамас означает «хорошие земли». С самого начала древнерусских поселений земли здесь получал служивый люд и знатное боярство, постепенно оттесняя мордву дальше за Волгу.
В многовековой истории Арзамаса не было громких событий. Он был и остается тихим уездным городом N. Разве что осень 1774 год была для Арзамаса неким исключением, когда в один из дней и стар и млад собрался на соборной площади, чтобы лицезреть Емельку Пугачева, закованного в кандалы. Не состоявшегося царя Россейского, пойманного отрядом подполковника Михельсона, везли в Москву на казнь. Емелька был в лохмотьях и с множеством ссадин и ран по всему телу. Мало чем напоминал царя. Крестьянские волнения тогда вспыхивали то тут, то там. Народ был недоволен своей крепостной жизнью. В Пугачеве люди хотели видеть защитника их прав. Но далеко не все понимали, почему этого защитника хотят казнить.
Сейчас на соборной площади – остановка автобусов. По соседству – сквер, где установлен памятник В.И.Ленину. Днем здесь собираются выпивохи. Как все это напоминает мой родной город, где теперь проживают многие выходцы с Волги, в том числе и моя мать. Но в Арзамасе, откуда она родом, всегда было много православных храмов, таких как Спасский собор. Величественный белоснежный, купола его, ввиду высокого месторасположения, видны за много километров. Арзамасский Спасский собор являлся действующим даже в годы советской власти. Здесь в 70-ые годы прошлого века я был крещен. Из детства помню толпу людей, иконы и образа, багровые слезы Христа, деревянные скульптуры святых. Помню духоту внутри собора, крошки просвиры в моем кармане и ласковые ладони моей бабушки Ольги.
Спасский собор в Арзамасе с треугольными фронтонами и колоннадой по сторонам света несколько не обычен. Алтарная часть его располагается справа от входа, а не напротив, как это имеет место в большинстве других православных храмах. Таков порядок существует по вине архитектора, потому что он не достаточно хорошо продумал вход, не учел важную деталь – высоту и крутизну холма, на котором расположен храм. В том месте, где возведены главные врата храма, слишком крутой спуск. Для одного или двух человек это не имеет значения, но для большого количества людей, а храм может вмешать более тысячи прихожан, столь крутой спуск не удобен и даже опасен. Поэтому главными вратами в храм давно уже стали боковые с левой стороны. Но это никак не сказалось на внешнем восприятии. Даже, заходя в храм через боковые ворота, ощущаешь величественность его купола, торжественность его колонн. Но самое главное – ощущаешь его намоленность и духовную силу, которая хранится в древних стенах. Всякий раз, бывая в Арзамасе, захожу сюда. Мне иногда кажется, что жизнь моя каким-то таинственным образом, начинается здесь. Она отмеряется дорогами, ведущими к другим храмам, будь-то к новому Храму Христа Спасителя на моей Родине, или же в столице, или к иностранным храмам, расположенным где-нибудь в Португалии, например, в лиссабонском Жеронимуше, или в Польше, в маленьком тихом городке Оливы. Это некие символические отрезки пути, представляющие для меня ценность общего пути по дороге к храму.
Таким тернистым, как долгая история развития среднерусской полосы, был и путь нашей иконы. Разве можем мы отказаться от своих корней, от своей истории, конечно, нет, поэтому столь долго я рассказываю про родину своих предков. Вся она для меня в этой иконе Пресвятой Богородицы, - темная, обгоревшая, полуразбитая, - висит в детской, напротив кровати, где лежит мой больной отец. Лик Богородицы почти не виден, но сила ее могущественна, потому что она в нашей вере.
2.
Постоянно думаю о ремонте квартиры моих родителей. Когда-то здесь был достаток, тепло, уют и пахло поджаркой и яблочным компотом. Часто здесь бывало весело, и минуты счастья просыпались вместе с зимними каникулами, под мерцание новогодних огней на елке.
Сегодня нарисовал план ванной и туалета, чтобы посчитать расходы, связанные с ремонтом. Приличные расходы при общей площади не более пяти метров. Мне уже пришлось потратиться на замену труб и канализации, потому что в кухне и в ванной текло, и можно было залить соседей на нижнем этаже. Не дай Бог! Иначе у меня был бы инфаркт. Они сделали ремонт, и, причем, это я знаю точно, они поменяли прежние стены в туалете и ванной, установив металлический каркас с гипсокартоном, облицевав стены дорогостоящей плиткой, а это значит, что, если их затопить, то будет солидный ущерб.
Когда они проводили ремонт, мой отец еще чувствовал себя относительно хорошо, он, понимая, что под его квартирой рушат стены, ходил к ним несколько раз, но его не впустили. Раздосадованный этим обстоятельством, я также спускался к нашим новым соседям на нижний этаж, пытаясь выяснить масштабы их ремонта. Знаете, иногда бывают разного рода неприятности ввиду того, что рядом кто-то организовал ремонтные работы. Слышал, что даже дома от этого рушились. Меня тоже первый раз не впустили, спросив, скандальный ли я человек, как и мой отец, и я ответил тогда, что скандальнее его. Потом мне пришлось обращаться в жилищно-эксплуатационное управление. Когда, наконец, зашел в квартиру соседей снизу, то увидел у них металлический каркас, прикрученный к нему гипсокартон, настенную плитку, положенную в некоторых местах, и понял, что при любой неприятности все это может оказаться на свалке. Мы так много говорим о евроремонте, но на самом деле не имеем никакого понятия, как производятся ремонтные работы в развитых странах. При этом у нас много гонора, грубости и хамства, которые мой отец, уже, будучи больным человеком, успел хлебнуть от новых соседей, считающих, что если они затеяли ремонт, то они богаты и удачливы. Все остальные вокруг просто – чужие глаза, уши и языки. Хозяйка этой квартиры женщина пятидесяти лет, энергичная, крикливая, в халате, поверх которого бывает надет теплый ворсистый свитер, иногда мне попадается на лестничном пролете, когда она выкидывает мусор. Мы не здороваемся. Всегда вижу на ее лице брезгливость. Эти лини лица столь очевидны, что вызывают ответную реакцию.
Не поверите, мне постоянно хочется показать ей язык. Но тем не мене, вот уже более года мне нет до нее никакого дела. Более того, ее дочка даже, конечно, не зная, кто я такой, улыбалась мне в лифте, рассматривая мое лицо, словно на нем было нарисовано мелом. Улыбнулся ей в ответ, чем вызвал ее легкий вздох и прекрасную светлую улыбку. Я не произвожу впечатление неудачника и потому что им не являюсь, и потому что слежу за собой, и потому что бог не обидел меня и внешне, и внутренне. Думаю, что молоденькие женщины не любят больше всего на свете именно тех, кто производит впечатление неудачников, более того, и, я убеждаюсь в этом все больше, произвожу чаще всего приятное впечатление, если, конечно, сам его не испорчу. Как, например, в случае с хозяйкой квартиры снизу. Но на это мне пришлось пойти осознано, выслушав серьезные доводы моего отца относительно перепланировок в старых домах. Мой отец строитель по профессии не плохо разбирается в том, что касается возведения домов. Мне кажется, впервые именно от него услышал, что старые дома непригодны к перепланировкам, внутренние стены в них можно убирать очень осторожно, продумывая все тонкости. Это так. Есть много негативных примеров, подтверждающих подобное мнение. Тем не менее, не все с этим мнением считаются.
Опасаясь неприятностей, которые могли бы последовать от соседей снизу, я и поменял трубопровод и канализацию, а заодно поставил и счетчики на воду, сэкономив заметную сумму расходов на жилье. Но что мне все это стоило! Когда сантехники, c лицензией, и, как они уверяли, с опытым, пришли в квартиру моих родителей, чтобы произвести замену труб и канализации, вышла моя мать. В ее памяти всплывали смутные очертания прошлого, и она делилась ими с чужими людьми, которые, переглядываясь, ехидно посмеивались над пожилым человеком. Мне приходилось не просто требовать от сантехников хорошей работы. Сначала они разбили часть стены, вытаскивая канализацию, на что мне пришлось закрыть глаза, оценивая последующие действия по восстановлению и выравниванию того, что было сломано; водопровод в некоторых местах плохо крепился, и мне приходилось попросту стоять над душой, чтобы заставлять сантехников сверлить необходимые отверстия для крепления. Кончилось все тем, что они разбили еще и унитаз, и я сказал им, что вычту его стоимость из их зарплаты. Они приуныли, и, когда моя мать начала в очередной раз рассказывать им про свою трудную жизнь, они пошли на кухню, сели на грязные стулья, достали пакет сока, булки, и стали медленно кушать. Они закончили поздно, установив новый унитаз. Когда они рассматривали прогнившую доску, на которую был установлен предыдущий, пришла соседка с восьмого этажа невысокая еврейка(ничего против евреев не имею, ценю их находчивость и нюх к выгоде). Где-то в душе даже с пониманием отношусь и к этой женщине, которую все свои в подъезде называли Аллой. Она была в халате. Разгневанная, с трясущимися руками. Обратил внимание на ее редкие усы над сухой тонкой верхней губой. Заметил это внешнее гормональное излишество только сейчас. Видимо, она принимает какие-то лекарственные препараты, которые увеличивают в крови количество мужских гормонов.
Наверное, раньше она прятала эти усы под толстым слоем тонального крема. Много раз встречал ее в лифте, в магазине, и даже отвечал на ее какие-то вопросы, чувствуя холод и пренебрежительное отношение к моему отцу. Но усов над губой не видел. Она говорила о моем отце так: «бегал тут» (это больной-то человек), или «папаша твой»(более мягкое, но все равно не приятное выражение). Она не вникала в суть обстоятельств, рассматривая меня уродливым продолжением моего предка, и, конечно, получала взамен мое резкое отношение к ней. Эта еврейка хоть и была настоящим мужиком в женском обличии, готовым разорвать любого кто посягнул на ее спокойствие, все же была, это отлично понимал, женщиной умной, а поэтому очень опасной. Улыбался ей в ответ, показывал свои часы, что еще нет и девяти, и что мы уже закончили, и больше не будет никакого шума, объяснял, что эти работы были просто необходимы, потому что везде текло. Она назвала меня надменно по имени, указала мне на то, что я должен знать новые положения, согласно которым шумные работы могут производиться в дневное время с девяти утра до семи вечера, и ушла. Минут через десять ушли и сантехники. Они как-то быстро оделись и незаметно хлопнули дверью. Сел на стул в пустой прихожей, где был выключен свет, а в полутьме различались груды мусора, обхватил голову руками, понимая, что здесь, в квартире моих родителей не могу действовать также смело, как в своей собственной, где также занимался ремонтом, но особенно с соседями не церемонился. Здесь все было и остается по-другому.
Нарисовал план-схему ванной и туалета, потому что именно отсюда начну ремонт. Это самые трудоемкие работы, они связаны не только с большими затратами, но и с большой грязью, которую не хотелось бы таскать по всей квартире. Идея моей переделки заключалась в том, чтобы изменить ощущение пространства в квартире. Сейчас тот, кто входит, попадает через неудобный маленький проход лестничной клетки в прихожую, которая открывает вид на дверь в кладовку. Мне кажется это банальным, а вот вид из окон на кухне и в зале просто великолепный – в них красуется длинный шпиль Кафедрального собора. Он открывается, когда выходишь на балкон, а мне бы хотелось, чтобы он открывался сразу, как только входил бы в квартиру. Это возможно. Но для этого сначала следует снести часть стены между кухней и залом, установить французское окно от потолка до пола в кухне, поменять деревянную балконную дверь на стеклянную. Думаю, что эффект получится невероятный. В продолжение этой идеи следовало бы увеличить пространство в зале с помощью зеркал.
Почему мне кажется важным изменить в квартире моих родителей ощущение пространства? Потому что, во-первых, такова моя философия жизни, суть которой заключается в том, что люди являются частью природы, и не должны отгораживаться от нее стенами, заборами, чем угодно. Только по необходимости. Возводя свои жилища, они должны вписывать их в окружающую среду, используя все ее преимущества, включая даже такое как вид готического собора ХIII века из окон домов – это тоже часть природы, сотворенная человеком. Во-вторых, хоть это, наверное, будет попахивать мистицизмом, которого в моей жизни, наверное, хватает, мне кажется, что здесь, в этой квартире, происходит некое сужение пространства, словно бы вы попали не в жилой дом, а в некий эфир, где ничего нет.
Вот это мне пришло на ум, когда сквозь полутьму прихожей видел груды мусора, оставленные сантехниками, и потом, позже воплотил эти мысли в моем плане-схеме. Даже думал, чтобы перенести входную дверь, и сделать вход через балкон, но выходить из дома и натыкаться на мусоропровод(со стороны балкона мусоропровод), мало приятная вещь, поэтому от этой мысли сразу же отказался. Смогу ли когда-нибудь воплотить в жизнь то о чем мечтал?
Вышел на балкон, вдохнул свежего воздуха. Вдали, за Домом связи, за доброй дюжиной крыш виднелись золотые купола Храма Христа Спасителя. Мой отец строил этот храм. Сейчас его купола сверкают, а у ног моего отца, к которому мне нужно будет подойти, чтобы сказать, сколько израсходовано средств по замене труб и канализации, и - что именно сделано, - жестокая тьма болезни. Избегал этого разговора, потому что отец всегда думает, что я трачу гораздо больше денег, чем говорю, из-за этого переживает и подозревает меня в том, что кто-нибудь меня обязательно обманул и сделал все не то и не так. Твой собор, отец, прекрасен, а мой собор тринадцатого века, виднеющийся в окнах твоей квартиры, - просто дань прошлому... Память о детстве, отрочестве и юности.
Храм Христа Спасителя так величественно смотрится на фоне темнеющего неба. Я был там полтора года назад, когда проходила церемония его освящения. Помню, как в восемь утра без особых проблем прошел милицейский кордон. Собор построен в стиле суздальско-вологодского зодчества, поэтому он белый. Но он не просто белый. Храм сверху до куполов облицован мрамором, привезенным из северной Африки, и в его стенах отражается небо - серо-голубое балтийское небо, что придает всему строению строгость и величественность формы. Отличительной особенностью этого храма от его предшественников в Суздале и Вологде является большое количество окон. Общая площадь остекления составляет почти одну тысячу квадратных метров. Стекло имеет матовый оттенок, и иногда даже оно кажется снаружи черным. Но это лишь кажущийся эффект, который подчеркивает стройность всей архитектурной композиции. Благодаря большому количеству окон внутри храма много света, даже серо-зеленый мрамор внутреннего убранства не становится мрачным, а наоборот придает простоте внешних форм некоторую царственность.
Но у храма Христа Спасителя есть и еще один уникальный эффект, достигаемый большим количеством окон – кажется, что храм плывет среди облаков. Вы заметите это, встав в центре. В окне, расположенном над алтарной частью, над иконостасом из белого мрамора, виден золотой купол с крестом, голубое небо и облака. Они летят так быстро, что кажется, что храм плывет, как корабль, но не в море, а в небесах. Это придает таинству богослужения, проводимому в стенах собора, божественный смысл.
Пока здесь – голые стены. Голуби летают у самого верха, роняя перья, которые, покачиваясь словно лодочки, летят в солнечном свете. История православия на этой земле имеет свои корни. Об этом рассказываю своему умирающему отцу, потому что ему это приятно слышать. Но многое забываю, и поэтому беру газету и читаю.
"Во время Семилетней (1756-1763 годы) войны Королевство Пруссия фактически было частью Российской империи, и это не могло не отразиться на присутствии здесь православия. В 1758 году в городе, где жили протестанты и лютеране, появились русские войска. Это была война, во время которой город в течение почти шести лет находился под властью России. Русские войска пробыли в Кенигсберге пол года, и зимой 1759 года пошли воевать дальше в Европу. Первое время для проведения богослужения они использовали походные церкви, но позже в лютеранско-католической кирхе св. Николая в Штайндамме для небольшого количества представителей Российской империи была открыта настоящая православная церковь.
4 сентября 1760 года в торжественной обстановке при стечении горожан состоялось ее освящение. В январе 1761 года генерал-губернатор Кенигсберга Василий Суворов (отец будущего великого русского полководца Александра Суворова) подарил церкви иконостас. Так получилось, что в 1945 году иконостас, хранителем которого было Свето-князь-Владимирское братство, вывезли в Германию. Затем он побывал и в Берлине, и в Гамбурге, а позже даже в шведском Стокгольме. Но в 1996 году вернулся домой. Тогда в годы Семилетней войны после ухода русских войск из Кенигсберга церковь в Штайндаймме была передана прежним владельцам, и у православных остался лишь небольшой приход".
Отец перебивает меня, говорит, что я сыплю немециким теринами, мол, язык могу сломать, но потом махает рукой и просит продолжать.
"Сюда приезжали староверы, спасаясь от преследования в России, селясь в сельских местностях. Теперь, конечно, все иначе. Православные имеют десятки приходов, и - величественный Храм Христа Спасителя. А вот эпоха после второй мировой войны для этой земли – это время духовной слепоты – ни одного храма, немецкие кирхи превращены в складские помещения, спортивные залы, ремонтные мастерские". Отец засыпает, и я выхожу из его комнаты.
Здесь я родился и вырос. Помню, как в Пасху мы дети красили сваренные вкрутую куриные яйца, а потом бегали из одного двора в другой, обменивались ими, и говорили друг другу «Христос воскрес!» и отвечали «Воистину воскрес!». Это было скорее ребячество, чем последовательное прикосновение к православию, ведь потом мы не отмечали ни Рождество, ни один церковный праздник, и даже в церковь не ходили – их здесь просто не было. А наши родители отправлялись в Пасху на кладбища, чтобы помянуть родных и близких. Ставили на могилы стаканчики с водкой. Клали рядом кусок хлеба и крашенные куриные яйца. Плакали. А вечером, когда все уходили с кладбища, все доставалось работникам этого прискорбного заведения, которые собирали в пакеты принесенное съестное. В православии для поминовения усопших есть специальные дни.
Когда подходишь к Собору Христа Спасителя, не задумываешься, сколько труда вложено в его возведение. Однажды побывал на стройке у моего отца. Было морозно, он и его напарник, с раскрасневшимися лицами и горящими глазами, делали кладку стены алтаря. Он спрашивал, разрешил ли мне прийти сюда батюшка, разрешил ли мне фотографировать, я мотал головой. Спустя годы эти фотографии будут очень ценными для отца. Он всегда мечтал быть каменщиком. За свою долгую трудовую жизнь построил в городе множество зданий, в основном это - жилые дома, в том числе и тот, в котором он сейчас живет.
Приехав в эти края восемнадцатилетним пареньком, и уже, будучи пожилым человеком, не переставал удивляться человеческим возможностям, - кладешь кирпич за кирпичом, а получается "небоскреб". Возводил многоэтажный жилой дом на берегу Преголи. На 19-ом этаже здания, без наружных стен, продуваемого со всех сторон холодными балтийскими ветрами, делал перегородки будущих квартир. Он приходил на работу, когда ему хотелось, и уходил, когда хотел. За его безупречную кладку прораб разрешал ему – пожилому человеку – работать в свое удовольствие.
На храме он тоже работал в свое удовольствие. Его руками, и руками еще двух его напарников возведена вся нижняя часть здания, включая алтарь. Он получал зарплату в два раза меньше, чем на прежних стройках, но он знал, что делает какое-то очень важное дело. Даже, когда однажды он сильно обгорел в пожаре, два месяца пролежал в больнице, и врачи удивились, что он выжил, с обгоревшими руками и лицом, он вернулся достраивать храм, над возведением которого трудилось первоначально всего несколько человек – мужественные, сильные люди. Когда на стройку в 2002 году выделили серьезные деньги, пришел бригадный подряд. Там, где трудились два каменщика, стала работать бригада. Стариков всех уволили. Но, если их и забыли, то не все. Я, отец, буду помнить твой героический труд всегда!
Рассматриваю фотографии отца во время работы на строительстве храма. Еще до пожара. Крупные скулы, ободранный нос, густые седые волосы. Конечно, когда строительство завершилось, никто не вспомнил об этих людях. Награды вручили другим. Нравственно ли это?
3.
Сколько всего построено! Но меня почему-то не покидает ощущение того, что все построенное – лишь декорация к общему глянцевому виду пустыря, на месте которого когда-то был город. И даже новодел, и даже точная копия прежних зданий не возместят горя утраты, потому что никто из тех, кто живет здесь сегодня, не знают и не понимают этого. Постройте сотни небоскребов, новые эстакады, тысяча памятников – все они будут лишь декорацией прошлого. Хотя...Может быть, по его чертежам прошлого может быть можно построить будущее. По крайне мере попытаться стоит.
Разве я могу сказать это своему умирающему отцу, напротив которого стоит фотография со стройки Храма Христа Спасителя. Поэтому я молчу. Просто тихо сижу на стуле возле его кровати, жду, когда он проснется.
«Сын, ты здесь? Надо сходить в магазин. Купи – молока, булку с маком, ну, и что мать попросит. Два пакета молока купи», - выдавливает он просьбу. Иду в магазин, возвращаюсь, подношу ему стакан молока, кусок булки с маком, горсть винограда. Он не просил, но мне почему-то кажется, что он хочет винограда. Потом выхожу из комнаты, слышу, как он кашляет. Для того чтобы поесть, он должен прокашляться, выплюнуть слюну. Рядом с кроватью стоит тазик с расстеленными в нем газетами. Когда он выпивает молоко, я возвращаюсь, меняю газеты в тазике, сажусь на стул, понимая, что сейчас он будет мне рассказывать свою жизнь, рассказывая ее, он намекает мне, что я должен делать, а чего нет. Вообще, когда он осознал, что умрет, он стал каким-то настоящим. Он говорит так, как никто не говорит. Это очень трогает мое сердце, поэтому я сижу и слушаю.
Дом моих родителей построен на берегу реки. Я хожу туда двумя путями – по эстакадному мосту, и через новый пешеходный(в том случае, если мне надо снять деньги в банке, или же оплатить квитанции за коммунальные услуги в Сберкассе). Эти два пути хорошо знаю, говорю об этом не потому, что хочу выглядеть идиотом, нормальному человеку нужно пару раз пройтись по какому-то маршруту, и он его запомнит, говорю, что знаю – это другое. А именно: если идти по эстакадному мосту, то путь лежит мимо бывшей кенигсбергской биржи. Сейчас – это здание центра молодежи, в цоколе которого располагается фешенебельный ресторан, казино и стрипклуб. У входа в ресторан в ровную линию утром и вечером вытраиваются дорогие автомобили, большинство номеров этих машин, как правило, имеют три четверки, но одна машина, она всегда стоит первой, имеет в номере три девятки. Эти три девятки для меня являются своего рода лакмусовой бумажкой настроения моего отца. Если машина есть, то отношение отца ко мне оно – никакое. Ни плохое, ни хорошее. С другой стороны, если идти через новый пешеходный мост, у Сберкассы часто останавливается старый «Опель» в номере которого три шестерки. Не люблю это число, и когда оно появляется на дороге, мне кажется, появляется и какой-то негатив. Мне больше нравится три тройки. Когда трижды я вижу эти цифры, испытываю прилив сил. Да, это может быть наивной приметой, но это так. Знаю все такие номера машин в нашей округе. Хожу теми путями, где они стоят. У универсама, рядом с работой, часто останавливаются сразу три таких машины. Даже при дальнейшем негативе у Сберкассы или полном безразличие у ресторана в здании бывшей биржи, автомобили у универсама вселяют в меня уверенность. Поэтому и говорю, что знаю этот путь.
Мой отец очень сложный человек, я стараюсь угадать его настроение, чтобы выполнить необходимые, на мой взгляд, вещи. Ну, например, поменять трубы и канализацию, и установить счетчики. А потом зарегистрировать их, чтобы уменьшить оплату за потребление воды. Регистрировать их приходила контролер из «Водоканала». Мать спала в зале, и поэтому смог спокойно поговорить с ним. Теперь мне нужно будет явиться в «Водоканал» с паспортом отца, чтобы заключить договор. Она оставила памятку, в которой содержалось количество бумаг, необходимых для заключения договора. Сложил ее и паспорта счетчиков на горячую и холодную воду в папку, и, вздохнув, наметил себе план дальнейших действий.
Мне кажется эта жизнь бесконечной волокитой. Ощущаю ее замкнутость, бессмысленность, никчемность. Но вместе с тем, вижу в ней ростки будущего, и они дают мне какую-то надежду, даже надежду на выздоровление отца. Хотя весьма условную. Может быть, следует, хотя бы в мыслях, как и в квартире моих родителей, изменить ощущение пространства – развернуть мою жизнь на сто восемьдесят градусов. Возможно ли это? Сегодня спросил своего отца, за что он меня так не любит. Он не стал оспаривать это выражение, расценивая, его, наверное, как мой разговор самим с собой, но я задавал ему конкретный вопрос, он это почувствовал, потому что за все эти долгие месяцы его болезни, не услышал от него ни одного слова благодарности. Не жду благодарности и сейчас, просто выполняю свой сыновний долг, из-за любви к своим родителям. Он не может этого понять, видя в моем альтруизме корысть и ложь, чего на самом деле нет. Мне кажется, что многие грешат одной бедой, часто искаженно представляют поступки других людей, одних даже оправдывая в преступлениях, а других, не стремясь понять, стремятся обвинить в том, что на самом деле человечно. Все – в свою личную угоду. Это страшная и опасная болезнь нашего общества. Она заразительна, разит не ум, и не сердце, а душу, как лечить которую не знает ни один врач. Эта болезнь поражает все большее число людей, проникает все глубже в их души, растлевает их даже на смертном одре, словно ветер высушивает росу на траве, быстро и без остатка.
Никак не могу навести порядок в квартире моих родителей. Все мои усилия, кажется, уходят впустую. Опять мусор, опять грязь, опять мебель - под слоем пыли, опять паутина прямо посреди комнаты. Можно лишь предположить, что виной всей этой разрухи – бедность, отсутствие денег, но ведь я видел много других не богатых квартир, где чисто и тепло. Но здесь, в квартире, где родился я, просто руины.
Вчера я решил прикрепить гардину на кухне. Там вместо нее висела веревочка с занавеской. Когда начал сверлить дырки для дюбелей, увидел, как стар этот дом, внутри стен - черный бетон, не то от сырости, но от плохого качества. Сказать, что здесь разруха в головах, не могу. Квартира, и мне это понятно, нуждается в хорошей отделке, тогда здесь исчезнет то, что мешает чувствовать себя комфортно – пыль и грязь. Скорее – здесь то, что проще назвать асоциальное влияние общества на жизнь пожилых людей, да людей вообще. Рано или поздно нужно будет заниматься ремонтом, и для этого потребуются деньги. Дай Бог, чтобы у меня хватило сил и средств.
Как ни странно, мой отец стал лучше себя чувствовать, когда поменяли трубы и канализацию. Теперь везде есть вода, и нигде не течет. Вчера, когда повесил гардину и тюль, он вышел и сказал что-то одобрительное. Хотя ему, как он любит повторять, все равно. Правда, два месяца назад, когда он думал, что умрет, лежал обессиленный на кровати, не поднимаясь неделю, показал мне, где лежат его накопления, которые он сэкономил на свои похороны. Они были разложены в разные карманы курток и сумок, две крупные купюры лежали в сберегательных книжках. Я все выгреб и принес к его кровати, чтобы пересчитать в его присутствии. Оказалась довольно крупная сумма. Крупная в принципе – в руках материально не нуждающегося человека, но абсолютно ничтожная, чтобы что-то изменить с ее помощью в жизни моих родителей, разве что просто похоронить. Отец сказал, чтобы я отнес эти деньги в банк и положил их под проценты, потому что мать, ложась спасть, может забыть закрыть входную дверь, и в доме ночью будет гулять ветер. Не дай Бог, еще и воры! Он отдал мне все важные документы, паспорта, нужные и ненужные бумаги. Все они лежали в черной запыленной сумке. Я протер ее влажной тряпкой, и когда, придя домой, стал разбираться с содержимым, подумал, что очень благодарен своему отцу за то, что мне не придется, в случае его смерти, ходить по людям с протянутой рукой. У меня даже слеза потекла по щеке.
Положил эти деньги на сберегательную книжку, они пролежали там почти два месяца, и лишь недавно, когда увидел, что моему отцу становится лучше, здравый рассудок взял верх. Сберегательная книжка гарантирует лишь сохранность вклада, без учета инфляции. Банк приплюсовывает к вкладу один процент годовых. Хотя каждый год инфляция составляет почти двенадцать процентов, а, значит, теряются средства. Кстати, таким образом, в том числе, обогащается государственный банк. Его доходы в этом году составили 200 процентов. Многие же коммерческие банки принимают вклады под восемь, девять, десять и даже одиннадцать процентов. При этом законом мне гарантирован возврат вклада даже при банкротстве коммерческого банка, поэтому ничего не теряя, отправился на поиски подходящих банков. А для этого нужно было снять то, что лежало на сберкнижке. Оказалось это делом утомительным.
Государственный банк открылся на два часа позже указанного срока в графике его работы, ввиду того, что утром шла работа с инкассаторами, и возле него образовалась огромная очередь, среди которой были шумные граждане, предлагающие всем выстроиться друг за другом. Не люблю очереди, и, когда какая-то женщина в белой засаленной куртке с клетчатым платком, спадающим на капюшон, прикрикнула, чтобы и я встал в очередь, ответил ей холодно и сурово, что зайду так. Это было опрометчивое заявление, потому что, когда банк открылся, очередь стала меня последовательно и планомерно выдавливать наружу, хорошо чувствовал локти и кулаки людей сквозь лебяжий пух своей куртки. При этом лица людей были невозмутимы, и даже, казалось, одухотворенны, словно они только что присутствовали на какой-нибудь выставке или побывали в театре. Подумал, что очереди у нас в крови, они являются нашим генетическим кодом, мы умеем отстаивать их так искусно, что они, наверное, никогда не исчезнут из нашей жизни. Конечно, если бы это была очередь в Лувр, я бы постоял.
В отделение банка было пять окон. Два из них работали, остальные были занавешены жалюзи. Очередь хоть и раздвоилась, но крика от этого не стало меньше. Зал для посетителей был так мал, что многим приходилось стоять, прижавшись друг к другу. Пришел какой-то ветеран Великой Отечественной войны(я лично к ветеранам отношусь с почтением, но бывают и исключения). Пожилой человек в старом легком серого цвета плаще, протертом до дыр в местах сгибов, который когда-то был, видимо, очень дорогим, а теперь просто тряпкой, в красном клетчатом, повязанном поверх груди, как пионерский галстук, шарфе, кожаной потрепанной шапке, попросил пропустить его вперед. Никто в принципе не возражал, но ему никак не удавалось занять место на стойке работающего окна, и он стал пихаться, показывая ветеранское удостоверение. Два раза он пихнул мужчину, который открывал счет, и ему нужно было расписаться в договоре, что ему не удавалось, и он на очередную попытку ветерана встать у окошка, оттолкнул того в сторону, но тот не только не пошатнулся, а более того, ответил тем же. Оттолкнул мужчину, который подписывал договор, да так сильно, что тот упал. Удивленная очередь расступилась, и ветеран смог получить свои деньги. Задаваться вопросом, повториться ли подобное в этом отделение банка, или же часто ли здесь бывают такие очереди, было делом бесполезным, поэтому решил, сохранив счет, иногда он бывает очень нужным при обращении в разные государственные учреждения, деньги здесь не оставлять вообще. И потом я чувствовал себя плохо в маленьком узком помещении банка.
Мне вообще очень душно в тесных помещениях. Хочется выйти на улицу, чего-нибудь покушать, запив минералкой, позвонить по телефону, сообщить, что скоро буду, намекнуть на очень важные дела. Понимаю, что никакой важности в том, что делаю, нет, но тесные помещения меня угнетают, они воздействуют на меня как на крыс, которые от нехватки жизненного пространства, сходят с ума. Это удивительно, при том, что город кажется таким огромным, и даже иногда пустынным (в центре – пустырь, как я уже говорил) жизненного пространства здесь крайне мало. Имею в виду не опасные скверы с разбитыми скамейками и фонарями, имею в виду другое, ну, например, в огромном супермаркете – жизненного пространства ровно столько, сколько хватит места для того, чтобы проехала тележка с продуктами, что уж говорить о каком-то 8626 отделении государственного банка. Здесь места для посетителей ограничивается стульями вдоль стен и стойками у окошек. Когда в эту духоту зашел высокий широкоплечий мужчина, по всей видимости, бывший спортсмен, и стал выяснять, может ли он купить пятидесятиграммовый слиток золота, мне стало плохо. Сгреб в охапку полученные деньги, запихнул их в карман, и двинулся к выходу, хотелось одного – вдохнуть свежего воздуха.
У меня часто возникает это чувство беспокойства из-за духоты и давки, оно мне хорошо знакомо - в городском транспорте, в любом госучреждение, и даже в собственной машине, когда пытаюсь найти место для парковки. Господи, думаю в этот миг, сколько же вокруг площадей и дорог, а припарковать машину негде, и даже там где вроде бы можно – опасно, увезет эвакуатор. И вдруг понимаю, что государство-то наше, выделило нам очень маленькую жизненную площадь. Вот это и есть асоциальное влияние общества на нашу жизнь. Ее, этой площади, крайне мало в квартирах, не велика она в учреждениях, ограничена – в супермаркетах, присутствует, но в небольших количествах, на площадях и дорогах. Да, ее сколько угодно – в лесах или на болотах, только там этой жизненной площади уже никому не надо. Там бы хорошо было увидеть обратную картину, отсутствие вообще следов деятельности человека. Вот там пусть будет присутствие первозданной природы, но там вокруг, если не следы от бульдозеров, то обязательно свалки. Иногда везет, и ты попадаешь на приятную взгляду лужайку, где есть в наличие березка, елочка и несколько алых бусинок земляники, и даже – ручеек с прозрачной водой, но от всего этого не испытываешь никакой радости, потому что в этот момент приходит на ум «неужели в Швеции воду пьют из-под крана». Почему в природе вода прозрачная, а в кранах наших домов - желтоватого цвета и с неприятным запахом тухлятины? Приходит на ум именно это асоциальное влияние общества на человека.
Вот это и есть мое ощущение тесноты, пространства, которое меня окружает. Утром решил не ходить к моим родителям по двум причинам. Во-первых, мой отец стал лучше себя чувствовать, и он вместе с материю сможет приготовить себе обед. Во-вторых, сегодня видел репортаж о вхождении в Шенген стран Балтии и Восточной Европы. Нет более ничтожного понимания того, что вокруг тебя происходит развитие. Словно в джунглях, вокруг тебя все растет и тянется к свету, а тебя задавили более высокие и крепкие растения. Не пробиться! Осталось лишь гнить. Теперь бывший Кенигсберг оказался внутри Шенгенского пространства, но, если все вокруг могут передвигаться без виз, то мы нет. Одна мысль о поездке за пределы региона, меня ввергает в легкий трепет – паспорта, консульства, визы, очереди. Ужас, ужас! А вот репортаж с польско-германской границы напомнил мне день уничтожения Берлинской стены, когда она рухнула, в глазах людей было много радости и счастья. Выключил телевизор, понимая, что мне не скоро придется куда-нибудь ехать. Да, хотел бы развернуть ощущение пространства, изменить его, и, может быть, тогда, общее ликование вокруг сало бы элементом и моей радости тоже. Но подобного не происходит. Эпохи сменяют одна за другой, а ничего не меняется по сути. Кенигсберг как был, так и остается закрытым провинциальным, или точнее, уездным городом N, с отсутствием собственной судьбы.
Деньги отца я понес в коммерческий банк. Сняв их со сберкнижки, пошел пешком, опасаясь карманных воришек в городском транспорте. Однажды в автобусе у меня из кармана вытащили бумажник, с тех пор, если в карманах есть что-то ценное, хожу пешком. Выбор банка был очевиден, он основывался на высоких процентах по вкладам. Имя банка было мне хорошо известно, поскольку несколько раз обменивал там валюту по удобному для меня курсу. Вывеска была синего цвета, именно ее и хотел увидеть, но, когда подошел к знакомому крыльцу, первое что бросилось в глаза, желтый цвет фойе. Затем, дважды прочитав новое длинное название, вслед за каким-то майором, взбегающим на крыльцо с шальным, придурковатым блеском в глазах, зашел в полупустой зал. Знакомой оказалась только керамогранитная плитка на полу, все остальное было другим. Повертевшись возле журнального столика с рекламными буклетами, вышел на улицу, почувствовав холодные взгляды работников банка, понимающих мое неоднозначное к ним отношение ввиду моего же предположения о ненадежности находящегося ранее в этом здании предыдущего банка.
Расстроился, потому что мне казалось, что не довел дело, связанное со сбережениями отца, до логического завершения. Идя по городу, заходил во все встречающиеся банки, изучая процентные ставки, а, заодно оценивая и общую атмосферу, ведь так не хочется, занимаясь денежными операциями, испытывать нужду, а то и стыд за себя и свое государство. Везде меня удивляла наглость охранников, которые, спрашивая о цели прихода, указывали, где должен присесть, обращаясь ко мне на «ты»(да, они одного со мной возраста, но мне бы хотелось какого-то более уважительного тона, или, если точнее их полное отсуствие), сначала это меня смешило, а потом начало злить. Несколько раз пожалел, что привычный мне банк с синей вывеской куда-то исчез, но, придя домой, и, набрав справочную службу, услышал, что банк переехал к Бранденбургским воротам. Не составило труда догадаться, куда именно, и, распределив силы и время, вновь отправиться открывать вклад.
Этот банк переехал в помещение бывшего универсального магазина уцененных товаров. Почти год назад магазин был продан за долги владельца (теперь понимаю кому именно – моему «любимому» банку). Владелец этот молодой мужчина армянской национальности вынужден был отдать доходный магазин, проигравшись в казино. Знаю, как это было, потому что, покупая иногда товары в этом магазине, стал невольным слушателем истории о причинах закрытия универсама. Продавщица в деталях рассказала об этом своей знакомой.
Ночью владелец магазина(его я видел не раз) приехал развлечься в рулетку, имея на руках небольшую сумму валюты. Невысокого роста с яркими чертами лица, к которым я отношу большие изогнутые брови, крупный ровный нос, волнистые алые губы, черную атласную шевелюру, сидел в казино, как царь на троне. Стены игорного заведения были обиты алым бархатом, здесь пахло салатами и спиртным. Молодого мужчину окружали длинноногие женщины. Они были привлекательны, но не были красивы, а это первый признак того, что мужчина, играющий в рулетку, которого под руку держит не очень красивые женщины, проиграет все. Армянин нервно загадывал цвет поля и возможную цифру удачи. Нервной была атмосфера и в самом казино, потому что некие два человека, находившиеся на втором этаже, и игравшие в карты, знали, что внизу сидит и играет в рулетку тот, кого мало кто любит за его алчность. Их нелюбовь к персоне играющего в рулетку молодого мужчины армянкой национальности, казалось, обволакивала все вокруг – алый бархат стен, матовые витражи с изображением игральных карт, мутную, заляпанную стеклянную посуду в баре. Казалось, даже рулетка, отказывалась крутиться, чувствуя эту нелюбовь и нервозность, сопутствующую неудачам. Утром владелец магазина уцененных товаров вышел из казино в бредовом состоянии. Он проиграл почти все, что у него было. В его глазах было сумасшествие, его трясло. Женщины, прикрывая свои длинные голые ноги шубами, посадили его в машину, и он, вдруг, оттолкнув их, сам включил зажигание, утопив педаль газа, рванул на машине по пустой улице. Через месяц это казино, которое когда-то несколько раз обстреливали из гранотамета, снесли, вырыли на его месте котлован, и установили забор. С тех пор прошло уже больше пяти лет, но на этом месте все еще зияет дыра.
Когда я открывал счет в банке, купившим магазин уцененных товаров у проигравшегося в казино армянина, то оценивал визуально, где что находилось. Вот тут были кассы, вот тут витрины с маринадами, здесь, по-моему, напитки и полка с чипсами, а вот там, где сейчас отдел пластиковых карт, были морозильные камеры с мясом и рыбой. Признаюсь, что я с большим уважением смотрел на сотрудников этого банка, и даже привстал, когда в банк зашел управляющий, невысокий плотного телосложения лысеющий мужчина в черном драповом пальто нараспашку и в ослепительно голубой чистой рубашке, виднеющейся из-под ворота пальто. Кажется, он был без галстука. Лицо его светилось.
4.
За многие годы город сильно изменился, и мое отношение к нему тоже поменялось, потому что однажды, поймал себя на мысли, что, если не изменю своего отношения к тому месту, где живу, то утрачу с ним связь. Изменилось все. Мое детство прошло в руинах, оставшихся со времен второй мировой войны(как уже говорил, город в годы войны был сильно разрушен), и так как долгое время не знали, останется ли он советским, или же будет передан Германии, то его и не строили. Возвели лишь убогие пятиэтажки и расчистили завалы в центре. В округе было много развалин, поросших травой и кустами. Мы, детвора, загорали там. Занятие это было не только приятным, но еще и полезным, потому что часто находили в земле какую-то немецкую утварь. Потом город строили, строили, строили. Теперь развалин нет, есть лишь отдельные пустыри, указывающие на то, что они когда-то были. Перемены в облике города происходили так стремительно, что однажды, уже, будучи взрослым человеком, оглянувшись по сторонам, не увидел привычных очертаний, все вокруг словно было не тем, к чему привык с детства, или вроде бы тем же, но совсем другим. Эта мысль стала угнетать, давить, отчуждать от обыденности, а без нее не возможно существовать нигде - ни в городе, ни в деревне, ни даже в лесу. Обыденность - это осознанная необходимость жизни. Видя перед собой разрушенное здание, должен понимать, почему оно разрушено, и что с ним надо делать. Иначе оно начинает угнетать. То же самое руины, не зная их происхождения, принадлежности и дальнейшей судьбы, не найдешь в повседневной жизни им нужного применения. Все это одолевало меня, потому что так получилось, что те с кем прошло мое детство, и кому были знакомы мои чувства, как-то вдруг, в одночасье, словно белоснежные головы одуванчиков при сильном порыве ветра куда-то разлетелись по всему свету. Я же с грузом прошлых лет так и остался здесь, в этих местах, как редкое многовековое дерево. Такие деревья все еще можно встретить в округе. Они остались, может быть, со времен герцога Альбрехта или королевы Луизы. Окружающие меня сейчас многие люди – тоже родом из детства, но не моего, и с ними меня связывают тривиальные отношения. Надежного милого друга нет, его мне заменила книга – как бы грустно это не звучало, потому что не являюсь инвалидом, не произвожу впечатления неудачника и не являюсь им, не веду затворнический образ жизни, и даже, не занимаюсь написанием диссертации, в чем подозревают меня сослуживцы по работе. Книга же заменила мне многое, став неким источником, родником моего нового осмысления жизни. Это так, и эта книга – история одного европейского города.
Теперь, когда я выхожу из подъезда дома, в котором живу, он находится в двадцати минутах ходьбы от родительского дома, вижу перед собой полуразрушенный склад, четко знаю, что это здание, возведенное в фахверковом стиле, принадлежало мелкооптовому торговцу Фридлендеру, и было построено не позже 1782 года. В годы кенигсбергских пожаров 1764-1775 годов евреем Иоахимом Мозесом Фридлендером была основана оптовая торговая фирма. Его огромный склад, построенный в те времена в пригороде Кенигсберга, а сейчас это не так уж и далеко от центра, сохранившийся до наших дней, стал последним сооружением в городе, возведенном фахверковым способом. 2 декабря 1782 года строительный надзор принял распоряжение, запрещающее строительство фахверковых домов. Впредь следовало строить только массивные здания. Это произошло из-за того, что фахверковые строения больше других были подвержены огню. Они строились из деревянных вертикальных и горизонтальных брусов, промежутки между ними заполнялись глиной, камнями, а иногда и соломой. Сгорало такое здание в считанные минуты, дотла. Несмотря на то, что южная часть города во время пожаров выгорела практически полностью, склад Фридлендера каким-то чудом сохранился. Это здание, наверное, одно из немногих, представляющих некий интерес для краеведов, а может быть, и шире. Всегда об этом думаю, и признаться, с этими мыслями мне как-то легче каждый день выходить на улицу. Сегодня склад Фридлендера находится в заброшенном состоянии. Балтийский флот, в чьем ведении это сооружение, хранит в нем ненужные ему вещи, но, слава Богу, не сносит. Стены старого склада разбиты, в крыше – дыры, вокруг – лужи и грязь, через которую проглядывает еще более древняя конструкция - средневековая дорога, ведшая куда-то на юг, но сегодня упирающаяся в кирпичный забор. Может быть, когда-нибудь здесь откроют прекрасный выставочный зал, или новый склад но, а сейчас все говорит о заброшенности и ветхости.
Время больших пожаров 1764-1775 годов определило тогда пустырь. Он образовался вдоль реки, и там потом стали появляться мануфактуры. Самым значительным фабричным предприятием в этом районе города, да и вообще в Кенигсберге, стал Мельничный двор на берегу Старой Преголи. Его построили чуть в стороне, за воротами Фридлендер Тор. Здесь появились девять ветряных мельниц и 45 голландских домов для рабочих. Всем этим владела семья Дитрих. Это район города, в котором я живу, но сегодня, увы, здесь многое по-другому. Мельниц нет, правда, сохранились голландские дома, в них живут местные жители, до неузнаваемости, изменившие прежние здания, превратив их фактически в темные длинные сараи.
Мне доставляет огромное удовольствие находить смысл в окружающей меня действительности, в том числе, и в городской старине, потому что, например, склад Фридлендера – лишь малая толика всего того, что есть в этих землях. Например, здесь есть средневековый город мастеров. К сожалению, он лежит в руинах до сих пор, а местные жители медленно, но упорно растаскивают ценные кирпичики зданий этого города по своим берлогам. Мне повезло там побывать лет десять назад, и с мыслями о том, что руины города ремесленников и мастеров еще можно спасти, потом переосмысливал действительность, надеясь на некое возрождение. Но тщетно...
В город ремесленников Гердауэн мы поехали с моим бывшим тренером по легкой атлетике Семеном Фаустцовым. (Когда-то я занимался спритом и подавал какие-то спортивные надежды, но потом выбрал другу стезю). Несмотря на то, что, конечно, сейчас я не занимаюсь спортом, ежедневные тренировки уже и тогда были прекращены, дружеские отношение сохранялись. Правда, и Фаустцов ушел с тренерской работы и всерьез занялся восстановлением памятников старины. Фаустцов - сухой, сутулый, всегда с сонным лицом. На природе он как-то ожил, исчезла даже его шепелявость, а появилось ребячество. Да, это не плохо, когда в мужчине живет ребенок, но Фаустцов мало напоминал мне мужчину, в первую очередь, из-за его тонкого голоса. Еще - тонкие пальцы рук, тонкий нос – все это мало походило на мое представление о мужчине, про которого говорят, в нем живет ребенок. Скорее наоборот, Фаустцов был повзрослевшим ребенком, с наметившимися чертами увядания. Он был в джинсовой одежде, купленной в маленьких городках Германии, куда часто ездил за деньгами на свое предприятие. Всю дорогу он показывал мне разруху из окна автобуса, а тут, выйдя на улицу после утомительной дороги, стал прыгать как кузнечик, размахивая руками, и пританцовывая.
«Ах, как же хорошо! – Кричал он, пугая прохожих. – Здесь особая аура. Это удивительное место. Вон, там, где тогда-то был замок, там, посмотри-ка, - обращался он ко мне, - как будто облако плывет. Видишь, какого цвета. Нежного розового. Никогда такой цвет нигде не увидишь. Это, посмотри, - Фаустцов протягивал руку в сторону старинных зданий, - герб. На входе в каждый дом – есть герб. Лиса, волк, олень, заяц, лошадь. Каждая семья отождествляла себя с природой. Вписывала свою жизнь в жизнь этих лесов, озер, полей. Видишь, как мостовая уложена, камушек к камушку, с любовью. - Слушал Семена с удовольствием, потому что старинные постройки, хоть и в разрушенном виде, но уникальные, возведенные еще в 14-15 веках, не могли не производить впечатления, и соответственно, как-то по-особому воздействовать на сознание. - Это - кладезь для туризма. Восстанови дома, дороги, построй гостиницы, кафе, кемпинги – и вот вам новая Мекка, - продолжал Семен. – Много ли здесь надо денег. Да, копейки. Хозяин дельный нужен, который бы понимал толк в том, какое богатство – вокруг него лежит».
Вокруг действительно была живописная картина, и ее не испортила даже местная разруха. С небольшого холма, на котором стояли средневековые одноэтажные домики, близко подступающие к высокой полуразрушенной кирхе, открывался великолепный вид на озерцо, поросшее по берегам камышом и низкой крупной травой. За озером вновь был холм. На нем виднелась красная кирпичная стена, примыкающая к едва заметной каменной арке. На холме, густо поросшем лесом, когда-то был замок, принадлежавший королевской чете, но в годы второй мировой войны практически полностью уничтоженный. О последних днях этого замка, превращенного в руины, медленно и, казалось, с неохотой, рассказывал мне и Фаустцову местный житель Володя. Фамилии его я не запомнил. Семен представил его как беженца из Армении. Во время землетрясения в Ленинакане он чудом выжил, но потерял все - дом и семью. От своего горя он уехал подальше, в этот, казалось, Богом забытый городок на границу с Польшей. Володе было около пятидесяти. Но выглядел он молодо, потому что был опрятен и ухожен. Наверное, у него была хорошая жена, которая стирала ему, готовила и убиралась. В доме было чисто, пусто и тихо.
«Местные очень много пьют. С утра – уже очередь в магазин за водкой. Когда водки нет, воруют спирт с пивзавода. Здесь и до войны еще был пивоваренный завод. Местное пиво славилось по всей округе, - говорил Володя, поглядывая в окно и прислушиваясь к звукам, идущим с улицы. – Теперь никого ничем не удивишь. Гердаун разрушили пьяные советские летчики. Когда они пришли в этого городок, а здесь еще жили немцы, летчики наведались на пивзавод и нажрались, как это полагается, до поросячьего визга. Их ненависть к фашистам была столь огромной, что, конечно, она сала бурлить внутри их, вырываясь наружу, как только их рассудок помутился от очередной порции хмеля. Кто-то сказал, что в замке, возможно, есть немецкие военные, не успевшие уйти со своими. Что, мол, они совершают вылазки и продолжают убивать. Первое, что пришло в голову пьяному советскому командиру эскадрильи, - отдать приказ бомбить замок. Эскадрилья в хмельном угаре поднялась в небо, и превратила Гердаунский замок в руины. Там были какие-то богатства, но людей не было. Ни одного человека. Нашли лишь кошку и клетки с пушными зверьками. Их держал, видимо, тамошний конюх.…Знаете, что было бы самым большим событием для этих мест со времен той злосчастной ночи, когда разрушили замок, - восстановление его».
Фаустцов фыркал, когда слушал рассказ Володи, часто вмешивался, перебивал, но я привел этот небольшой рассказ без его оценок, так как это лишь мешало бы цельности и общего понимания сути того, что говорил человек.
«Советский командир на следующий день доложил, что была обнаружена группа фрицев, и что, поэтому пришлось поднимать в воздух эскадрилью. Ему приказали провести осмотр руин и все ценное, что там будет обнаружено, взять с собой и доставить в Кенигсберг. Проспавшись и протрезвев, летчики наведались в разрушенный замок. Они искали картины, золото, серебро, бронзу, фарфор. Но что можно было найти в руинах, виной которым, ко всему, они были сами, - Володя все время корректировал свои мысли, ввиду того, что Фаустцов часто сбивал его, называя советских летчиков то «сволочами», то «свиньями», то еще как-то. - Местные, уже, когда сюда пришли новые хозяева, быстро растащили то, что оставалось в замке. Там еще было очень много красивой мебели. Были фарфоровые сервизы, столовое серебро. Все это летчики смогли бы отыскать, если бы стали расчищать завалы. Но им было не до этого, они получили приказ, и пошли дальше на Запад, завоевывать Польшу и Германию».
«Там хоть что-то сейчас есть, - не терпелось мне побывать в замке. – Мы сходим туда? – Спрашивал я Фаустцова. – Хочется все увидеть своими глазами». Мне пообещали, что обязательно посмотри руины, а заодно, зайдем в гости к Мечникову, местному фермеру, построившему недавно дом на окраине.
Гердауэн действительно был и, наверное, все еще остается очень необычным местом, потому что здесь тихо, жизнь движется медленно, а природа (деревья, озера, луга, пастбища) тесно вплетена в местный уклад. Помню, что там была, и хотелось бы, чтобы еще сохранилась, а, может быть, даже была бы восстановлена каким-нибудь дельцом, большая мельница с током и элеватором. Про нее Володя говорил настороженно, приписывая ей влияние неких потусторонних сил, называя ее мельницей чертей.
Вообще, наш гид был человеком мистического склада характера, и его нездоровый блеск в глазах, как-то настораживал. Почему-то думал о его жене, которую очень хотелось увидеть, чтобы понять ценность этого человека. Какую из местных красавиц он выбрал? Но это так и осталось тайной, и именно это обстоятельство не располагало к нему, потому что тогда напрашивался бы другой вывод – о его отшельническом образе жизни. Я же аскетов не понимаю, и поэтому к этому человеку у меня было достаточно прохладное отношение. Сейчас, спустя годы, – ровным счетом никакое, лишь жалось ввиду того, что он потерял семью во время землетрясения. Нет и почитания, которое, наверное, должно присутствовать, так как человек ради идеи, связанной в данном конкретном случае с возрождением древних традиций ремесленничества, поменял Родину, оказавшись, Бог весь в какой глуши. Даже удивительно красивый жест, который кого-то мог великолепно украсить, когда Володя принес в комнату железную розу, сделанную его руками, как тогда, так и сейчас, не производит на меня впечатления, потому что рядом с розой, по моему глубокому убеждению, должна быть любимая женщина. Володю оставалось лишь пожалеть, понимая его горе, и возможные глубокие утраты, там, в Ленинакане, может быть, поэтому он и выглядел печально, с железной розой в руке, как Дон Кихот, сражавшийся с ветряными мельницами.
Но, тем не менее, наш гид был яркой личностью на фоне спивающегося населения небольшого Гердауэна. Он привел нас в замок. Идя по длинной аллее, вдоль красной кирпичной стены, ощущалось дыхание средневековья. Поросшая плющом, стена словно была высечена из земляного вала. На входе виднелась невысокая арка, возведенная с маленькими башенками, чем-то напоминающая трезубец. За ней располагались малочисленные кирпичные строения, назначения которых было трудно понять не только потому, что замок был когда-то сильно разрушен, но еще и потому что его уже пытались несколько раз восстанавливать, и все время не удачно. Виднелась свежая кирпичная кладка и железобетонные блоки. Новое строительство велось хаотично, то из одних материалов, то из других, часто приостанавливаясь. Видно было, что прежняя кладка уже подверглась разрушению временем, а новая кладка не была завершена, может быть, из-за нехватки кирпича, или денег. Кто именно занимался этим произволом, иначе все это назвать было нельзя, потому что реставрация шла без старинных чертежей, без фотографий, а лишь по воспоминаниям старожил, осталось тайной, как и то, была ли у нашего гида жена. Думать, что возведение замка ведет переселенец из Ленинакана, мне не хотелось, потому что тогда бы и вовсе испортилось мое мнение об этом человеке. Вот и сейчас придерживаюсь той позиции, что в разрушенном замке хотел поселиться, видимо, кто-то другой.
Фермер Мечников произвел на меня куда более сильное впечатление в отличие от кузнечных дел мастера Володи, прежде всего, потому что сам, своими руками, он построил дом, и это дело ему было к лицу. Когда мы вошли в его жилище, поразил сухой воздух и терпкий запах канифоли. Мечников берег этот воздух с убеждением, что он лучше способствует сохранности антикварной мебели, которой везде и в столовой, и в зале, и в кабинете, и в спальне было предостаточно. Мы обедали за огромным из красного дерева столом, сидя на высоких стульях, похожих на троны, у окна стоял массивный деревянный буфет, рядом с ним – такой же комод. Вся мебель была начищена до блеска, и казалась от этого величественной. Мечников принес старинный сервиз из китайского бело-голубого фарфора, главным атрибутом которого была большая супница с высокой крышкой, украшенной статуэткой, служившей одновременно и украшением и ручкой. Слабый куриный бульон с яйцом, заправленный петрушкой и укропом, в посуде королевской красоты, показался мне особенно вкусным. За обедом речь шла о замке, о том, что его когда-то разбомбили пьяные советские летчики, и о том, что, если бы удалось восстановить это видное и важное сооружение, то в нем можно было бы открыть небольшую гостиницу и уютный ресторанчик. Благо сейчас очень много немецких туристов приезжают в эти края, и клиентов было бы вполне достаточно.
Возвращаясь, в автобусе, мысленно представлял, каким красивым может быть ресторан, построенный из красного кирпича, с камином внутри, с длинными деревянными балками на потолке, с которых свисают большие чугунные люстры, с белоснежными скатертями на массивных дубовых столах, узкими окнами и витражами, передающими колорит средневековья. Нашел бы применение даже разбитому колесу от телеги, валявшемуся в сарае, установив его у самого входа в ресторан, как символ дальней дороги. Ну, да, ладно, все это были лишь мечты, навеянные новыми впечатлениями, а не что-то вполне определенное, наполненное конкретным смыслом и подкрепленное денежными средствами. Повернувшись к Фаустцову, чтобы спросить его о планах, увидел, что он спит, и мне показалось, по крайне мере, прочел это по его длинному сухому лицу, что приезд в Гердауэн, для него носил праздный характер – попробовать бульончик Мечникова. Таким мне запомнился Степан Фаустцов, которого потом видел неоднократно оп телевизору, иногда встречал в машине, за рулем, на дороге, мы обменивались наигранными улыбками, оценивая стоимость своих автомобилей, в жизни виделись редко. Последний раз увидел Семена случайно в гипермаркете «Все для дома». Тогда, на свой же вопрос «Строишься?» он неоднозначно кивнул головой, словно бы говоря, мол, и до тебя очередь дошла в этой жизни.
Тем не менее, в молодости Фаустцов оказывал на меня определенное влияние, пытаясь по привычки старшего тренера, привить вкус к жизни. Он заочно познакомил меня с одной пианисткой. Было это в тот период мой жизни, когда пытался найти точки опоры, и сейчас, воспринимаю это знакомство, как типичный пример жизненного лабиринта, в котором оказался. Мне даже кажется, что до сих пор блуждаю в его стенах, ища выход, но постоянно упираясь в тупик. Фаустцов был уверен, что я должен был непременно жениться на еврейке, в этом заключался мой крамольный смысл бытия, что только еврейская женщина могла бы сделать меня счастливым, ввиду того, что я, по его мнению, был личностью одаренной и уникальной.
Так в моей жизни появилась Инесса Мергель. Время, проведенное с ней, не было пустым, но было недолгим. Позвонил ей около девяти вечера. Был холодный февраль, шел к ней в гости, разыскивая улицу, на которой она жила, неся с собой пакет с апельсинами, купленными в полупустом магазине, где на длинных витринах, были уложены пирамидками банки с консервами. Не зная района, дважды принимался звонить Инессе из телефона-автомата, потому что не мог найти дом, она даже удивленно спрашивала меня, местный ли я, и почему так плохо ориентируюсь в городе. Блуждал по улочкам и переулкам впотьмах, не понимая, отчего нигде нет нужного дома. Потом позвонил еще раз, чтобы переназначить свой приход в гости. Услышал недовольный женский голос, спрашивающей все ли в порядке у меня с головой. Конечно, уже тогда понимал, что после таких заявлений ничего хорошего быть не может, и что про еврейскую девушку мне придется забыть, даже если впоследствии она окажется хороша собой. Еврейские девушки часто бывают очень хорошенькими, оттого что обладают не только какой-то внешностью, но и оттого что имеют пытливый ум, наполненный знаниями и сообразительностью, но даже у миловидных евреек всегда есть что-то, чего подспудно боишься, и это что-то – мужские черты характера. Лучше, когда еврейка родилась страшненькой, свою внешность она осознает рано, и рано начинает по этому поводу не только беспокоиться, но и плакать, а потом у нее появляются отеки вокруг глаз, и чтобы их скрыть, глаза ее часто бывают яркими от большого количества используемой косметики. Еще не встретившись с Инессой, стал понимать, что надо обладать расчетливым умом, чтобы покорить ее сердце. Позже из уст Мергель мне были приведены примеры таких расчетливых людей, по молодости, а тогда мне было двадцать лет, не знал их, смутно представлял себе их лица, пытаясь вообразить их по звучанию фамилий.
Мергель не произвела на меня особого впечатления. Она относилась к тому типу женщин, которые все время озадачены своей предполагаемой полнотой, вроде бы еще и не полные, но уже начавшие поправляться, терять девственную свежесть, повторяя постоянно, что надо бы заняться фигурой. У нее было круглое лицо с черной копной волос, которые, казалось, что она завязала на голове как косынку. Несмотря на то, что у нее были красивые дорогие очки, они портили ее, их наличие на ровненьком носике, на мой взгляд, было не к месту. Инесса это поняла, и потом часто их снимала, но, словно, одумавшись, одевала вновь, показывая тем самым свое безразличие к моему мнению по поводу ее внешности. Но она брала и другим – особым тембром голоса, надменностью и долгим изучающим взглядом, словно она была не просто женщина, а женщина королевских кровей.
«Ну, вы странный человек, - говорила она, когда я снимал куртку в прихожей. - Первый раз ко мне приходят в гости со второй попытки. Что там у вас, апельсины? Люблю. Это Семен сказал, что я люблю апельсины?»
«Да, Семен, - отвечал, снимая ботинки. - Можно и на «ты» перейти, зачем эта фамильярность».
«Откуда я вас знаю, какого вы про себя мнения. – Инесса говорила с легким оттенком заигрывания, с каким женщины обычно разговаривают с мало знакомым мужчиной, пытаясь ему понравиться. Но она чувствовала, что этого не происходит, и поэтому торопила события. – Ну, вы будете коньяк? Или – просто чай. Ах, да, мы перешли на «ты». Тебе что больше нравится коньяк или чай с коньяком? – Ее голос был надменно нахальным, указывающим на неотвратимую близость, которая полностью будет зависеть от ее расположения. Меня рассматривали исключительно, как новую персону, с которой завра можно будет и не здороваться при встрече».
Взяв паузу, пытался подыскать нужный ответ на колкий вопрос Инессы, граничащий с грубостью. Она уловила момент и, дав мне подумать, уж знала, что скажет дальше. Наш диалог напоминал игру в шахматы, когда каждый последующий ход уже не имел значения, так как вся партия была просчитана заранее.
«Я не пью», - мне больше ничего не пришло в голову. Войдя в комнату, посмотрел на Инессу Мергель, увидев ее лучезарные глаза, которые стали объемнее при ярком освещении.
«Вы опасный человек… - Прошептала Инесса. – Ну, хотя бы чай вы будете» Она поняла, что партия проиграна, и пошла на кухню, заваривать чай.
Этот диалог помню, хотя прошло много лет, потому что, познакомившись с Мергель, впервые в жизни понял ценность женского слова. Этому правилу придерживаюсь всю жизнь. Слово женщины бывает очень ценным, им следует дорожить, потому что оно основано на интуиции и особой женской логике, выстраиваемой из желания нравиться, а также более глубоком понимании жизни ввиду того, что женщина рано или поздно становится матерью. Это накладывает отпечаток на ее поведении и поступках, которым чаще всего предшествуют слова.
Нет смысла рассказывать всю встречу в деталях, потому что многое уже и не вспомню, а то о чем расскажу, будет не завершенным, оттого, что наше знакомство так ничем и не закончилось. Но я вспомнил ее образ сейчас, спустя столько лет, потому что увидел в нем сходство с другим человеком, мне знакомым лишь по письмам, опубликованным на русском языке совсем недавно. Это дневники и письма Мии Брахерт, жившей в Кенигсберге до Второй Мировой войны. Книга эта, объемом чуть более ста страниц, написанная наполовину ну русском наполовину на немецком языках, досталась мне во время приезда в бывший немецкий городок Георгенсвальде, где сейчас есть маленький музей Брахертов.
5.
Мое ощущение, окружающего меня пространства, мое понимание направления улиц, дорог, знания их ( с твердым ли они покрытием или земляные, проселочные, или шоссе) умещается, как в небольшом флаконе, в мое постоянное соприкосновение с довоенным прошлым, и в виду закрытости земли, на которой живу, не выходит за пределы каких-нибудь ста километров, не переходит в некую масштабность, в некий космос, - остается всегда ясным. И пахнет, как дорогие духи. Здесь – река и лес, там – дорога и город, дальше – море и небо, упирающееся в горизонт.
Я привез в Георгенсвальде немецкого архитектора господина Фйогле, представлявшего интересы своего соотечественника мультимиллионера. С ним была русская переводчица Галина, и русский сопровождающий, живущий на Западе, господин Ян Косницкий. Все они производили разное впечатление. Ввиду того, что я не знаю немецкого, а господин Фйогле русского мы практически не общались. Галина и Ян, обращаясь ко мне, разглядывали меня, как дети разглядывают сладости за стеклом витрины магазина. Их интерес пропадал, как только появлялся Фйогле, потому что он для них был и папой, у которого можно попросить денег, и воспитателем, которому необходимо подчиниться, и путеводной звездой, ведущий к мировым знаменитостям, в фешенебельную жизнь. Для многих русских это очень ценно.
Фйогле был пожилым, с густой седой шевелюрой, но динамичным, меняющим пиджаки один за другим, то на темно-синий с алой атласной подкладкой, то на замшевый светло-коричневого оттенка. Он носил перчатки. Одевал их даже в солнечную погоду, правда, когда на улице было хоть немного прохладно. У него был приятный тембр голоса, которым, вне всякого сомнения, пожилой немец часто пользовался, соблазняя женщину. Это первое на что я обратил внимание, потому что, за рулем машины, отправляясь в дальнюю дорогу, некогда смотреть по сторонам, но есть много времени, чтобы слушать. Я слушал, улавливая знакомые интернациональные слова и интонацию, с которой они произносились, и складывал их в мысли, получая совершенно неожиданные для меня образы и открытия. Так, не зная языка, можно понять его смысл, а он был предельно прост – все, что было мне знакомо и дорого, было чужим и никчемным для Фйогле. Он винил во всем тех, кто живет в этих местах, - в том, что уничтожены прежние ценности, в том, что когда-то здесь была создана тоталитарная среда, угнетающая человека, в том, что и сейчас не происходит необходимых положительных сдвигов. Увы, русские так же как и много столетий назад богаты единичными личностями, но живут в повсеместной бедности. Наверное, примерно таким был лейтмотив всех его высказываний. Галина, сидящая на заднем сидении вместе с Фйогле, молчала, поджав плечи, а Косницкий, не слушавший своего важного сопроводителя, жадно рассматривал мелькающий за окнами автомобиля пейзаж.
Никто никогда не обвинит меня в том, что я называю сегодняшние города и поселки прежними названиями. Делаю это не потому, что прежние названия звучат более оригинально, и даже не потому, что пытаюсь отдать дань уважения тем людям, которые когда-то здесь жили. Подчеркну, что далеко не все они были нацистами, издевавшимися над людьми, поработившими нации и народы, более того, подавляющее большинство из них были людьми вполне достойными. Прежние немецкие названия для меня лично - как тоненькая ниточка, ведущая в глубину истории этих земель, неразрывно связанной с историей всей Европы, соседних стран, Балтийским морем, объединяющим десятки государств. Кенигсберг нельзя взять и обрубить границами от остальной Европы, также как нельзя отсечь Пиренейский полуостров или зарыть Датские проливы. Но попытка этому предпринята, а результат у этой попытки весьма сомнительный. Вот такие мысли рождались в моей голове, когда, сидя за рулем машины, вез Фйогле в Георгенсвальде, как бы отвечая на его не понятный мне немецкий.
На улице было не по-летнему холодно. Тому виной - прошедшие накануне дожди с порывистым ветром, от которых все вокруг стало влажным и грязным. В Георгенсвальде, у калитки домика Брахерта*, в котором расположился музей в его честь, есть философская скамья в виде глыбы мрамора. Каждый желающий может присесть. На ней всего одно место. Но, когда мы входили, ввиду того, что мрамор в день нашего приезда был мокрым, никто из нас не обратил на нее внимания, зато потом, когда выходили, хранительница музея, указав на эту достопримечательность и стерев с нее ладонью капли дождя, предложила присесть, попробовали все – холодно, одиноко, но думается, действительно отменно.
Как хорошо когда-то жилось в этом уютном гнездышке, вдали от столичной суеты, от больших дорог, под высокими соснами, скрипящими своими тонкими стволами, шатающимися от ветра, различая где-то между кустарником молочное балтийское небо, вслушиваясь в убаюкивающую песнь моря. Двухэтажный маленький домик, построенный по чертежам Германа Брахерта, известного немецкого скульптора, чьими работами были украшены фасады кенигсбергских зданий, а скульптуры поражали тонкостью линий, кажется, и сейчас хранит звуки и тени прошлого. Его большие стеклянные двери, открывающие милый вид в сад, на яблони и сливы, на зеленую лужайку, где можно посидеть в шезлонги или покачаться в гамаке, - одно из главных украшений, придающих дому некую сказочность. Скрипучая лестница, ведущая в мансарду, звуки фортепиано или, может быть, граммофона, доносящиеся из светлой низкой гостиной - эти очертания прошлого - лишь маленький глоток тихой унылой счастливой идиллии, которую успели вкусить Брахерты, но пожить по-настоящему здесь им не удалось. Герман был вынужден уехать в Штуттгарт. Сразу после прихода к власти ставленника нацистов Эриха Коха, ему запретили заниматься профессиональной деятельностью в Кенигсберге. Брахерты перебрались в Георгенсвальде, а в 1944 году Герман вынужден был вернуться на родину в Штуттгарт. Для Мии также этот маленький домик стал последним местом, где нашли прибежище она, ее сын и их знакомые, спасавшиеся от налетов английской авиации в августе 1944 года.
Последние дни августа 1944 года были особенно тревожными для Кенигсберга. Советская армия уверенно шла на Запад. Уже был открыт второй фронт союзников в лице Великобритании, Франции и США, и они стремились, учитывая свои экономические интересы, проявить себя на восточном фронте, где, конечно, шли ожесточенные бои. В ночь на 27 августа Кенигсберг подвергли первой масштабной атаке. Сотни английских самолетов, летевших плотно друг к другу, произвели ковровую бомбежку северный части города. Затем в ночь на 29 августа те же самые летчики бомбили Кнайпхоф – сердце Кенигсберга.
***
Теплая летняя ночь. В доме Брахертов тихо, в гостиной горит приглушенный свет. На круглом, покрытом белоснежной скатертью, дубовом столе, в вазе стоят высокие гладиолусы с багровыми матовыми бутонами. За окнами луна освещает темную аллею сада так ярко, что, кажется, тени деревьев гуляют по лужайке словно люди. В этой тихой ночной красоте никто не видит вспышек света – точечных ударов авиации, а гул самолетов сначала принимают за шум прибоя, оттого что все это далеко, где-то на юге, и не понятно мерещится это или существует в действительности. Никто в Георгенсвальде не понимает сути этой гнетущей тьмы, освещаемой то холодной луной, то блуждающим прожектором. Ночью небо Георгенсвальде становится светлым, потому что его освещают уже множество прожекторов, где-то за облаками скрывается луна. Она больше не нужна в этой торжествующей красоте жизни, здесь, на берегу моря, под высокими стволами сосен. Но и в дом Брахертов от случайно упавшей на пол маленькой бронзовой статуэтки приходит гнетущее чувство страха. В направлении Кенигсберга слышится возрастающий гул в воздухе, и все отчетливее - взрывы бомб, виднеются вспышки огня. Дом Германа и Мии содрогается, когда в Нойкурене, поблизости начинают бомбить аэродром, и кажется, что самолеты – везде, повсеместно, словно воронье, они сбились в огромные стаи. Теперь уже нет сомнения, авиация бомбит не только Нойкурен, но и Кенигсберг.
В эту злосчастную августовскую ночь он перестал существовать. Тысячи людей были заживо погребены под обломками разрушенных зданий. Центр города горел так сильно, что люди, находившиеся в Георгенсвальде, видели алое небо пожарища над Кенигсбергом. Там – улицы, магазины, дома, склады, банки, скверы и парки образовали сплошное море огня, в котором погибло, если уж быть точным, - 4 тысячи 200 человек, и еще 200 тысяч человек в результате бомбовых налетов остались без крова и средств существования. Самое ужасное в этих двух бомбежках – в ночь с 26 на 27 августа, когда уничтожили северную часть, и с 28 на 29 августа, когда в груду развалин превратили Кнайпхоф, было то, что авиационные налеты были направлены против мирных жителей. Один из старейших городов Европы, которому было 700 лет, превратили в руины.
В начале осени 1944 года в дом Брахертов стали приходить семьи знакомых, спасшиеся от бомбежек. Пришли напуганные Эберты и Либентали. Первоначально их поселили в мастерской. Через несколько дней им пришлось переехать в спальню, уступив место Лизе Будзински с ее двумя маленькими дочками.
Все выглядит совершенно богемно. В маленьком домике живут одиннадцать человек – это семьи Эбертов, Либенталей, Мартенсов, ну, и сами Брахерты, или точнее Мия Брахерт и ее сын Томас, который учится в школе в Россгартене, и каждый день ездит на велосипеде, на попутках из Георгенсвальде в Кенигсберг и обратно. Все они спят кто где, на кроватях, на матрацах, на раскладушках. Но каждый раз они, закрывая глаза, видят перед собой зарево пожара, слышат чудовищные стоны раненных, крики матерей, разыскивающих своих детей. В груди пощипывает оттого, что они все потеряли собственный кров. Сотни, а может, тысячи людей живут и спят в лесах Георгенсвальде, питаются от костров, ходят по домам, прося хлеба и ночлега.
«Это был сущий ад, - тихо-тихо говорит Лиза, закрыв за собой дверь в мастерскую, где спят ее дочки, словно продолжая разговор, начатый до того, как она пошла укладывать детей. - Кнайпхоф представлял море пламени, в котором не было спасения. Горящие люди вместе с детьми прыгали в Преголь».
Каждый в доме Брахертов прислушивается к рассказу о том ужасе, который пришлось пережить, и каждый считает, что этот рассказ не полон, что пережитое еще страшнее и беспощаднее, чем сказанное.
«В Кенигсберге называют реку мужским именем Преголь или Прегель, кому как вздумается. Река же названа так в честь прусской царевны Преголи, - дополняет пустоту, образовавшуюся после слов Лизы замуправляющего Георгенсвальде господин Лихтенштейн, зашедший поблагодарить Мию за то, что она смогла разместить у себя столько беженцев. – Вы, дорогая моя, настоящая сестра милосердия. Огромное спасибо! У вас - доброе сердце».
Мия - Мария Вильгельм фон Вистингхаузен родилась 21 декабря 1893 года в России, и во время бомбежки Кенигсберга ей было уже больше пятидесяти лет. Ее отец купец и банковский служащий Максимилиан фон Вистингхаузен и ее мать Мария Финайзен жили в Санкт-Петербурге, и считали себя русскими, хотя и имели немецкие корни. Мия была четвертым ребенком в семье из шести детей. В 1913 году, накануне Первой Мировой войны, Вистингхаузены переехали в Штуттгарт, и там получили немецкое подданство, при этом через шведские банки им шли доходы от сдачи своих квартир в столице Российской империи. Старший сын Армин остался жить в России. В Москве он преподавал музыку, немецкую и русскую литературу. Там встретился с Зинаидой Касициной и уехал с ней в Штуттгарт к родным. В 1915 году они поженились. Через год замуж вышла и Мия, познакомившись с Германом Брахертом. Ее сестра Марта в годы войны ухаживала за ранеными, Мия делала это же, рассказывая Герману, как тяжело приходится тем, кто воюет на фронтах. Она заболела тяжелой формой туберкулеза, и, после долгого лечения, чтобы поправить ее здоровье Брахерты переехали на балтийское побережье. Они мечтали о собственном доме на берегу моря, но, увы, они не были безмерно счастливы, когда спустя многие годы, смогли осуществить свою заветную мечту. Поселившись, казалось, в райском уголке балтийского побережья, но преследуемые нацистскими властями, они потеряли многое – Герман работу и положение в обществе, а они все вместе главное – надежду на светлое будущее.
Теперь же Мия тешит себя иллюзией, что война пройдет мимо. Ей жаль дом, который достался большой ценой, жаль свою жизнь, обещавшую стать счастливой. Думалось, что вот, наконец-то, пришло спокойствие, о котором так много она мечтала – болезнь ее не беспокоит. Есть уединение и какая-никакая работа фотографа в Королевском замке, – а как легко дышится в Георгенсвальде! Но как же тяжело будет расставаться с этим райским уголком природы. Мия медлит, надеясь спастись здесь, как в Ноевом ковчеге, и лишь судьба ее брата Армина, уехавшего в 1917 году со своей женой в Россию, и пропавшего потом без вести в лагерях, где-то в Сибири, рассеивает ее иллюзии. Она ищет в доме Лизу Будзински, ждет, пока она уложит спасть своих дочек, обдумывая, как нужно объяснить ей то важное, о чем она думает уже больше двух недель. Сегодня она наконец-то подписала документ. Она держит в руках бумагу с печатью управления Георгенсвальде. Вот появляется Лиза. Мия подзывает ее к себе, и начинает сначала уверенно и оптимистически, но потом сбивается и глубоко вздыхает.
«Ты – прекрасная женщина, порядочная, чистоплотная, трудолюбивая. К тому же, ты просто умница, ты хорошо знаешь русский язык, - говорит Мия, обращаясь к Лизе Будзински, - и к тому же ты – полячка, это написано в твоем паспорте…У тебя – дочки, а у меня - сын. И он, конечно, немец. Мы уедем. – Лиза слушает Мию, пытаясь застегнуть пуговицы на кофточке, немного склонив голову, чтобы скрыть переполняющие ее чувства. Она ясно понимает обращение хозяйки дома именно к ней с такой емкой фразы «ты знаешь русский». Этот дом так хорош – его построил знаменитый архитектор, так уютен и чист, в нем отремонтирована кровля, а стены утеплены, за что ни возьмись – все крепко и на века. – Не навсегда. Мы вернемся, когда закончится война. Этот дом мы очень любим. Но он не может быть без хозяйки, иначе его разберут по бревнышкам. Я называю его своей второй Родиной. Лизочка, ты должна взять на себя хозяйство. Живите здесь. Я написала, что передаю тебе на временное содержание наше милое гнездышко. Господин Лихтенштейн заверил этот документ. На, возьми».
Понятие родины не может состоять только лишь из одного дома, может быть, очень любимого и дорогого сердцу, из соснового бора и шума прибоя, как бы они не ласкали душу, это понятие гораздо шире, потому что соткано из человеческих отношений, создающих атмосферу жизни, быт, уклад, устройство, строй. С приходом русских, в этом доме поселятся еще две семи. Для Мии здесь уже не будет родины, потому что ее родина там, где Герман. Позже, с приходом советской власти, общая кухня здесь, в их доме , станет нормой, а пока – одни лишь предположения, испуг, обеспокоенность.
«Это так, на всякий случай, - продолжает Мия, - вдруг, смогут отстоять Кенигсберг. Тогда, мы, конечно, никуда не уедим. Но мне сейчас приходится ездить туда каждую неделю, у меня много не доделанной работы. Со мной может что-то случиться, и мой сын должен быть уверен, что…Лиза, помоги нам. – У Мии дрожит голос. Ей не хочется говорить о том, что даже в отсутствии Германа, дом все равно будет принадлежать Брахертам, но Лиза – умная женщина, она все прекрасно понимает, ей не надо ничего говорить. Более того, она понимает и то, что Брахерты уедут навсегда, и что ее знание русского языка и ее польские корни – станут спасительным плотиком в море меняющихся обстоятельств. Ей жаль себя и Мию, она целует ее руки, плачет, понимая ценность передаваемого ей документа. Она сможет предъявить его кому угодно. – Если придет Томас, не показывай этого. Ничего ему пока не говори. Живи здесь и хозяйничай. Места хватит всем».
Восточный фронт давно двигался в сторону Пруссии, и многим был ясен исход дальнейших сражений, но в Кенигсберге думали, что самое страшное уже позади. Что может быть хуже дымящихся руин Кнайпхофа, видневшихся из окон полуразрушенного Королевского замка? Оказывается еще страшнее руин – смерть, которая сопутствует им. Каждый день в Кенигсберге кого-то хоронят – убитых, умерших от ран и болезней. Несмотря на то, что городские власти борются со смертью, жизнь в городе уже напоминает агонию.
Фйогле проявил небольшой интерес к дому-музею Германа Брахерта, в восторге же он был от Балтийского моря в Раушене. Мощью своих волн у высоких склонов оно завораживало путника, спустившегося с этих склонов, и выбежавшего на променад, так стремительно, словно у него выросли крылья, как у баклана. «Dieses Meer – irgendwelche Hoffnung der Erz;hlung ;ber Bracherte sonst zuh;rend, ist ein wenig traurig geworden» (комп. перевод на немецкий)* (*Это море – какая-то надежда, а то, слушая рассказ о Брахерте, немного приуныл), - говорит Фйогле своей переводчице, затем, не вдаваясь в подробности ответа, выбегает на песок, и идет стремительным шагом куда-то вдаль.
Мы с Косницким бредем медленно по набережной, давая возможность Фйогле насладиться морским простором. Здесь в Раушене бываю довольно часто. Приезжаю сюда, когда у меня плохое настроение. Это вошло в привычку. Наверное, оттого здесь(в моем представлении) всегда унылая пора. Тихо, и слышно, как падает на пол ложка в каком-нибудь ресторане. В 1944 году в парке под тенью высоких буков была установлена прекрасная скульптура Германа Брахерта «Несущая воду». Он выточил нежность женских линий, воспользовавшись красотой своей русской жены Мии. Скульптура обладает магнетизмом, как и все великие произведения искусства. В летние месяцы мрамор становится теплым, и это тепло словно вдыхает жизнь в холодный камень, и кажется, что женщина приподнимет кувшин, который она держит на своей голове, как это делали многие женщины в Древней Греции, отправляясь за водой, и оставит его на землю. Почему-то думаешь, что там обязательно есть живительная влага. В этой скульптуре не просто талант Германа Брахерта, в ней – жизнь, Бог. Она простояла на улице Раушена более 50 лет, пережила послевоенное лихолетье, но не вынесла издевательств вандалов. Иногда об ее мрамор они тушили сигареты, иногда расписывали граффити, но власти быстро приводили скульптуру в порядок. В конце 90-х годов двадцатого века «Несущей воду» отбили нос, и тогда приняли решение создать точную копию этой скульптуры, установить ее в парке, а оригинал поместить в музей. Здесь. В доме-музее Брахертов, и хранится теперь отреставрированная скульптура «Несущая воду».
Иду по променаду, думаю о Мии, о том, что, на мой взгляд, она похожа на Инессу Мергель, а Косницкий бежит разглядывать янтарные украшения, которыми торгуют на с лотков местные умельцы. Он выбирает большие увесистые дешевые бусы из искусственного янтаря, и видно, как он удовлетворен этим и вообще поездкой к морю, потому что видит в бусах завидные перспективы. Кому-то они, наверное, очень понравятся. Искусственный янтарь бывает не просто отличить от настоящего. Фйогле – ценитель всего настоящего. Он останавливается рядом с торговцами, начинает изучать янтарные украшения. Часто они содержат внутри пласты жизни, происходившей миллионы лет назад. Крохотные инклюзы с комариками и жучками стоят добрую сотню долларов, а янтарные колье в серебряной оправе продается еще дороже. В ювелирных салонах Германии такой янтарь идет по цене драгоценных камней, так что лучше его купить здесь, в Раушене, и переводчица Галя примеряет на себе янтарное колье, браслет и кольцо. Очень красиво – светло-желтый янтарь, выглядывающий из-под ее черного легкого пальто, - он облагораживает. На лице Фйогле – самоудовлетворение: нет ничего прекраснее русской женщины, грудь и запястья которой украшены солнечным камнем, да еще купленным за такую смехотворную цену. Самоудовлетворение – это самооценка, связанная с собственным мнением о самом себе. Фйогле себя уважал, зная за что, - за умение быть галантным, за интеллект, за связи и возможности, которые эти связи давали, иначе относятся к самому себе люди, которые живут без всякого уважения к самим себе, но при этом они тоже испытывают самоудовлетворение. Правда, оно другого толка, и чаще связанно с унижением другого человека, ради ошибочного осознания собственной значимости.
6.
Таким был Зураб Симония. Он как-то странно появился в моей жизни. Став свидетелем дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала моя машина, он стал оказывать мне всяческую помощь, чтобы я не прогадал в ее ремонте. Сейчас спрашиваю себя – почему? Мне казалось, он был искренен в своих поступках, поэтому быстро вызвал во мне уважительное к нему отношение. Зураб был выходцем из Абхазии. Когда мы познакомились, ему было около пятидесяти лет, хотя возраст, казалось, шел мимо его, он был рьян и авантюрен. Роста он был среднего, с довольно неуклюжей фигурой, - короткими ногами и выступающим вперед животом. Работал Зураб врачом в Лиска-Шаакенской больнице – это глухая провинция, люди здесь, как и вообще на селе, пьют, дерутся и обогащаются за счет соседей. Эти черты сельской местности российской глубинки, несмотря на то, что Симония жил в городе, но все-таки работал он на селе, не миновали и его. Он любил плотно выпить и сытно поесть, от этого иногда страдал похмельем, и завидовал тем, кто ни разу в жизни не испытал похмельного синдрома, и мне в том числе. Драться он был всегда готов, но не всегда позволял случай, а часто ввиду его природной трусливости, он бил либо исподтишка, что было как-то и не заметно, либо с помощью других, поэтому вел знакомства с теми, кто может нанести удар, не выясняя деталей, кто прав, кто виноват. Наверное, ввиду авантюрности своего характера, он и решил помощь мне в ремонте машины. Действовал он напористо и отчаянно, но в итоге, несмотря на то, что я был пострадавшим и не виновным, мне ничего не заплатили. Хотя, займи Зураб позицию свидетеля происшедшего, а не мнимого помощника, я мог бы рассчитывать на возвращение убытков. Даже начал подозревать, что Симония действовал в сговоре, но, нет, конечно, сговора никакого не было, просто Зураб Симония был таким человеком – готовым оказать любую «медвежью» услугу.
Тем не менее, мы подружились, потому что все-таки он казался мне не плохим. Он помог отремонтировать машину иным способом, по знакомству, не взяв с меня ни копейки. Хорошо помню, как мы отправились в маленький рыбацкий поселок Шаакенвитте на берегу залива. Там нас встретил знакомый Зураба, пожилой рыбак, подрабатывавший на ремонте машин. Его жена вынесла нам яблок, и, отдав их, хотела даже погладить руки абхазца, - так она его уважала. Но вышло все как-то неуклюже. Яблоки рассыпались, и женщина стала их собирать, став на четвереньки перед заглядывающим в дом сельским врачом. Увы, с Симонией приключилась беда. Он умер в храме, хотя редко посещал их. Как-то он зашел в храм во время литургии, поднял голову вверх, чтобы рассмотреть роспись на стенах, и, когда глубоко вдохнул, ему в горло залетело голубиное перышко, упавшее с купольного свода, где обитало стая голубей. Перышко перекрыло доступ кислорода в легкие. Зурабу стало нечем дышать. Когда, протянув руки к священнику, он попросил о помощи, тот испуганно стал перекрещивать его, полагая, что в прихожанина вселился бес. О, если бы это было не перышко, а косточка, или еще что-то твердое, наверное, ее можно было как-то выбить и спасти Симонию, но никто не знал, что следовало делать в такой ситуации, и он умер прямо на руках священника. Морщины, оцепившие когда-то его лицо, теперь разгладились, и оно было похоже на лицо ангела. Как много в нем было бесноватой души! Зураб умер. Так говорили, хотя, кто-то позже видел его живым, но, наверное, это были сплетни. Конечно, он умер, по крайней мере, для меня.
В Лиска-Шаакен я привез свою мать. Она потеряла память, перестала узнавать родных и близких. Произошло это от какого-то удара, но, ввиду того, что она потеряла память, как тогда, так и теперь она не может вспомнить, что стало причиной сотрясения головного мозга. Было это еще до того, как моему отцу поставили страшный диагноз, и отец тогда оказывал ей большую помощь, но и он был бессилен перед нахлынувшим горем - потерять себя в лице родного человека. Зураб взялся помочь. На его машинюшке, которую он использовал для подобных случаев, он привез меня и мою мать в отдаленную сельскую больницу, быстро развел всех по местам, выделив матери койку у двери.
Люди в этой больнице не просто лечились, они там жили. Кто-то приходил сюда пожить на две-три недельки, скрываясь от своего мужа-дебошира, кого-то упекла в сельскую больницу зловредная дочь, кто-то пытался вылечить здесь похмельный синдром или белую горячку. Многие помещали в эту больницу умирающих стариков, чтобы, дождавшись их смерти, получить справку, которая бы позволила переписать какое-то их имущество и вообще спокойно уладить похороны. Местные больные были почти домашними пациентами. Всех их Зураб отлично знал, проявляя особую заботу к тем, у кого были молодые здоровые сыновья. Когда те заходили в его кабинет, он становился агрессивным, указывая свысока на их крестьянские недостатки – грязь на руках, синяки под глазами, немытые волосы, запах перегара. Но Зураб любил свою работу, и поэтому каждый день, и в дождь и в снег, и, когда на улице – жара и хочется отправиться на море, он ездил за полста километров, чтобы просто помочь людям, которые, как мне казалось, больше нуждались в человеческой заботе, чем в медицинской помощи. Именно в такой – грубой, агрессивной, громкой заботе, которую только и понимают на селе. За это ему несли дары – мед, сливы, домашний творог, рыбу, и даже, если бы он не получал зарплату, он бы никогда не умер с голоду.
Больница в Лиска-Шаакене располагается на небольшой возвышенности, и, благодаря тому, что перед ней от дождей и сырости вырос огромный пруд, уничтожив сливовый сад, ее здание из красного кирпича, теперь заметно каждому, кто проезжает по небольшой шоссейной дороге поселка. Магазин и клуб с заколоченным окном располагаются в убогом пошарканном одноэтажном здании напротив, прямо у дороги, и их не так видно, как сельскую больницу – наверное, это лучшее, что есть в округе, ведь расположили ее в некогда зажиточном поместье немецкого бюргера. Теперь, конечно, никаких немцев здесь нет, но следы их жизни видны повсеместно. Жаль, что их аккуратные хозяйственные постройки превратились в сараи, а колодец с журавлем сейчас засыпан землей. Сегодняшние жители Лиска-Шаакена медленно и настойчиво эти следы прошлого размывают, затаптывают, стирают. Но однажды это прошлое приехало к ним в гости. Это были бывшие владельцы этого дома, в котором, кстати, еще во время их хозяйствования здесь, часть помещений была отдана под лазарет. Тучный седовласый немец и высокая седовласая немка - его жена, с испуганными глазами, медленно передвигаясь, шли по аллее, ведущий к их бывшему гнездышку. Наверное, они говорили – "а помнишь, вот здесь была скамейка, а здесь росли астры", - пожилая женщина плакала, стирая большие темные слезы со своей щеки.
Зураб встретил их в своем кабинете, не вставая, спросив, что-то вроде, - ну, что, мол, много народа теперь живет в их бывшем доме, - переводчик, прибежавший с опозданием и жующий бутерброд с колбасой, быстро перевел эту фразу. Пожилой немке Зураб не понравился, она отвернулась, потирая ладонью свое сердце, а ее муж достал бумажник и вынул оттуда сто марок. Симония взял деньги, потряс ими, словно взвешивая, отвел чету на кухню, где кухарки поставили на маленький столик у окна две тарелки с жиденьким супом, чай и гору бутербродов с маслом. Немцы ничего не ели, рассматривая вид за окном. Держась за руки, они о чем-то тихо говорили, и было видно, как в глазах пожилого немца дрожала слеза.
Моя мать, оставшись наедине с чужими людьми, с чужим миром, не понимала, что происходит вокруг. Она заходила в кабинет к Зурабу, и задавала ему вопросы, на которые он никогда бы не смог ответить, потому что не знал ни ее прошлой жизни, ни то, чем и как она живет сейчас. Он смотрел на нее туманными глазами и цокал, думая о бесперспективности жизни людей вне здравого рассудка. Каждый день ездить в Лиска-Шаакен я не мог, и от этого Зураб начинал выходить из себя, открыто грубить ей, и даже однажды захлопнул перед ней ногою дверь. Об этом мне сказала пожилая женщина, которая лечилась в больнице. Я проглотил эту обиду, потому что не знал, что мне делать с матерью, находящейся в состоянии бреда. Зураб позвонил мне на работу через пару дней после того, как мы привезли мать в его больницу, и сказал, чтобы я забрал, как он выразился, родственницу. Через пару часов Симония приехал сам, и мы отправились в Лиска-Шаакен. Дорога была пустой, и поэтому мы быстро доехали. Пока сидел с матерью в гостевой комнате, Зураб заполнял какие-то документы. Тогда он еще не знал, что со временем моя мать практически придет в себя, провалы в памяти у нее станут кратковременными и не будут как-то сильно портить ей жизнь. Правда, Зураба она так и не вспомнит. Но тогда, возвращаясь, в машине, я видел его злобное лицо, полное ненависти ко мне ввиду того, что я не был уж так благодарен, как , наверное, должен был быть.
Когда мы приехали, и я с матерью вышел из машины и направился к подъезду, поймал взгляд Зураба, прочитал на его лице тягость той ноши, которую он, в лице меня и моей матери, по его мнению, взвалил на себя. Этот миг стал поворотным в наших дружеских отношениях, потому что в моем понимании, друг никогда не будет тяготиться родителем друга, а тот, кому он в тягость – таковым не является. Но еще до этого Зураб показал мне удивительное место - поселок Галлгарбен. Здесь, когда-то еще до войны, немцами были высажены яблоневые сады. Их было, наверное, более трех десятков, и все вместе теперь они были похожи на огромный яблоневый лес, одним недостатком которого была его заброшенность. Местные жители водили сюда коров. Везде были видны дымящиеся коровьи лепешки, в которых красовались упавшие с веток деревьев спелые яблоки. После того, как моя мать, лишенная рассудка, не по своей воле, а по воле случая, развела нас по разные стороны отношений, я перестал ездить в Лиска-Шаакен, но Галлгарбен каждую осень манил меня своей плодоносящей сутью. Однажды я встретил там Зураба, который, подъехав на машине, и не выходя, сказал мне, чтобы я забыл сюда дорогу. Симония подошел и произнес, что является хозяином этих земель, и что без его ведома здесь не упадет и веточка. Потом еще было много сказано про меня, но до сих пор, когда уже Зураба нет и в живых, не могу понять смысл подобного поведения человека, казавшегося мне достойным уважения.
--------------------------------------------------------------------------------
*
Герман Брахерт(1890-1972) – известный немецкий скульптор, в течение 25 лет с 1919 по 1944 годы жил и работал в Восточной Пруссии, которую считал свой второй родиной. Занимался чеканкой, гравировкой по золоту, медальерным и ювелирным искусством, резьбой по камню и дереву. Будучи профессором, преподавал в школе искусств и ремесел в Кенигсберге. Вел классы скульптуры, основ интерьера, ювелирного мастерства. Консультировал государственную янтарную мануфактуру. С приходом фашистов к власти в 1933 году получил запрет на профессиональную деятельность и переселился в Георгенсвальде. В 1944 году уехал оттуда в Штуттгарт, где стал ректором Академии художеств. За свою жизнь создал более 20 монументальных скульптур для Кенигсберга и провинций. Работал в стиле неоклассицизм. В настоящее время сохранились лишь немногие монументальные произведения Г. Брахерта. Среди них – рельеф «Марка Дома техники»(1924, известняк) на улице Баранова, 32., декоративное оформление двери финансового управления Кенигсберга (1928, медный сплав) на ул. Д. Донского, 1(входные двери Правительства Калининградской области), четыре рельефа на фасаде Грандотеля в Сопоте на ул. Повстанцев Варшавы, 2 (1930-ые, мрамор), скульптура «Нимфа»(1938, бронза) в Светлогорске на променаде. В Доме музее Брахерта установлены «Несущая воду» (1944, мрамор), рельефы «Утренняя заря»(1940, мрамор), «Русалка и рыбак»(1940, мрамор), «Три девушки с янтарем»(1940, известняк), а также четыре рельефа с фасада Катушечной фабрики Кенигсберга(1923, камень).
II. Ощущение времени
1.
Положение моего отца сейчас просто ужасное. Болезнь сильно скрутила его. Молю Бога, чтоб он жил, прошу об этом с дрожью в голосе. Он нужен мне и моей матери, потому что рядом с ним она, лишенная рассудка, еще пытается как-то вспомнить себя. В квартире пахнет кровью, так как после трех облучений у отца открылось кровотечение, он сдерживает кровь чистой тряпкой. Казалось, еще совсем недавно он был здоров и бодр, а сейчас - что делается в его душе?
Врачи беспомощны перед онкологическими заболеваниями. Они продлевают больным месяцы страданий. Но все-таки им огромное спасибо за их труд, потому что они дают хоть какую-то надежду. Вдруг придумают лекарства от рака, и тогда будет кому об этом сообщить.Правда, каждый день эта надежда таит, оставляя за собой кровавые следы по всей квартире. Отец еще может передвигаться самостоятельно, но кровь идет из его огромной раны на шее, он останавливает ее кусками материи, бинтами, ватой, но все это не сильно помогает. Медики называют это периодом распада. Он связан не только с кровотечением, но и с дальнейшим прогрессированием болезни. Шишка растет даже после облучения, принимая уродливые формы, не давая нормально говорить, мешая приему пищи, ужасая сквозь слабый сон. Как же тяжело моему отцу. Он просит Бога забрать его, а я умоляю его жить и бороться.
Недавно я принес ему распечатку из Интернета с данными о деде Иване, они, кстати, пролили свет и на судьбу моего отца, который родился в феврале 1941 года, хотя во всех документах указана иная дата, и даже в медицинской книжке в графе о рождении значится август 1942 года. Когда-то перед свадьбой он придумал эту дату. У него попросили военный билет, чтобы поставить отметки о регистрации брака, а билета не оказалось. Пришлось выписывать временную справку и выдумывать дату рождения - 1 августа 1942 года. Захотелось быть моложе на год, и ко всему прочему захотелось отмечать свой день рождения через день после дня рождения моей матери. Это очень на него похоже. Но эта справка стала не только новым этапом в его жизни, но и внесла неразбериху в его и мою жизнь. Ему тогда было все равно, кто и что подумает относительно его истоков, и даже относительно его национальности, потому что, учитывая то обстоятельство, что дед Иван за все фронтовое лихолетье ни разу не был в отпуске, не приезжала к нему на фронт и моя бабушка, мой отец не мог родиться в августе 1942 года. Но, тем не менее, по паспорту он родился именно в это время. Хотя, наверное, все-таки это не так. Когда ему выписывали справку с новой датой рождения, он не думал над тем, что уже зимой 1941 года село, где появился на свет мой предок, было занято немцами. Там была немецкая ставка. Война много напутала, свою Лепту внес и мой отец, с восторгом и молодецкой удалью, отвечая на вопрос относительно даты рождения, он, не понимая значения, внес путаницу в родословную.
Теперь мне очень трудно спрашивать его об этом, ввиду того, что боюсь ранить его грубым словом, каким-то неуклюжим вопросом сократить ему жизнь. Ко всему ему тяжело говорить, опухоль на шее заставляет его мало высказываться. Но я убежден, что мой отец родился до войны, в феврале 1941 года, и ему было пять месяцев, когда моего деда Ивана забрали на фронт. Моя бабка Таня провожала своего мужа, прижимая к юбке старших детей, держа на руках еще и полугодовалого ребенка, а самая старшенькая махала деду платочком. По другому не могу представить себе сцену проводов. Забранный на фронт летом 1941 года, пройдя дорогами войны, до Литвы, в 1944 году дед Иван погиб где-то под Шяуляем. В треуголке не сообщалось о гибели, говорилось, что он пропал без вести. Это значит, что он, скорее всего, был погребен под слоем земли во время взрыва снаряда. Он не мог оказаться в братской могиле, или в плену, иначе бы его числили как погибшего или угнанного в неволю. Слышал, что есть какое-то письмо от фронтовых товарищей деда Ивана, и в нем тоже указано место гибели - где-то под Шяуляем в Литве.
Наверное, мой дед был непростым человеком, каковым является и мой отец. По профессии он был ветеринаром, своего рода интеллигенция на селе, никогда не куривший, но всегда имевший при себе пачку "Казбека", он жил немного напоказ. Может быть, на фронте он был санитаром, врачем - если учитывать образование, но, может быть, и нет, ведь война не имеет какой-то определенной логики. Сведения из Интернета не сильно обогатили наши знания. Хотя сайт Memorial - это выдающееся творение человеческих рук, он упростил получение важных данных для миллионов. Из разряда секретных документы переходят в разряд обычных. Мне удалось увидеть в Интернете запись сделанную в 1947 году, под номером тринадцать, касающуюся без вести пропавшего деда Ивана. Помню, как год назад ( тогда еще не было сайта Memorial) уже будучи больным, и осознавая свое положение, мой отец плакал, вспоминая, что рос безотцовщиной, и я пообещал, что найду хоть какие-то сведения, для этого даже обратился к одному человеку, занимающемуся изданием Памятной Книги. Теперь понимаю, что этого и не нужно было делать. Помощи от него все равно не дождался, хотя получал какие-то обещания, выслушивая какую-то патетику по поводу важности дела о родственнике. Эти обещания закончились очень странно, - никак, и объяснить подобное могу лишь как нежелание мелкого издателя возиться с еще одной - так он, наверное, думает до сих пор, - никчемной фамилией. Но никчемных фамилий не бывает. За каждой - судьбы людей, народов и даже стран. Понял это, когда, затаив дыхание, ждал открытия страницы на сайте в Интернете, на ней содержались сведения о пропавших без вести в годы Второй Мировой войны. Когда страница открылась, быстро прочел то, что меня интересовало, и вдруг заметил, что рядом - всего несколько однофамильцев, а ведь фамилия моего деда, так же как и моя, не является очень уж редкой. На странице, где были показаны архивные данные министерства обороны, было всего несколько однофамильцев, а Иван Лукьянович Кульманов был и вовсе - один. Тем не менее, сайт Memorial на то время хранил данные о 10 миллионах погибших в годы войны. Сейчас, наверное, база данных стала значительно больше, ведь потери СССР в те годы исчислялись более чем в 27 миллионов человек. Хотя многие считают, что потери были еще больше. Мой давний товарищ Гоша Цирюльник, занимающийся проблемами Второй Мировой войны, убежден, что погибший было почти 50 миллионов, что составляет по численности населения размер такого государства как Польша. Ничего страшеннее в мире никогда и нигде не было!
Издатель Памятной Книги, так искренне отозвавшийся на мою просьбу о помощи, записавший все необходимые сведения о деде Иване, как-то вдруг, ни с того ни с сего, перестал меня замечать. Встречая на улице, он отворачивал голову. В редакции Книги его не возможно было найти. На телефонные звонки он отвечал грубо, и был постоянно чем-то занят. Не удивился в очередной раз, встретив его в городе(вообще это так редко бывает встретить одного и того же человека несколько раз за небольшой промежуток времени), как мелкий издатель надув щеки, поправив кепи и ускорив шаг, прошел мимо, не поздоровавшись. Знаете, что сделал я? Повернулся и плюнул ему в след. "Это время, в которое мы живем, - думал я, сидя на скамейке в пустынном сквере. - Оно характерно непредсказуемым равнодушием и откровенной черствостью". Поразительнее всего, что, поставив вчера в этом месте точку, я вновь встретил господина(что уж тут таить его фамилию) Курова. Он шел по улице в черном пальто, как всегда в кепи, и казалось, что он куда-то торопится. Ему не нужно было надувать щеки, и выравнивать шаг, я и так, чтобы не делать обидных ни мне, ни ему жестов, перешел на другую сторону.
Господин Куров - отставной военный, сумевший благодаря своей энергичной маме, выполнявшей работу секретаря для сына, сколотить небольшой круг нужных знакомств. В разговоре Куров как-то бравировал, обращался ко мне панибратски, с выражениями типа "понимаешь, старик" или "ну, ты-то знаешь, тебе-то что говорить", пытаясь притянуть к себе эдакой мнимой близостью, от которой хотелось куда-нибудь сбежать. Он даже стоял во время разговора так близко, что было не ловко. Иногда можно было видеть, как его слюни изо рта разлетались в разные стороны.
"Это очень важно, каждая деталь о твоем предке крайне важна, - всплывал в памяти гнусавый баритон Курова. - Иногда бывает, что о человеке нигде не упомянуто, но, например, где-то есть какой-то конверт или подарок, скажем, часы и все сразу становится ясным. Где и, как и тому подобное. Ну, ты улавливаешь, о чем я. Тебе-то что говорить! Ну, вот, смотри. Вот Кривицины приходили. Очень хотят, чтобы память была увековечена об их деде Пии Кривицине. Нигде нет. Ничего, ни данных, ничего. Они подробно рассказывают мне, где и что, и вдруг меня осеняет, и тогда начинаю понимать, что вот здесь-то и все есть. Потом запрос в архив. Ты, старик, знаешь, как долго приходится ждать в этих архивах, а потом, еще раз запрос в другой. А позже выясняется, что он Пий был моряком. И вот здесь в этом томе будет его фамилия!" Ну, вот так обычно бравирует господин Куров, а, когда расходишься с этим типом, то обязательно скажешь о нем "курам-то на смех".
В принципе военный люд следовало бы пожалеть, учитывая суровые будни их часто не обустроенной жизни, но почему-то о жалости вспоминаешь в последнюю очередь, когда перед тобой маячит фигура отставного Курова. Да, конечно, меня просто поразила история о том, как один из них, отправляясь на похороны отца, не мог получить заграничный паспорт, и скончался от сердечного приступа, связанного с бесконечной бумажной волокитой. Ее, кстати, мне и рассказал господин Куров.
Мы сидели в кабинете в редакции его издания, он потягивал горячий чай и лепетал с печальным выражением лица о неком майоре Ворожейкине. Куров не очень успевал за ходом своих мыслей, то забегая вперед, то вспоминая какие-то ненужные детали. Но, тем не менее, суть была предельно ясна. Этот майор Ворожейкин получил письмо, что его отец болен(как мне сейчас понятно подобное), и что он хочет, чтобы его сын приехал к нему. Майор, как и полагается, написал рапорт начальству, его долго не хотели отпускать со службы в виду того, что полк готовился к проверке из Москвы, но майор так долго ныл и ходил по пятам командира полка, что тот не выдержал.
Ехать Ворожейкину нужно было не то в Архангельск, не то в Астрахань. Он отправился на вокзал за билетом, а там выяснилось, что его заграничный паспорт просрочен, лететь же на самолете у него не хватает средств. Поясню, что для того чтобы отправиться в Астрахань или Архангельск на поезде ввиду того, что следует пересечь границу Евросоюза, нужен заграничный паспорт. Квоту на самолет майор Ворожейкин уже использовал. Имея большие долги, он не мог теперь лететь самолетом, и поэтому решил получить заграничный паспорт. Но на его оформление ушел... год. И все это время его умирающий отец через соседского мальчика писал ему письма с просьбой поскорее приехать, не то он вот-вот умрет.
Сначала майор Ворожейкин пытался подписать заключение о степени осведомленности в государственной тайне. На это ушло три месяца. Потом еще несколько месяцев делал и переделывал справку выезжающего за границу, потом почти пол года ждал, когда в отделе загранпаспортов, где был период отпусков и там не кому было работать, ему выдадут справку о степени осведомленности к государственной тайне. Наконец, отстояв огромные очереди в гражданском ОВИРе, и сдав все необходимые анкеты и справки, он - таки получил заграничный паспорт, как вдруг его хватил сердечный приступ и майор умер. Любопытно, как уверял Куров, при всем при этом майор Ворожейкин даже не имел допуска к секретам. Мелкий издатель нарисовал портрет майора. Это был здоровенный детина. Два метра ростом, с огромными кулаками, широченными плечами и толстым задом. Когда его хоронили, гроб несли десять солдат, и заграничный паспорт, который Ворожейкин получил перед смертью, лежал у него в руках.
Куров постоянно произносил фразу "ты представляешь!", и мне становилось грустно, потому что умом я понимал, что и Ворожейкин и Кривицин - это были некие вымышленные персонажи, придуманные для создания большей значимости господина Курова, но сердце искренне принимало все, что говорил этот тип, ведь, что самое страшное, эти персонажи были чрезвычайно жизненными. Я и сам часто сталкивался с похожими ситуациями, и понимал, как трудно бывает человеку, чья судьба сильно зависит от обстоятельств. Но как по-разному каждый из нас находит выход из этих обстоятельств.
2.
Всю эту зиму шли дожди. Морозец был только на Рождество. Снег в Рождественскую ночь искрился, словно вокруг зажгли бенгальские огни, и под ногами хрустело, и казалось, что такая зима продлится еще как минимум месяц, но через пару дней опять пошел дождь, и все растаяло. Сырость проникла и в жилище. У моих родителей было зябко в большой комнате, ввиду того, что мать постоянно выходила на балкон курить, и не закрывала за собой балконную дверь. Мне пришлось заколотить дверь гвоздями. После этого в квартире стало как-то теплее, а мать приноровилась курить в туалете. Гораздо труднее пришлось(этот вопрос до сих пор не нашел своего решения) бороться с дождями в собственной квартире. Она расположена, как я уже говорил, в двадцати минутах ходьбы от родителей, в обычном муниципальном доме, в котором десятилетиями не делается ремонт. Когда я поселился в этом доме, не предполагал, что в нем протекают стены, имеющие едва заметные трещины. Какое-то время, после ремонта, воду сдерживала штукатурка и морозная погода прошлых зим, но этот год стал на редкость дождливым, и от обилия осадков стена протекла. Причем, вода лилась струей, и ее ничем не возможно было остановить. Нужно было искать помощи со стороны. Ввиду того, что в нашем ЖЭКе давно никто ничего не делает для людей, но деньги с жильцов (и причем, не малые ) собирает, и даже требует уплаты через суд с выселением, я обратился в администрацию района.
В приемной молоденькая девушка, в блузке и короткой юбке с разрезом с боку, тупо рассматривала мое обращение. Она вертела его, как баранку автомобиля, пытаясь определить, с какого угла оно начинается, потом позвала свою напарницу полноватую, невысокую, в туфлях на шпильке, с пышным начесом, в юбке длиннее, но тоже с разрезом, и спросила, что "с этим делать". Признаюсь, не понял, кого она имела в виду - меня или мое обращение. Наконец-то его завизировали. Не реагировать на подобные письма от аккуратных плательщиков, коим я являюсь, не могут, поэтому, как и полагается, ко мне явилась работница ЖЭКа. Так у нас делается все по кругу. Куда не обращайся, хоть к Президенту, к тебе все равно придет работница ЖЭКа. Женщина эта мне была хорошо знакома, потому что именно она приходила на прием-сдачу квартиры, она же приходила по наводке соседей для проверки хода ремонтных работ в моей квартире, она же отвечала мне на мои вопросы по телефону, касающиеся разбитых тротуаров, раскуроченного мусоровозом мусорного контейнера, протекающих оконных блоков и так далее (надо сказать, что я достаточно придирчив к месту моего проживания, и требую, чтобы делалось все необходимое для правильного содержания жилья).
Работница ЖЭКа Коплыжкина за годы своей работы в ЖЭКе научилась искусно обводить жильцов вокруг пальца, иначе бы ее, наверное, не держали в ЖЭКе, и считали бы там недальновидной и легкомысленной. Ну, разве можно представить, чтобы на обращение в ЖЭК, произвели ремонт и утепление фасада для отдельно взятой квартиры?
«Не может ЖЭК ремонтировать вашу стену, потому что это никому не выгодно, - рубила правду-матку мадам Коплыжкина, рассматривая обои в зале, выясняя, какие они - бумажные, флезилиновые или - "что это неужели шелкография?" И даже мои возражения, о том, что я плачу за обслуживание жилья, были пропущены мимо ее ушей. – Что здесь у вас. Ничего не вижу». – Я не переставал удивляться ее слепоте. Плесень(да, может быть, и не такая большая, какой она, наверное, должна быть) и потеки на стенах (они, к слову, были достаточны очевидны, потому что в месте их появления отслоились обои) работница ЖЭКа не воспринимала, повторяя, что тут у меня она ничего не видит. И вот тогда-то я не выдержал.
«Не знал, что вы болеете куриной слепотой. – От этих неожиданных слов Коплыжкина даже вздрогнула. Но быстро успокоилась, и стала пристально рассматривать меня, скривив губу. - Наверное, это самая распространенная болезнь в вашем ЖЭКе. – Продолжал возмущаться я. Пригласил ее в зал, достал видеокассету, заготовленную именно на тот случай, когда Коплыжкина начнет болеть куриной слепотой, предложил работнице ЖЭКа присесть и посмотреть видеозапись, сделанную мною в дождливую погоду, когда стена сочилась от воды. – Надеюсь, что куриная слепота не помешает вам обнаружить видеодокумент на экране телевизора», - Сказал, придав особую важность кассете, что отразилось и на поведении представительницы ЖЭКа. Коплыжкина села в кожаное кресло, распахнув свое длинное красное пальто(работники ЖЭКа никогда не снимают ни пальто ни обуви, что меня всегда возмущает, но я вынужден терпеть их нахальство, потому что все-таки надеюсь на помощь, хотя, понимаю, что надежды в таких случаях обычно бывают напрасными) и уставилась на экран телевизора, тыча пальцем с вопросами «так, а это что?» – Вообще, наверное, любой специалист скажет, что фасад здания – это не место для творчества жильцов. Это не зал, не кухня и не ванная комната, где каждый может дать волю фантазии. Вылепить лепнину или же инкрустировать все золотом…Фасад – это часть общей конструкции здания, который имеет больше даже не прикладное значение, а является частью стены, защищающей дом от стихии. Посмотрите, как выглядит наш дом из-за того, что каждый пытается заделать дыры и щели собственными силами. А как все это делается? Есть гарантии, что при утеплении фасада собственными средствами, не нарушат общей конструкции, ведь панели уложены одна к другой. Все-таки мероприятия эти должны выполняться организованно и профессионально».
Коплыжкина зевала, тыча пальцем в экран. «А это тут у вас что – салфетки что ли?»
«Да, салфетки! Они хорошо впитывают воду, стекающую по стене. Не ждать же мне, когда вода зальет ламинат. Кстати, их стоимость я также включу в общий материальный ущерб, причиненный бездействием вашего ЖЭКа, в суде, куда я собираюсь обратиться», - Продолжал я демонстрировать серьезность своих намерений.
«Ну, да ладно, можете выключать, - вдруг сказала Коплыжкина, вставая. – Напишу, все как вы говорите, и на видеокассете тоже все это видно».
Через месяц мне пришел странный ответ(как в испорченный телефон). Вот он. «При обследовании, проведенном (такого-то числа), установлено, что с наружной стороны дома наблюдаются дефекты стеновых панелей. От выполнения работ по герметизации стыков панелей силами ЖЭКа, проживающий в квартире по улице (такой-то) , отказался. Поскольку больше заявок от жильцов этого дома на утепление фасада не поступало, данные работы планом капитального ремонта не предусмотрены». Признаюсь, был обескуражен подобным ответом, и даже подумал, что произошла какая-то путаница, поэтому перезвонил Коплыжкиной. Та без зазрения совести повторила, что было написано в ответе, присланном мне по почте, и добавила, что, дескать, это я виноват в протекании стен и имеющейся плесени, ввиду того, что установил стеклопакеты, которые, по ее мнению, мешают проветриванию квартиры. При чем здесь было проветривание квартиры?
«У меня дома вообще дует от окон, и что я теперь должна всех мучить», - заключила Коплыжкина и бросила трубку.
3.
Бывает такое состояние в природе, когда днями и ночами идут дожди, и от этого земля становится не просто влажной, а мокрой. Представьте, темное небо – темное от густых серых туч, висящих низко, наполненных холодной влагой – время от времени оно пускает, как слезу, мелкий дождь, увлажняя и так уже сырую почву. И вдруг эти тучи практически все куда-то исчезают, оголяя эту сырость, влагу длинных зеркальных луж, покрытых, словно гусиной кожей, мелкой рябью от пронизывающего ветра, от косого дождя, черную разбухшую почву, и даже серый скользкий асфальт, напоминающий грязный лед. Оголяются и тянущиеся к небу с особой силой тощие ветки деревьев, и изумрудная трава, насытившаяся ненастьем и влагой на много дней вперед. И от всего этого становится так грустно, такая тоска овладевает сердцем, что хочется выть, потому что в этот миг, не понятно будет ли унылый просвет перерастать в погожий денек, или же вновь прилетит сильный порыв ветра, и все сменится на еще более темное, влажное и тоскливое.
Эта погода созвучна моей душе, в которой такая же грусть и тоска, как в этой промозглой сырости. Моя жизнь сейчас напоминает замедленное кино. Уборка у родителей в доме стала обычным делом, и даже перестала быть в тягость. Мытье посуды, подметание в кухне, поход в магазин. Чистка таза, стоящего рядом с кроватью отца. В тазу лежит газета, забрызганная кровью. Газету надо выбросить, таз промыть, и на дно положить чистую. Мои родители теперь не выписывают прессу, но их почтовый ящик забит бесплатной бумажной продукцией. В основном – это реклама( где что и по чем). Конечно, эти газеты никто не читает. Зато ими удобно застилать таз, куда сплевывает мой отец, чтобы облегчить дыхание. Каждый день таз забрызган кровью. Раньше, когда я чистил таз, меня тошнило, но в какой-то момент, кровь перестала вызвать у меня приступ рвоты. Я смотрю на нее просто как на грязные пятна и все. Когда-то мы выписывали газеты, чтобы узнать, что нового происходит в городе, в них не было рекламы, сегодня ее столько – что для журналистских материалов нет места. Это признаки времени. Так все поменялось. Но не изменилось одно – как много лет назад, так и сейчас, газеты для нас были и остаются необходимым атрибутом, только смысл этой потребности приобрел диаметрально противоположное значение.
Я принес домой резиновые перчатки, и теперь все работы выполняю в них. Не знаю, имеет ли какую-то опасность кровь такого больного человека, как мой отец. Сижу рядом с его кроватью и думаю об этом, а он прощается(в который раз уже) со мной, говорит, чтобы я по жизни не грешил, чтобы был преданным, верным человеком. Он знает, что умрет, хотя ему очень хочется жить. Рак – распространенная болезнь. Людей с онкологическими заболеваниями вокруг становится все больше. Что является причиной? Глобальное потепление? Мы с отцом перестали ездить в онкологическую больницу, после того, как врачи сказали нам, что они больше не будет лечить, потому что начался период распада. Метастазы сильно увеличились. Они, как клешни перетянули горло отца, скор ему не возможно будет дышать. Врачи развели руками, попытались как-то утешить. Но сейчас все понятно без слов, и надежды практически нет.
Недавно решил помыть окна в квартире моих родителей, и заметил, что они грязные изнутри, причем, грязные и от пыли и копоти, но еще и от мошек. Рой мошек прилип к стеклам изнутри, и отмыть их, не открывая, не возможно. Эту затею отложил, так же, как и свои бессмысленные идеи о ремонте родительской квартиры. Все что требуется ежедневно – это уборка, готовка и поход в магазин. На все это уходит от двух до трех часов. С приходом весны, с увеличением светлого времени суток, перенес визиты к родителям на вечер. До них пятнадцать минут ходьбы. Хожу к ним пешком, убежден, что это благоприятно сказывается на работе сердца. Хотя, может быть, таким образом, экономлю на транспорте. Как-то неожиданно поймал себя на мысли, что каштановая аллея вдоль Преголи, дорога, уложенная булыжником и коричневое здание, где раньше размещалась контора водолазных работ, а теперь какие-то фирмы, вполне пристойное место, и более того, почему-то напоминает Париж, где я, кстати, ни разу не был. Здесь тихо, спокойно, таинственно. Что-то манит на берег реки посмотреть, как ловят рыбу. Выхожу на причальную стенку. Молодая девушка, переминаясь с ноги на ногу, крутит головой в разные стороны, и вдруг срывается с места и несется, гремя каблуками, куда-то вдаль. Навстречу ей бежит другая девушка, - в белых брюках, кроссовках, спортивной футболке. Они обнимаются, с ходу расспрашивают друг друга о том, о сем, и останавливают взгляды друг на друге, рассматривая и поглаживая по плечам и волосам. Этот образ двух милых подруг постоянно всплывает у меня в памяти, когда я прохожу по этой маленькой аллее.
Сегодня шел другим путем: через парк. По широкой парковой аллее. Гремела музыка фронтовых лет. На обелиске лежали букеты цветов. С митинга в честь очередной годовщины штурма Кенигсберга возвращались школьники. Они шли мне навстречу с озабоченными лицами. Видно было, что митинг их не вдохновил, а лишь отвлек от школьных проблем, - как списать домашнее задание или же где взять сигарет, чтобы покурить на углу школы.
Мне было над чем подумать – наверное, поэтому я выбрал путь через парк. Господин Куров недавно лишился помещения, где он занимался изданием своей Книги. Имея крепкие связи то здесь, то там, он мог бы найти себе любое место, но почему-то он перебрался в нашу контору. Перл судьбу – этот неприятный тип отныне потеснит меня в моем кабинете, где до этого времени я работал в гордом одиночестве. Ума не приложу, какими путями Куров оказался по соседству со мной. Отставной военный…в моем кабинете! Единственное, что приходит мне в голову – это шпионаж за мной, а друг я являюсь каким-нибудь агентом иностранных спецслужб. Что это я так рьяно защищаю старинные названия бывший немецких городов? Да еще хочу создать проект восстановления Альтштадта и Кнайпхофа. Конечно, Курову в голову не заглянешь, да и он не расскажет всей правды. Знаю одно и вполне достоверно – агентом иностранных служб я не являюсь.
Лично мне от всего этого очень грустно, и совсем уж не до очередной годовщины штурма города крепости Кенигсберга. Всегда в такие минуты, когда есть опасность пострадать от собственных высказываний и мыслей, ищу спасения в одной молитве. Не могу назвать себя глубоко религиозным человеком, даже не могу назвать себя верующим, но, тем не менее, каждый день, выходя на улицу, читаю про себя «Отче наш», а в моменты особых душевных переживаний, читаю 34-ый Псалом Давиду из Пятой Кафисмы. Сегодняшние мои переживания основаны даже не на предположении по поводу странного появления Курова в моем кабинете, сколько на мысли о том, что двигало нашим генеральным директором отдать такое распоряжение.
В конторе – множество пустых кабинетов, есть работники помоложе меня, и их не просят потесниться. Если просят тебя, не спрашивая твоего согласия, значит, не ценят. А так хочется, чтобы твой труд ценили, но этого никто не делает, в особенности наш директор, который ценит только самого себя. Это мне хорошо известно по приказам и распоряжениям, отдающимся в нашей конторе. Вот это и вызывает головную боль. Когда-то, когда моя мать еще была в здравом рассудке, она дала мне молитву, чтобы та берегла меня от всяких напастей. Тогда мне было может быть двадцать пять лет. Листок с 34-ый Псалмом Давиду последние пятнадцать лет я ношу в грудном кармане, и достаю его лишь в особых случаях. Когда заболел мой отец, он дал мне Молитвослов и Псалтырь, и я там обнаружил 34-ый Псалом Давиду. Теперь у меня два экземпляра этой молитвы. Один в грудном кармане, другой – дома. Написан псалом на старославянском языке, многие слова мне не понятны, почти пятнадцать лет я разгадываю их как ребус, и может быть, когда-то полностью разгадаю, но что действительно мне никогда не понять, отчего в этом псалме есть по-настоящему действенная сила.
Вот он. «Суди, Господи, обидящыя мя, побори борющыя мя. Прими оружие и щит, и востани в помощь мою. Исуни мечь, и заключи сопротив гонящих мя. Рцы души моей: спасение твое есмь Аз. Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящи ми злая. Да будут яко прах перед лицом ветра, и Ангел Господень оскорбляя их. Да будет путь их тма и ползок, и Ангел Господень погоняя их: яко туне скрыша ми пагубу сети своея, всуе поносиша души моей. Да придет ему сеть, юже не всеть, и ловитва, южи скры, да объимет и, и в сеть да впадет в ню. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляй нища из руки крепльших его, и нища, и убога от расхищающих его. Воставше на мя свидетеле неправеднии, яже не ведех, вопрошаху мя. Воздаша ми лукавая воз благая, и безчадие души моей. Аз же, внегда они стужаху ми, облачахся во вретище, и смирях постом дущу мою, и молитва моя в недро мое возвратится. Яко ближнему, яко брату нашему, тако угождах, яко плача и сетуя, тако смиряхся. И на мя возвеселишася и собрашася: собрашася на мя раны, и не познах, разделишася, и не умилишася. Искусиша мя подражнища мя подражнением, поскрежеташа на мя зубы своими. Господи, когда узриши? Устрой душу мою от злодейства их, от лев единородную мою. Исповемся тебе в церкви мнозе, и в людех тяжцех восхвалю Тя. Да не возрадуются о мне враждующии ми неправедно, ненавидящи мя туне и помизающии очима. Яко мне убо мирная глаголаху и на гнев лести помышляху. Разшириша на мя уста своея, реша: благоже, благоже, видеша очи наши. Видел еси, Господи, да не премолчиши. Господи, не отступи от мене. Востани, Господи, и вонми суду моему, Боже мой и Господи мой, на прю мою. Суди ми, Господи, по правде Твоей, Господи Боже мой, и да не возрадуются о мне. Да не рекут в сердцах своих: благоже, благоже души нашей, ниже да рекут: пожрохом его. Да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в студ и срам велеречущии на мя, и да рекут выну: да возвеличится Господь, хотящии мира рабу Его. И язык мой поучится правде Твоей. Весь день Хвале Твоей».
4.
После краткосрочного отпуска, вышел на работу, и мне сразу стало ясно, откуда и для чего появился Куров в моем кабинете. Оказывается, этот бывший военный имеет строительное образование. Когда-то, много лет назад, он окончил какой-то проектный институт, и, понимая тогда скудность своих перспектив в строительстве, решил пойти на военную службу, а теперь, уже, будучи не молодым, его вновь потянуло на прежнее поприще.
Как часто наши опасения бывают беспочвенными, а какие-либо следствия имеют банальные причинные связи. Тем не менее, появление этого типа в моем кабинете напомнило и мне о моем уже не юношеском возрасте, и более того, показало, что рядом - множество вполне успешных сотрудников, которых никто в их рабочих апартаментах подвинуть не берется. Как, например, архитектор Муриков. У него хорошая фигура: отсутствует живот, пропорциональны части тела, длинные ровные ноги. Все это, конечно, украшает мужчину, хотя, на мой взгляд, еще большим украшением любого мужчины является интеллект. Что же касается интеллекта Мурикова, то здесь, наверное, многие испытывали некоторые сомнения. Еще вчера, казалось, он был привлекательным молодым человеком, а сегодня он производит впечатление типа, покрывшегося плесенью. Уже нет юношеской свежести, но есть какой-то легкий душок гнилья, поэтому, здороваясь с Муриковым, испытываешь двоякие ощущения.
Первый год его работы в нашем институте был связан с неприятной историей. Нина Козкина умышленно вылила на Мурикова литровую банку человеческих фекалий. Произошло это во время летучки, в присутствии коллег по работе. Поэтому, конечно, не стало ни для кого секретом. (Когда однажды Козкина появилась в своем рабочем кабинете со своими детьми, Муриков набросился на них, как зверь, тогда, я невзначай назвал их всех по примеру детской сказаки "волк и семеро козлят"). Сорокалетняя Нина, выполнявшая в нашей конторе мелкие поручения, пришла на летучку в длинном вечернем платье с декольте, в туфлях на высоком каблуке, кажется, у нее были как-то очень эффектно зачесаны волосы, в одной руке она держала пакет, в котором были две банки с фекалиями, в другой руке - заявление об уходе. Она вошла в кабинет генерального директора, не останавливаясь, со словами "это моя объяснительная по поводу случившегося" (генеральный округлил глаза, мол, что случилось-то, почему он еще не знает, но быстро сообразил, что случившееся происходит в его присуствии), Козкина протянула заявление шефу, потом подошла к окну, где сидели сотрудники, поставила на подоконник пакет с банками, вынула одну из них, аккуратно открыла ее своими тонкими пальцами, сильно придавив пластмассовую крышку, и с легкостью опрокинула содержимое на Мурикова. По кабинету генерального в одно мгновение распространился едкий запах человеческих экскрементов. Многие закрывали нос и рот ладонями, задерживая дыхание, а многие, вытирая от этого едкого запаха потекшие по щекам, слезы, стали выбегать из помещения. Муриков, весь с головы до ног облитый фекалиями, вскочил, пытаясь стряхнуть с себя дерьмо, но быстро понял бессмысленность своих действий, и от этого как-то особенно громко крикнул "ты что дура!", выбежал из кабинета. Козкина, поправив задравшееся платье, с высоко поднятой головой, но взволнованно дыша, вытянула вперед руки, как в театре, произнесла, видимо, заученную накануне фразу "теперь и вам известно, от кого дурно пахнет", но потом добавила идущее от сердца - "будет рыпаться, и вторую банку говна на него вылью". Все оставшиеся в кабинете генерального притихли, с опаской поглядывая на пакет на подоконнике. Там была еще одна банка, для кого она предназначалась? Запах фекалий становился все сильнее и шеф вызвал уборщицу, та, ойкая и айкая, отворачивая голову, принялась стирать со стула, где сидел Муриков, плохо пахнущие пятна.
Надо сказать, что Козкина была ущемленным в жизни человеком в виду своего сложного материального положения. Она одна воспитывала четырех детей, где-то в каком-то селе. Дети у нее были от разных мужчин, и поэтому счастья ей не приносили. Она болезненно реагировала на любую несправедливость в ее адрес. Муриков же был, и остается сейчас, человеком без принципов. Для него ничего не стоит оскорбить женщину. Что не делает ему чести. Конечно, он демонстрировал свое неуважение Козкиной, которая, по мнению этого, кажется состоящего только из зла и ненависти, юноши, плохо одевалась. Иногда она приходила на работу в старых неуклюжих джинсах, старых-престарых туфлях, какой-то допотопной кофте не определенного цвета. Много старых вещей она перетащила на работу и хранила их в общем шкафу, что Мурикову, естественно, не нравилось. Однажды он выбросил все вещи Козкиной из шкафа в коридор, и, когда та увидела их валяющимися на полу, бросилась с кулаками на юношу. Муриков оттолкнул ее и пригрозил, что вообще не пустит ее в кабинет, если та не перестанет таскать на работу старье, которое, по его мнению, дурно пахнет. Козкина не знала, как себя вести. Признаться, она впервые столкнулась с подобным хамством в отношении ее, как женщины, не как работника проектного института, или просто как гражданина(этого, к сожалению, везде хватает), а именно, как к женщине, родившей четверых детей, но при этом не имеющий никакого почета и уважения в обществе. Будучи сильной натурой, Козкина подобрала вещи, вернулась в кабинет, спокойно их положила на свое место, и пригрозила Мурикову, местью, мол тот еще посмотрит, кто по-настоящему дурно пахнет. Она отомстила таким вызывающим образом, вылив на юного архитектора банку человеческих экскрементов.
С цинизмом Мурикова однажды столкнулся и я, правда, в отличие от Козкиной, иначе отреагировал. Да и реагировать-то собственно было не на что, потому что ко мне(это я чувствовал) Муриков относился с уважением. Занимаясь разработкой проекта восстановления исторической части города, я изучал старые немецкие чертежи и фотографии. Дело это весьма трудоемкое, потому что, во-первых, эти чертежи выполнены от руки, а не на компьютере, и в них многие детали пересекаются друг с другом и не видны, а, во-вторых, разбирать их приходится с немецко-русским словарем, причем, многие слова, написанные вручную, плохо прочитываются, и смысл их остается не понятен. В один из таких дней ко мне в кабинет зашел Муриков. Было это еще до того, как его облили фекалиями, поэтому в его походке еще было много щегольства и молодцеватости. Казалось, он немного вальсировал, переходя от одного стола к другому. Поинтересовался, чем я занимаюсь, я ответил, "немецкими чертежами". Мурикив посмотрел на них, сощурив глаза, и произнес "на кой хрен они тебе, кому вообще нужна эта беллетристика".
- Почему же беллетристика? – Не согласился я, - это гораздо более серьезная вещь...рано или поздно...на месте пустыря построят новый город. Кенигсберг возродиться.
- Тебе-то зачем все это, - Муриков продолжал вальсировать между столами и стульями, рассматривая календарь, висевший на стене. - Фигня все это. Возродить можно из руин, ну... из пепла, а когда ничего нет, то ничего и не возродишь. Ну, построят новодел, похожий на бывшие кенигсбергские здания, и что? Нужно было лет тридцать-сорок назад... хотя бы из руин, которые еще тогда были… беречь надо было. А теперь все впустую. Все засыпали, сровняли с землей, построили на их месте "хрущевки"... Сегодня надо смотреть в будущее, а не копаться в старых немецких чертежах. Вот я сейчас работаю над проектом первого высотного жилого здания.
- Еще один монстр? - С пренебрежением произнес я.
- Нет, - задумавшись и покачав головой, ответил Муриков, - совершенно новое слово в строительстве. 33-х этажное здание на берегу реки. Дом-шпиль с четырехметровыми потолками. Парковка, панорамы окон. Перспектива.
- Уже есть одно высотное здание на берегу реки. Его двадцать лет достроить не могут. Самая большая в мире ночлежка для бездомных. - Я был категоричен. Немецкая сторона выделяла нашему институту на мой проект небольшие финансовые средства, и поэтому генеральный директор не закрывал это направление, но и не расширял его, так же как и Муриков, не видя в нем перспективы. Его держали из услужливости, а не из собственных убеждений. Генерального можно было понять. Будучи не молодым, он помнил еще те времена, когда обо всем немецком вообще нельзя было упоминать, а слово "Кенигсбрег" считалось из лексики шпионов и изменников Родины.
- Немецкое присутствие в городе выкорчевывалось с особой тщательностью, - рассказывал мне шеф, иногда заходивший в мой кабинет поговорить по душам. Это была его излюбленная манера общения, за что ему я крайне признателен, и понимаю сейчас, когда подобных взаимоотношений уже нет, ввиду того что у нас сменилось руководство(причем дважды), как это важно говорить по душам. - Косыгин как-то приехал отдыхать в Палангу. Тогда это был еще Советский Союз, и литовский курорт можно было без проблем посетить, а, надо сказать, место это очень красивое, спокойное... с большими широкими пляжами. Ну, и, отдыхая в Паланге, Косыгин решил заглянуть в бывшую столицу Восточной Пруссии. В спортивном костюме, не выходя из обкомовской "Волги", он проехался с первым секретарем обкома КПСС по городу, и, тыча пальцем в окно машины, указывал какие объекты позорного немецкого прошлого нужно снести, "состричь", как он выражался, "с обросшей головы". Больше всего его возмутили руины Королевского замка. Он пыхтел, долго подбирая слова, недовольный видом, открывающимся его взору. Косыгин еще не успел уехать из Паланги, где он отдыхал, проводил дни на светлой террасе обкомовского пансионата, закутываясь в широкое полотенце, чтобы солнечные лучи не "ранили кожу", как он говорил, а несколько стен Королевского замка уже взрывали.
Посмотреть на работу взрывных команд приходили толпы желающих. Маньки и Ваньки садились на только-только появляющиеся в этой части города газоны, курили, некоторые даже аплодировали после каждого взрыва. Но все же большинство сожалело о том, что Королевский замок рушат. Руины разбирали несколько недель. Красный кирпич замка отправляли на восстановление Ленинграда. Раз в месяц товарные поезда увозили части знаменитого сооружения, которое жители Кенигсберга строили на протяжении почти 300 лет, туда... на север. Из этого кирпича теперь восстановлены жилые ленинградские кварталы в районе Витебского вокзала. Это был самый бессмысленный период, потому что уже тогда новым переселенцам в Кенигсберге, в Восточной Пруссии не хватало жилья, людей теснили, разделяя особняки сначала на две части, а потом, селя семьи по пять и более человек в одну комнату. Нужно было строить жилье для местных жителей, но власти СССР не давали на это денег, а строительные материалы, имеющиеся в городе, наглым образом похищались по приказу партии и правительства ленинградскими властями, считавшими, что кенигсбержцы, как немецкое отродье, виновны в бесчеловечной блокаде Ленинграда, в жертвах войны. Долгое время руководство страны опасалось возвращения Кенигсберга Германии. Это тебе известно и без моих слов. Но именно поэтому город практически не строился. Как появились "хрущевки"? Это ведь временное жилье, рассчитанное на пятнадцать-двадцать лет, затем его должны снести. Сколько лет они уже портят внешний вид города? Их возводили с одной целью(это тогда озвучивалось на всех партсобраниях) - сначала выкорчевать все немецкое(тогда город еще лежал в руинах, и с ними что-то нужно было делать) а на пустыре построить, ну, что-нибудь типовое. А что значить выкорчевать все немецкое? В этой части города строилось образцовое для Германии жилье, много было уникального, средневекового, исторически ценного. Здесь было барокко, флорентийское в том числе, искусно выполненное, с большим количеством малых архитектурных форм, с барельефами на входах, с великолепными скульптурными украшениями фасадной части зданий. Ну, не тебе об этом говорить. Восстанавливать подобное? Даже, если бы это было не немецкое, а французское или итальянское. Мастеров для этого не было. Проще взять и сравнять все с лицом земли. Поэтому и появлялись подобные распоряжения партии и правительства. Не было специалистов, а строить в Кенигсберге основательно не позволяла политика, направленная на противостояние с Западом. А вдруг придется отдавать, такие деньги вбухаем, и отдадим! Кто за это ответит перед советским народом. Так говорили самые высокие чиновники, и мы их слушали. Правда, как-то в одночасье, разговоры о возвращении Кенигсберга Германии прекратились. Этому способствовала Хельсинская конференция в 1972 году, которая закрепила существующие послевоенные границы в Европе.
Генеральный относился к моему труду с пониманием не только потому, что немецкая сторона оплачивала мои работы, но еще и по зову своего сердца. Будучи человеком образованным, он прекрасно знал, что в Кенигсберге до 1933 года, до прихода к власти Гитлера, была замечательная спокойная жизнь с либеральными бюргерскими устоями. С приходом же нацистов жизнь здесь стала напоминать тюремное заключение, стоило лишь высказать свое несогласие с политикой фюрера, тебя ждал концентрационный лагерь.
- Людей угоняли в закрытых вагонах, их везли на вокзал прямо из "коричневого дома". Так называли местное гестапо. - Генеральный говорил о довоенном Кенигсберге почти шепотом, но без оглядки по сторонам. Он понижал голос не потому, что боялся, что его кто-то услышит, и застучит в ФСБ, а потому что его сердце испытывало какое-то волнение, когда он начинал об этом говорить, и чтобы этого не было заметно, его голос становился мягче, тише, душевнее. - Тех, кто был не согласен с шовинистической политикой нацистов, уничтожали. И это было еще до 1937 года, когда подобное стало происходить и в СССР, еще до кровавых сталинских репрессий. Отличие было лишь в том, что в Германии можно было лишь молчать, и тем самым сохранить себе жизнь, а в СССР убивали всех, и даже тех, кто молчал. Часто достаточно было доноса соседей. Вот такие времена тогда были.
Такие задушевные беседы вдохновляли меня на работу, придавали смысл ей и моей жизни, и как-то внутренне я чувствовал свое превосходство над Муриковым, хотя, конечно, возведение небоскребов было весьма привлекательным занятием, сулившим реальные доходы и возможность как-то выбиться в люди. Но любовь к своему детству, прошедшему в руинах, в развалинах старого Кенигсберга, любовь к моим родителям, приехавшим в Восточную Пруссию, и оставшихся в этих местах потому лишь что "и сирень здесь цвела ярче, и ручей был чище и бежал быстрее"(так иногда говорила моя мать) - все это заставляло меня вновь и вновь браться за старые немецкие чертежи, рисовать здания и клеить макеты. И потом, когда в восстановленном Кафедральном Соборе, мимо которого теперь хожу практически каждый день, создавал макет Кнайпхофа, был по-настоящему счастлив. Что это, как это вы можете назвать - перерождение, предательство, и как можно назвать меня – выродком, заблудившимся в лабиринтах старого Кенигсберга? Так вот, когда Муриков обозвал мою работу беллетристикой, хотя внешне я никак не отреагировал на этот щегольской тон, он сильно задел мое самолюбие, в душе мне было больно, но я это скрыл.
Проводив на пенсию первого генерального директора, и подарив ему замечательную гитару, его место занял его заместитель. Он не был противником "немецкого" направления, но ввиду того, что он много пил, и часто оказывался в неприглядном положении даже перед гостями из Германии, немцы сами отказались финансировать проект восстановления исторической части города, и даже перестали приходить в гости. Уже тогда, при моем втором генеральном директоре, задушевных разговоров больше не было, не было ни воспоминаний, ни рассуждений, никакой идеологической канвы, а были его переживания по поводу перехода на рыночные отношения, и как следствие - устоит или нет генеральный(то бишь он) на своей должности, и вообще что думают там, на верху. Ну, вот как-то так, вокруг да около, велась беседа, когда он заходил изрядно поддатый в мой кабинет. И потом часто в этом человеке скользил внутренний холод и пренебрежение, которые всегда присутствуют в том, кто думает только о выпивке, что мне, конечно, было не приятно, нам всем было не приятно это ощущать на себе, но в какой-то степени мы радовались, когда кто-то, выйдя из кабинета генерального, шепотом рассказывал, что "он там вдрызг нажрался, как свинья и всех материт". По крайне мере, у меня была легкая радость. Так ему и надо, пусть все знают, куда он катится. Несмотря на то, что он не мог знать об этом, что касается таких вещей, я не особенно разговорчив, но, наверное, он чувствовал, и в конце своей работы на этой должности, он попросту издевался надо мной, вызывая к себе в кабинет, и в пьяном виде, высказывая мне всякие гадости. Он говорил так - "хули ты ссышь, когда тебя заставляют что-то делать" или "если ты не чмо, то чмом будешь", или "оторвал кусок от общего пирога, засунь себе в жопу". Однажды, после очередной такой фразы, произнесенной прилюдно, на летучке, я встал и вышел из кабинета. Ах, да, кстати, Мурикова приняли на работу в наш институт, когда генеральным стал именно этот не просыхающий алкоголик. Когда мы провожали его на пенсию, ничего ему не подарили, вернее, что-то он купил себе сам, я не присутствовал на проводах, и, слава Богу, он напился там в очередной раз как свинья, а утром, на летучке, едва опохмелившись, решил нас всех удивить, достав из шкафа длинную палку, заточенную под крайнюю мужскую плоть. Он тряс этой, указывающей не то на его странные наклонности, не то на легкое умопомешательство, палкой, пытаясь сформулировать мысль, мол, этот "скипетр"(его выражение) достался ему от...такого-то такого..., и что это некий символ его успешной карьеры, и вот теперь, когда карьера завершена, можно раскрыть карты. Генеральный, видимо, полагал, что эта палка была для него что-то вроде козырного туза? Но это, конечно, не было никаким тузом, вообще не было ничем, кроме длинной палки, на одном конце которой была выточена крайняя плоть, а на другом - в разные стороны торчали мелкие корешки, как будто это были волосы. Мне, да нам всем, было стыдно, когда он тряс ею, прохаживаясь по кабинету, словно все это время он скрывал что-то очень похабное, не вызывающее ничего кроме брезгливости. С уходом этого человека хамство в нашем институте прекратилось. Муриков был пораждением этого в конец спившегося человека, и, сейчас, когда этого алкоголика уже нет в институте, Муриков, от которого слегка, как мне кажется, попахивает дерьмом, - на высоте, весь в делах и заботах.
Недавно он купил новую квартиру в том самом доме, который проективровал когда-то. Правда, этажей там не 33, а 13. Он все еще холост. Не удивительно - слишком уж по-хамски он относится к женщинам.
5.
В моем понимании мужчина и женщина это две разных планеты, которые движутся каждая по своей орбите, совершенно независимые и не познаные друг другом, но вместе с тем, очень часто не могущие существовать друг без друга. Вся их жизнь - это попытка понять и познать друг друга, которая часто заканчивается фиаско, потому что сближение планет опасно большим взрывом, какого-нибудь космического масштаба. И все-таки как интересно понять как думает женщина, как она оценивает события, происходящие вокруг. Говорят, что она более тонко чувствует природу. Как это красиво - тонко чувстсовать природу.
Можно сказать, что фиаско - итог жизни моих родителей, которых я посещаю каждый день, но можно сказать, что своей жизнью они создали пласт истории об одном европейском городе, которому пою свою песнь. Когда на небе светит солнце, когда льет непробудный дождь, когда дуют сильные ветры, когда падает снег. Раз в день я прихожу к ним, чтобы приготовить обед, прибрать в квартире, сходить в магазин. Вот и весь сюжет. Иногда мне бывает страшно от того, что рядом нет никого чтобы помочь, потому что мой отец чувствует себя всегда по-разному. То хорошо, то плохо. В прошлый раз я пришел, как обычно, окло часа дня, и, когда зашел в квартиру увидел несколько застывших полосок из капель крови. Я подошел к нему, он лежал весь в крови. Она была такой темной, почти кориченвого цвета, везде, на подушке, на одеяле, на простыне была кровь, среди которой были видны сгустки распадающихся тканей. Я надел перчатки, принес ведро теплой воды и стал убирать кровь под отцом, едва сдерживая приступ рвоты. Отец ойкал, но молчал. Потом он даже привстал, чтобы поменять простынь, но рухнул на пол, и стал биться в конвульсии - так много крови он потерял. Вот тогда я испугался, потому что не было никого чтобы помочь, я лишь повторял, находящемуся без сознания отцу, "папа, я здесь". Он очнулся, открыв один глаз, и, как ворон, быстро и цепко, стал разглядывать помещение вокруг, потом увидел меня, поднялся и лег на кровать.
- Скоро, уже скоро, - говорил он, едва произнося слова, - скоро понесете меня ногами вперед...Может, все это заразно? - Спрашивал он после долгой паузы. - Как думаешь?
- Не знаю. В больнице мне ничего не сказали по этому поводу, - отвечал я, и чувствовал холод за спиной. - Если что, приду сюда умирать.
Отец промолчал, но я знал цену его молчания, его вздоха. Он не хочет этого, более того, он хочет, чтобы у меня было все по-другому, не так как у него, чтобы я был более успешным, а значит более счастливым. Успех он видел в деньгах, но из-за своей необразованности и слабого понимания перемен, произошедших в нашей жизни, в жизни всего общества, не мог сформулировать чему в денежном эквиваленте равен успех. Чему же он может ровняться? Может быть, нашим мечтам?
- Сложно тебе будет, - продолжал отец. - Что еще может мать здесь натворить? Она в прошлый раз поставила чайник и уснула. Раскалился, вот, вот лопнит. Хорошо, что я встал.
- Она спит весь день...
- Да, а по ночам, ходит шастает, от холодильника к холодильнику. - Видно было что отцу сложно говорить, он кашлял, пытаясь выплюнуть слюну. Он всякий раз делал это обязательно при мне, чтобы показать, как ему плохо. Но ничего не надо было показывать, все и так было видно. Рак изуродовал его кожу, словно дерево уродует болезненные наросты, а он всякий раз спрашивал, ну, что сейчас меньше?
Иногда я задаю себе вопрос, а нужно ли говорить(и уж тем более писать) так подробно о моем отце, наверное, он бы не захотел, чтобы было столько подробностей, да еще со стороны сына. Но я-то пишу об этом со слезами на глазах!Однажды, когда он строил Храм Христа Спасителя, а было это почти восемь лет назад, тогда еще был возведен лишь цокольный этаж, началось строительство алтарной части, велось оно вяло, потому что не хватало рабочих. Мой отец чаще всего трудился в одиночестве, каждый день перевыполняя план. К нему пришла журналистка областной газеты, долго с ним разговаривала, через несколько дней появилась статья. Я прочел ее и радостный побежал показывать отцу, а он махнул рукой, сказав, что можно было бы и побольше написать, более детально, а не так - по верхам. Он был прав, а в отношении меня, он скажет, наверняка, что не надо писать так подробно, да и вообще не надо, но сердце мне подсказывает, что иначе нельзя. Уверен, он простит. Теперь у тебя отец - главная роль.
6.
Господин Фйогле приехал еще раз. Меня попросили втретить его в аэропорту. С ним была та же компани - Галина,Ян, но был еще какой-то молодой немец. Они пахли самолетом(не очень приятный запах), и ко всему были как-то необычно взволнованы. Фйогле долго ждал свой чемодан в помещении выдачи багажа. Это помещение напоминало большой сарай с разбитыми окнами. Он переминался с ноги на ногу, осматривал с нескрываемой брезгливостью заляпанные стены, пытался даже что-то спросить по-английски у служащего персонала, но ни разу со мной не заговорил. Фйогле сохранял какое-то недружеское молчание. Почему? На это я не могу ответить точно, но могу предположить, - может быть он нашел существенную разницу между нами, и это ему не понравилась: я был молод, независим, свободен и чист. Всего этого напрочь был лишен Фйогле. Да и мое мнение о чем-либо его особенно не интересовало. В Германии, так же как и в России, есть много людей с разными политическими взглядами. Какие из них исповедовал этот седой немец, осталось тайной. Я же придерживаюсь либеральных взглядов, а это значит, что считаю, что человек сам создает свое счастье, и, что общество может быть свободным лишь тогда, когда свободны его граждане. У Фйогле, увлекавшимся русской женщиной Галиной, похоже были некие правые, а может даже крайне правые, взгляды, и это не могло не настораживать лично меня.
В машине все молчали, слушали радио "Монте Карло". В гостинице в одно мгновенье каждый куда-то исчез, попрощавшись, с натянутой улыбкой, и мнимым дружеским пожатием руки. Хотя, казалось, что Ян Косницкий как-то с радостью отнесся к тому, что в аэропорт в качестве водителя приехал я, а не подогнали такси, уж больно много нехорошего он слышал об избиениях иностранцев в России. Но тем не менее, уже в аэропорту возник холод в отношениях, а когда Фйогле попросил, чтобы я был у гостиницы в восемь утра, чтобы ехать в институт, я дипломатично отказался, сославшись на неотложную работу. Тогда он сказал, что вызовет такси, и я кивнул головой, что это хорошая идея. Отвозить немецкого архитектора в аэропорт через три дня его пребывания в городе, опять попросили меня, это было заложено в смету расходов на транспортные услуги. В машине я слушал русскую популярную музыку, и, когда Фйогле глубоко вздохнул, я сделал погромче, что, конечно, ему не понравилось. Немцы не любят примитивную музыку, особенно такие как Фйогле. Выйдя из машины, и выгрузив самостоятельно свои вещи из багажника, он подозвал Галю, и та достала из сумки толстый бумажник. Немец долго копался в нем, перебирая купюры, нашел 500 рублей и протянул их мне. Это вызвало даже не улыбку к представителю немецкого миллиардера, а легкое презрение, которое, наверное, как-то мелькнуло в выражении моего лица, но я скрыл свои эмоции, достаточно убедительно отказавшись от сомнительных подарков господина Фйогле.
Как только я уехал из аэропорта, сделал остановку, чтобы перевести дух, так мне сильно не понравилось предложение о 500 рублях, в них я видел ничтожное ко мне отношение, ввиду того, что сам себя и свое расположение оцениваю гораздо более высоко, кроме того, расчетливый такстит за те же самые услуги, взял бы с Фйогле 1500 тысячи рублей. Когда приехал в институт, попросил, чтобы мне показали смету на транспотртные расходы, там было обозначено 1500 тысячи рублей, я успокоился. Когда, после аэропорта, сделал остановку, стал копаться в бардачках, и наткрулся на тонкую книжку, ту самую, которую нам подарлили в музее Брахерта. Видимо, тогда еще пол года назад, перелистав, я бросил ее в машине, да так и забыл, и вот теперь, она вновь оказалсь у меня в руках.
Письма Мии Брахерт своему мужу меня интересовали меньше, чем ее дневниковые записи, сделанные сразу после прихода к власти нацистов. Меня волновали другие вопросы - что привело к гибели Кенигсберга, кто виновен в том, что город был "заживо" погребен под слоем земли, и почему его не стали восстанавливать, как практически все разрушенные в годы Второй Мировой войны города Восточной Пруссии, Германии, Польши и даже Литвы, входившей какое-то время в состав Советского Союза. Долгое время работая с чертежами, фотографиями и другими документами последних дней Кенигсберга, невольно будешь искать ответы на многие подобные вопросы.
Бедная Мия Брахерт была вынуждена убедить своего мужа покинуть Кенигсберг, потому что с приходом к власти нацистов, возникла угроза не только его творческой карьеры, она была прервана, но и жизни.
"Этой ночью я впервые испытала живтоный страх за любимого человека", - писала Мия, встревоеженная ночными визитами нацистов к людям иного мышления и взглядов. "Прусская газета" обвинила Германа и ее в том, что они - евреи (разве можно вообще в этом обвинять), написала, что Герман не был согласен с германским правительством, занимавшимся сбором средств в 20-ые годы на строительство бронированного крейсера.Он полагал, что деньги нужны на социальные нужды, на помощь молодым семьям и детям, чьи родители потеряли работу.
Германия начала готовиться к войне, это стало ясно, когда Гитлер, победив на выборах, стал главой правительства. Одним из немногих немецких земель, где партия фюрера не набрала необходимого количества голосов, была Восточная Пруссия, а в Кенигсберге нацисты набрали голосов меньше всего по Германии. Но теперь это никого не волновало, свободная Пруссия была поражена "коричневой" чумой, и, это надолгие годы потом закрепилось за этой частью Германии, а потом перешло даже
по наследству к СССР и России. До сих пор от Кенигсберга веет чем-то коричневым, хотя, здесь теперь живут другие люди.
Когда к власти допустили ставленника Гитлера бывшего железнодорожника Эриха Коха, о гражданских правах кенигсбержцев напрочь забыли, либеральные взгляды людей уводили их в концлагеря и могилы.
Мия пришла поздно вечером к своей подруге Анне. Она рассказала, что им прекращены выплаты денег, и у них нет ничего самого необходимого. Пришлось отказаться от квартиры в Кенигсберге и переехать в Георгенсвальде.
"Какое счастье, что у вас есть там дом, - шепотом, прикрывая ладонью тонкие губы, говорила Анна, разглядывая взъерошенные волосы Мии. - Хотя, разве можно здесь спрятаться от этой гнустной травли? Бедная моя, Мия. Господи, за что же такое нам всем наказание".
"Ты боишься? - Перебивала Мия, останавливая взгляд на портрете Гитлера, висевшего в зале, и видного даже из холла. - Когда мы приехали в Георгиенсвальде, хотели войти в дом, заметили прикрепленную вырезку из газеты с одной из провокационных статей...А позже я видела каких-то подозрительных людей. Они наблюдали на нами...Знаешь, Шютц и его друзья были недавно забиты кнутом до смерти...Моей единственной заботой сейчас является поиск денег на поездку Германа. Если он не покинет Кенигсберг, его убьют".
"Этот портрет повесил мой муж, - сказала Анна, уловившая щепетильность момента, когда Мия, нахмурив брови, глядя на портрет Гитлера, хотела встать, чтобы уйти. Часто обстоятельства меняют людей, и даже, казалось, самые либеральные из них, под страхом какого-то наказания, тяжелых лишений, и уж, конечно, смерти меняют свои убеждения. Еще вчера на том же самом месте висел маленький портрет Канта, а сегодня здесь висит большой портрет Гитлера, купленный в книжной лавке. - Я не стала ему мешать. И знаешь почему? У нас нет столько сил, чтобы все менять. Мы не сможем выстоять. Вы сильнее нас, Мия, пойми. Я постораюсь найти деньги, чтобы помочь, но мы сами сейчас очень нуждаемся. Приходи завтра".
Мия пришла на следующий день, и Анна дала ей денег, сказав, что это ее сыновья попросили в долг у прислуги, и пообещали отдать, как только потребуют.
"И что они сказали?" - Тихо спросила Мия.
"Они сказали, что им нужно оплатить "срочный" долг", - Анна тяжело дышала, понимая, что чувствует Мия, беря эти деньги, от которых она в иных обстоятельствах, конечно, отказалась бы, но сейчас она не могла не взять их, потому что больше нигде не сможет достать средства на билет до Штудгардта, а это значит, что Герман останется в Кенигсберге, и в одну из ночей нацисты придут и уведут его.
На главном вокзале в кассе Мию спросили покупает ли она билет себе или кому-то, она ответила себе. Сквозь темные очки не было видно ее глаз, и кассираша не заподозрила ничего особенного, когда, отдав билет, пристально попыталась взглянуть в глаза Мии. Она пожелала ей счастливого пути, добавив, что поезда ходят наполовину пустые, а это значит, что она будет ехать в купе одна. Это несколько приободрило Мию, потому что часто кассирши продавали билеты, учитывая пол. Женщины ехали в одном купе с женщинами, появление же Германа в таком купе могло озадачить и пассажиров, и проводницу, и полицию.
Ранним утром Герман и Мия стояли на перроне, боком друг к другу, словно чайки, прилетевшие с разных сторон, и присевшие на какое-то мгновение перевести дух, - он ищет нужный номер вагона, она - испуганно наблюдает за действиями полицеских. Они могут подойти, спросить паспорт, и кто-то из них может оказаться осведомленным в гнустной истории про Германа. Многие полицейские читают газеты. Но мало кто из них знает его в лицо. Супруги ждут, когда в вагон зайдут пассажиры, и поднимаются следом за ними. Действительно, кассирша не соврала, людей в вагоне не много, есть пустые купе. Герман обнимает Мию, шепчет ей на ухо, что все будет хорошо. Как только он приедит в Штудгардт, вышлет ей денег. Мия целует мужа, выходит из вагона и неспешным шагом направляется к выходу, вместе с ней начинает движение поезд. Сначало они передвигаюся одновременно, бок о бок, но каждую секунду, скорость поезда становится все быстрее. Вот уже, стуча колесами, он мчится, как птица, а Мия, все еще идет по перрону, и ей кажется, что еще мгновенье она остановится...и упадет. От бессилья. Как только поезд скрывается вдали, стихает его ровный бой колес, на вокзале становится тихо, где-то слышны лишь эхо шагов, Мия вдург ощущает новый прилив свежего воздуха, и вот уже она, словно чайка летит, и ее крылья так крепко держат ее душу на лету. Она смело смотрит в глаза полецейским, и ей кажется, что она смеется над ними, над явным упущением в их работе, которым несмненно является Герман. Еще несколько минут и она сидит в трамвае, протягивая кондуктору деньги за проезд, и вдург понимает, что в Кенигсберге ей некуда ехать. Особенно ее нигде не ждут. Она сделает кольцо и вернется на вокзал, чтобы во время поездки подумать, как ей жить дальше. Закончена целая эпоха ее жизни в прекраснейшем городе Европы - Кенигсберге. Теперь жизнь будет другой. Здесь все те же скверы, площади, здания, мосты. Ничего не изменилось за какие-то двадцать минут, пока она провожала Германа, но как многое изменилось в ее сердце, все вокруг словно стало кудато медленно уплывать, как вагон поезда на перроне, отражаясь в начищенном до блеска стекле трамвая. Еще ей кажется, что и травмай летит, как ее душа, опираясь на крепкое крыло чайки, но, вернувшись на вокзал, она выбежит на перрон, откуда ушел поезд Германа, остановится у часов и тихо заплачет. Время словно остановилось здесь, отмеряя стрелкой последние секудны счастья. Какое страшное чувство одиночества охватит ее, и в памяти будут возникать образы и слова Германа. Он уехал с тяжелым сердцем, потому что был вынужден подчиниться Мии, которая скрыла от него, что помогала людям, не принявшим режим эсесовцев. Это значит, что она подвергла опасности всю семью, и его в первую очередь. Он уехал, поддавшись уговорам жены, и единственное в чем он видел смысл своего отъезда, так это в том, что у него появится больше возможностей заработать и помочь ей.
Вечером Мия отправляется в свое ателье. У самого входа ей встречается группа эсесовцев, которые скандируют, что они властители мира. От этих песен холодок пробегает по спине. Она открывает дверь, и на пол падает письмо. В ателье холодно, нужно разжечь камин, на это уходит почти пол часа. Сырые дрова плохо разгораются. Согрев чая, Мия садится в кресло и распечатывает конверт, в котором находятся бумаги о ее происхождении. Песни солдат становятся все громче. "Мы есть хозяева мира", - кричат они и средце сжимается от страха. Надо проверить все документы и письма. Вот одно из писем, в котором косвенно указано, что Мия родилась в России. Оно должно быть сожжено, но рука не поднимается бросить его в огонь. Она ходит по ателье, отыскивая укромный уголок, чтобы спрятать это, неотправленное в Россию, письмо. Она отодвигает книги на стеллаже и кладет туда это письмо в надежде, что скоро появится возможность отправить его своим родственникам. Как только она задвигает книгу, раздается громкий стук в
дверь. Сучат не рукой, а чем-то железным. Мия вздрагивает, пытаясь достать спрятанное письмо, чтобы сжечь, но оно проваливается за стеллажи, и исчезает из вида. Женщина берет в руки железную трость, перемешивает ею золу в камине и идет открывать. Но за дверью - никого нет, и от этого ей становится еще страшенее. Она ложится спать, укутываясь пледом, разглядывая тлеющие огоньки в камине, с мяслями о детях, и слеза течет по ее щеке.
Утро показалось ей каким-то необычно тихим, ни одного звука, и даже за окном, откуда обычно доносились чьи-то шаги или же какие-то крики, а вчера вечером и вовсе эссеэовцы горланили песни, была мертвецкая тишина. "Видимо, страх укачал всех, кто живет в округе", - думала Мия, рассматривая свое лицо в небольшое зеркало, стоявшее в углу, на стеллаже, у окна.
Позавтракав, она отправилась к редактору "Прусской газеты". Это был высокий худой человек с длинной козлиной бородкой, бегающим колким взглядом, рыжеватый, с ровным носом, с полем веснушек и пигментных пятен на лице. Он был в костюме из кармана которого свешивалась длинная цепочка часов.
Когда Мия вошла в его кабинет, он даже не привстал, и не приподнял голову, зная по докладу что к нему пришла Мия Брахерт.
"Я пришла просить вас, чтобы ваша газета напечатала опровержение, что я - не еврейка. - Тихо сказала Мия. - Вот документы, подтвержадющие это".
"Хорошо, мы дадим опровержение, - ответил редактор "Прусской газеты". - Хотя, признаюсь, я был о вас лучшего мнения. Значит, вы все-таки немка. Ну, вот и ладно. Все?"
"Но, я бы хотела, чтобы вы напечатали опровержение и относительно моего мужа"... - У Мии не хватило дыхания, что бы завершить свою мысль. Она еще должна была сказать, что Герман имеет право на собственное мнение, а тогда в 20-х годах, когда было все гораздо проще, очень многие высказывались против огромных расходов на оборону, ведь нужны были школы, учебники, детские сады. Но всего этого ей не дали произнести.
Редактор стукнул кулаком по столу, надув щеки. "Что касается вашего мужа, не хочу ничего и слышать про него. Опровержение?! Относительно чего? Относительно того, что он тоже не еврей? - Было слышно как он тяжело дышит. - Все идите".
"Прошу вас", - сев в кресло протянула, почти пропела Мия. Может быть, если бы она заплакала, редактор как-то иначе отреагировал на ее просьбу, но видя перед собой светлое, красивое лицо Мии, но которое, как ему показалось, немного смеялось над ним, он встал и закричал, что ее муж - враг народа. В кабинете открылось сразу несколько дверей, вошли люди. Мия сидела в кресле, испуганно озираясь по сторонам, прекрывая свои губы ладонями.
"Ваш муж подписался в общим списке против строительства нового германского флота! Те, кто подписали этот документ, и не имеет значения, кто они - поэты или ученые, они - не немцы! Они - враги народа. Ни о каком опровержении вообще не может быть и речи. Более того, я уверен, что рано или поздно такие люди, как ваш муж, предстанут перед судом", - редактор сел, выдохнув, показав всем, кто вошел в кабинет, что можно его покинуть. Мия сидела не подвижно, словно ее парализовало. Никто никогда не называл Германа врагом народа, она даже представить себе не могла, что вот так прилюдно, скажут такое о выдающимся человеке, о скульпторе, имя которого известно далеко за пределы Пруссии. Но это был свершившийсая факт, и одно успокаивало ее, - то что Герман уже был далеко отсюда.
III
Оцепенение
1.
С того времени, когда Герман Брахерт уехал из Восточной Пруссии, Мия стала все чаще ощущать гнетущее чувство страха, постепенно превращающееся в оцепенение, и единственным ее спасением в Кенигсберге, была ее работа. После того, как "Прусская газета" опубликовала опровержение в том, что она не еврейка, и она прикрепила его на витрине своего ателье, ей позвонили из Королевского замка и предложили фотографировать экспонаты музейных фондов. Это было спасение в бездне угнетающих обстоятельств. Она слышала то тут, то там, как эсесовцы издеваются над инакомыслящими, над теми, кто открыто выступил против нового режима, они подвергают их жестоким пыткам и даже мучительной смерти. Почему не приходят за ней? Почему ее не арестовывают, ведь она помогала многим выступившим против нацистов. Она постоянно себя об этом спрашивает, и не получает ответа, и вот теперь - приглашение на работу в замок, что нельзя воспринимать иначе, чем подарок судьбы. Мия берет фотоаппарат, треногу, пластины. Какое это счастье быть востребованной, и как же не справедлива судьба к Герману, все должно быть наоборот, это он должен трудиться не покладая рук здесь в Кенигсберге. Здесь сейчас много строится и его талант был бы кстати. Но политика - прожорливая гиена, она съедает судьбы людей, искусство, человеческие ценности, если ей это угодно, если ей это выгодно, и как только она приступает к своей трапезе, в ее пасти оказывается все, что будет стоять на пути, и продолжаться эта тайная вечерня будет до тех пор, пока брюхо этой твари не будет набито до верху.
По дороге в замок Мия встретила Лидию - невысокую черноглазую женщину. Черты лица,и в первую очередь, большой орлиный нос, выдавали в ней еврейское происхождение. Мия с нескрываемой радостью обняла малышку Ли.
"Боже, как я рада, что встретила тебя, - взяв под руку давнюю подругу, начала Мия, - у меня теперь новая работа. Слава Богу! Обещают хорошо заплатить. Столько надежд. А то я совсем духом упала. Как ты? Как твоя сестра, как твой отец?"
Ли рассказала Мии о преследованиях со стороны нацистов. Ее глаза несколько раз наполнялись слезами, но она так и не заплакала, так сильно она была утомлена. Руки ее не могли найти места. Она теребила ворот пальто, что-то искала в карманах, как-то нелепо разводила руками в стороны.
"Знаешь, когда я войду в курс дела, ты приходи ко мне, мне понадобиться помощница. Нужно будет проявлять и печатать
снимки, - сказала Мия. - Я сейчас осталась одна. Герман уехал, дети - в Георгиенсвальде... Моя хорошая Ли, как же я рада, что встретила тебя".
Она позвонила Ли на следующий день, чтобы сообщить, что она может приходить к ней в ателье, потому что она уже сделала несколько оттисков и теперь их нужно проявить, а Ли все делает очень аккуратно, не в пример другим, и это, конечно, всегда ценится. Через два часа Ли приехала к Мии, и засучив рукава своего неуклюжего платья из черного бархата, не мешкая, приступила к работе.
"Ли, почему у тебя такое странное платье? - Спросила Мия свою помощницу через дверь, за которой та занималась проявкой фотопластин. - Мне кажется, такой фасон был моден в середине 20-х. Неужели этому платью добрый десяток лет? Нет, мне, конечно, все равно в чем ты одета, но, наверное, тебе не удобно, ведь это - бархат, а к нему все липнет. У меня есть несколько кофт, и еще есть старенький фартук, я думаю, что лучше надеть их. Тебе ведь придется теперь часами проводить в полутьме, а твое платье хоть и устаревшего фасона, все-таки оно было пошито для каких-то торжеств. Мало ли, говорят, что мода возвращается, и это платье тебе может пригодиться".
Ли вынырнула из проявочной и смущенно посмотрела на Мию.
"Я завтра надену что-нибудь поскромнее, - ответила она и Мия обратила внимание на ее раскрасневшиеся уши. - Все. Снимки - на сушке. Я попью кофе?"
Мия и Ли пили кофе, сидя в маленьких креслах, обитых салатовым атласом, на журнальном столике стоял высокий медный кофейник, а с краю - стеклянная сахарница с рафинадом. Женщины пили кофе так тихо, что казалось, они присутствуют на каком-то важном торжестве. К тому же платье Ли из черного бархата, хоть и было устаревшего фасона, придавало этой минуте некоторую торжественность.
"Находясь в кандалах, человек иначе воспринимает все красивое, что окружает его, - говорила Мия, рассматривая свои длинные пальцы. - В кандалах человек не может коснуться этой красоты, но может вдохнуть ее аромат, также как может, сидя за столом, на террасе, наслаждаться запахом сирени, распустившейся во дворе. Человек в кандалах, где-нибудь в темнице, наверное, не способен увидеть, как поет соловей, но способен услышать его трель, и от этого его душа испытает облегчение. Совсем по-другому человек воспринимает красоту вокруг себя, находясь в оцепенение, в душевных кандалах, потому что его чувства скованы внешними обстоятельствами, и часто большие прекрасные цветы, растущие на клумбе возле дома, усыпанный багровыми листьями осенний сад или безмятежное голубое небо, вызывают лишь чувство отвращения и злобы. Можете представить, что происходит с обществом, оказавшимся в подобном смятении. Чувство оцепенения не появляется вдруг, как может появиться чувство страха. Оно складывается, как детский конструктор из множества негативных факторов, в том числе и из страха, и поэтому глубже и сильнее, чем страх. Оцепенение подавляет человека так сильно, что даже на генетическом уровне готово изменить его суть, сделав не просто флегматичным неврастеником, но полным перерожденцем. Но оцепенение обладает одним неоспоримым преимуществом. Находясь в таком положении, человек развивает бурную деятельность в рамках своей работы, может быть, именно труд позволяет ему избежать участи неврастеника или перерожденца, это парадокс - но это так, вот почему несвободные государства часто демонстрировали миру экономические успехи. Например, разве можно назвать Древний Египет, подаривший человечеству свои легендарные пирамиды, свободным государством, конечно, нет. Только поистине свободные государства являются главным гарантом экономических успехов".
"Знаешь, - говорила Ли, - мой отец видел на улице Канта замечательный магазинчик. Когда-то там торговали восточными сладостями. Но сейчас магазин закрыт. В нем нет никаких признаков жизни. Может быть, стоит найти хозяев, и поинтересоваться, не сдадут ли они свое пустующее помещение. Это было бы удобно, потому что оно находится ближе к замку, и людей там бывает больше, чем здесь".
Магазинчик восточных сладостей на улице Канта словно был создан для того, чтобы в нем разместилось фотоателье. В нем были большие окна от потолка до пола, дающие много света, и несколько темных закутков, где не стоило труда создать проявочную. Мия перебралась сюда сразу, как только хозяева этого магазинчика, взяв небольшую сумму денег в качестве предоплаты, дали ей ключи. Переезд занял несколько часов, и поздним вечером Мия и Ли, сидя на сундуках и коробках, также торжественно, как и в прежнем ателье, пили кофе из высокого медного кофейника, и размышляли о том, где и что поставят.
2.
Однажды в новое ателье Мии зашел высокий человек в нацисткой форме. Он поинтересовался у Ли, можно ли будет сделать несколько его фотографий на документы и для альбома. Ли позвала Мию. Когда та вошла в зал, то сначала подумала, что человек в нацистской форме пришел за ней, что пробил и ее страшный час, и от этой мысли у нее подогнулись колени, но Ли, понимая, что может испытать Мия в подобной ситуации, поспешила поправить положение, сказав, что этот мужчина хочет сделать фотографии на документы.
Мия пригласила его в комнату, где на треноге стоял аппарат для съемки, у стены, покрашенной в белый цвет, была кушетка, и когда женщина склонилась над аппаратом и стала разглядывать лицо пришедшего, что-то волной пробежало по ее спине. В лице этого человека в нацистской форме не было не только следов жестокости, но и ни одной уничижительной нотки. Когда Ли проявила снимки, Мия, взволновано дыша, взяла их и стала пристально разглядывать лицо военного. У него были удивительно правильные черты - ровный нос, симметричные дуги бровей, высокий лоб, аккуратно зачесанные волосы,
едва заметные маленькие уши, ровный овал лица и острый волевой подбородок. Единственным, что портило внешний вид военного на фотографии, был шрам на щеке под левым глазом. Она молча взглянула на Ли, в ее преданных честных глазах она прочитала грусть по прошедшим временам. Еще недавно этот мужчина, возможно, был обычным учителем и вокруг него было много детей, или он был врачом, который спасал жизни безнадежно больным людям, или он занимался коммерцией, привозя из дальних странствий дорогую ткань или какие-нибудь технические новшества. Но сейчас на нем - нацистская форма со свастикой, он принадлежит к группе людей, которые по духу враждебны Мии Брахерт, которых она не просто не любит, она их ненавидит за то, что они разделили людей по сортам, по видам, по классам, как животных, определив каждому сорту принадлежность и участь, выделив при этом собственную значимость.
Мия, как и ее муж Герман ненавидели нацистов, в то же время они не были и коммунистами, они даже не симпатизировали им, и, видимо, органам это было известно, поэтому Брахертов не трогали, а, например, профессора Филиппа Гиппиуса, поддержавшего левые взгляды, не просто упрятали в застенки, над ним жестоко издевались, и он не вынес пыток, умер в заключении. Вообще, так сложилось, что фашизм все больше завоевывал умы кенигсбержцев по одной причине - оторванности Восточной Пруссии от Германии. В 1928 году доходы на душу населения в Кенигсберге были чуть ли не в два раза меньше, чем в Берлине, спустя десятилетие, когда у власти уже стоял Гитлер, положение немного
улучшилось, но Восточная Пруссия все так же оставалась территорией с низкими доходами. Уровень жизни в Саксонии, Шлезвиг-Гольштейне, Вестфалии, Померании, Силезии был значительно выше. Хуже дела обстояли только в Западной Пруссии. Именно оторванности Кенигсберга от основной части Германии приписывались все экономические беды. В 1920-ые годы Восточной Пруссии стали больше уделять внимания, отправляя туда все больше и больше государственных субсидий и власти Кенигсберга даже стали симулировать этим, выдавая в Берлин заниженные экономические показатели. В Германии все чаще стали звучать заявления о необходимости построить польский коридор, соединив Восточную Пруссию с основной частью страны. Официально нацисты подняли эту тему в 1938 году, и именно она стала причиной начала 1 сентября 1939 года войны с Польшей, как в последствии выяснилось, эта дата стала началом второй мировой войны, унесшей десятки миллионов человеческих жизней. Нацисты требовали начать строительство экстерриториальной магистрали из Германии в Восточную Пруссию через Польшу. Вестерплатте, где высадились нацистские войска 1 сентября 1939 года, начав войну с восточным соседом, находилась на месте этого планируемого коридора. Жители Кенигсберга к началу войны изменили свой привычный либеральный уклад, и многие перешли на сторону нового режима, полагая, что Гитлер спасет Германию и немецкий народ. Но они не могли увидеть даже в страшном сне, что станет с Кенигсбергом через какие-то пять лет. Мнимые субсидии из Берлина не были способны решить все экономические проблемы восточных земель. В Германии эти земли воспринимали, как районы со сложными условиями жизни, и, считалось, что там можно работать, но не жить. Средняя продолжительность жизни в Восточной Пруссии также была крайне мала по сравнению со многими центральными землями Германии. Гитлер надеялся кардинально изменить положение дел везде, в том числе и в Кенигсберге, но в итоге политика нацистов привели к оцепенению Кенигсберга, который накануне войны вроде бы и трудился с удвоенной силой, и даже напоминал муравейник, возводивший Вавилонскую башню. Нужно было только приглядеться, что было основой этого голого энтузиазма - страх, запугивания, опасения, издевательства, травля. Брахерты знали это на собственном примере.
"Как же так, - спрашивала себя шепотом Мия, когда они вместе с Ли сидели в шезлонгах на улице возле ателье и грели свои коленки под солнцем, - ведь жители этого города не выбирали эту власть. Почему же она нами руководит?" Это был 1934 год - последний год, когда маленькая Лидия Кербель помогала Мии, работая в ее ателье. По радио все чаще стали звучать антиеврейские призывы, и в итоге они вылились в откровенную антиеврейскую кампанию, завершившуюся геноцидом евреев. Позже Ли удастся эмигрировать в Америку и даже открыть там собственное ателье, а сейчас она сидела с Мией на улице Канта, вытягивая свои неуклюжие маленькие ножки, которые ласкало весеннее солнце, и слушала как стучат колеса проезжающего неподалеку трамвая.
3.
Часто бывает так, что многие процессы в жизни людей не возможно остановить. Иногда кажется, что вчерашние лозунги и транспаранты все еще символизируют некий прогресс, а процессы, которые постоянно отталкиваются в сторону, кажется, что все еще мешают общему делу, движению вперед, но прогресс сам выбирает себе путь движения, как река выбирает себе русло, огибая каменистую почву и возвышенности. Прогресс вообще имеет много иллюзорного вокруг себя. Он движется семимильными шагами и человеческому интеллекту бывает не просто определить, где его вектор. Многие люди мчатся за ним, но так и не успевают настичь, кто-то полагается на интуицию, и что самое интересное, она часто помогает увидеть прогрессивные идеи. Очень сложно увидеть прогрессивные начинания в противоположностях. Вчера казалось, что автомобильная дорога рядом с вашим домом была настоящим благом, а теперь, когда транспорта стало так много, что он заполонил практически все, эту дорогу стоило бы закопать, и разбить на ее месте парк, где бы сладко пели соловьи, а транспорт пустить куда-то подальше от жилых домов. Увидеть жизнь, которая и является прогрессом, во всем ее проявлении может не каждый, но каждый к этому должен стремиться.
Однажды, идя по пустынному Кнайпхофу к своим родителям, мне пришла в голову крамольная мысли - срубить здесь все деревья, вскрыть фундаменты домов, отдать весь остров на откуп археологам. Я долго думал с кем поделиться этой идеей, кому она будет понятна. В это время в нашем институте начался процесс реорганизации, появились новые люди. Один из них Руслан Ботяжин приехал из Орла, надеясь построить карьеру на новом месте. Казалось, что немецкая история, да, в принципе, история этой земли ему была интересна.
Ботяжин часто заходил в мой кабинет попить кофе, мы обсуждали разные проекты и события. Одним из увлечений Руслана стали городские ворота. Он собрал массу литературы о том, когда и кто их построил. Но еще с большим интересом он увлекся раскопками на бывших немецких фортах. Вообще, люди пришлые часто стремятся лишь к некому мнимому обогащению, и не спешат вникать в суть вещей. Капательство сильно увлекло Ботяжина. Но чем больше он обогащался разного рода бутылками и ржавыми предметами, тем больше он начинал понимать ценность того, что лежит под землей. Он даже какое-то время входил в группу по поиску знаменитой Янтарной комнаты. Такие группы время от времени появляются, но ввиду бесперспективности этих поисков, распадаются.
Вот с Ботяжиным как-то впервые и обмолвился идеей вскрыть фундаменты Кнайпхофа. Первое, что, понятное дело, произнес Руслан, было - "сколько хлама можно будет найти под землей". Он тут же бросился к фотографиям, которые висели у меня на стене, с изображением довоенного Кнайпхофа, и ахнул. Но в то же время в кабинете сидел, попивая чай, господин Куров, который фыркал и кряхтел, что-то вырезая и склеивая, и так получилось, что он также стал невольным слушателем по поводу вскрытия фундамента домов в Кнайпхофе, и даже вставил свое возмутительное - "вы еще город переименуйте, тогда сразу будете жить как в Германии". Я понял опрометчивость своих высказываний, потому что Ботяжина они интересовали лишь как возможность поживиться(пусть даже лишь в мыслях), а для Курова были как для быка красная тряпка тореадора.
Куров вообще вел себя нагло, пытаясь каждый раз показать свою значимость, свое некое превосходство, хотя, даже работая в нашем институте, был как-то очень долек от архитектуры. Он все также продолжал заниматься своей книгой, которую я лично уже не причислял к чему-то общественному, важному, потому что на собственной шкуре понял легкомысленность этого многотомного издания, в котором не нашлось места для моего деда, погибшего в годы второй мировой войны в Литве. Полагаю, что после распада СССР, имена таких людей должны были уточняться и затем помещаться в памятных Книгах приграничных регионов. Понято, что в Литве никто не будет издавать такие Книги. Да и вообще, нужны ли они с появлением Интернета и сайта Memorial.
Курова я называл по имени, минуя его отчество, потому что считал, что раз он не замечает моих корней, то и я буду тоже игнорировать его предков. Ботяжин, конечно, не мог знать этого, и он спокойно реагировал на мое отношение к полковнику в отставке, игнорируя его отчество, называя его просто по имени, но на "вы". В свою очередь Куров прекрасно знал мое отношение к нему, но, будучи человеком слабовольным, закрывал на это глаза, всякий раз обращаясь ко мне с просьбой, чтобы я дал ему электрический чайник, чтобы вскипятить воды для чая. Никто чай с ним не пил. Он гремел ложкой в одиночестве. Но делал он это так часто, что мне начало казаться, что я нахожусь в вагоне поезда, который куда-то едет, и в котором проводница постоянно разносит чай по купе.
"А какая вообще разница для вас, вскроют ли фундамент домов на острове, или возведут бессмысленную Римскую колонну на центральной площади? - Мой вопрос Курову звучал как утверждение. - Вы всегда живете одной идеей, которая заключается в значимости собственного я". И тот, сначала сконфузился, стал ерзать на стуле, и вдруг выдал, что "я не ведаю что творю".
"Как это интересно, - тихо ответил я. - И что же я творю, расскажите мне. Ну, объясните, что именно такого я не ведаю?"
Куров встал, лихорадочно стряхивая со стола крошки от булки, и вышел из кабинета. Ботяжин никак не отреагировал на остроту моего диалога с Куровым, но заметил, что не понимает зачем нужно открывать фундаменты, ведь и так на острове - очень красиво: Кафедральный Собор в гуще молодых лип, высокая трава, трель птиц, и порхание бабочек.
"Рано или поздно в городе появится нехватка земли, имеющиеся в центре площади начнут застраивать - это аксиома, - попытался я объяснить ход своих мыслей. - Лучше, если к этому времени, здесь в Кнайпхофе поработают археологи, это добавит знаний о средневековых городах, а может быть, и принесет что-то ценное в сокровищницу Кенигсберга. Причем, работы для археологов здесь может хватить на многие годы, и кроме этого, фундаменты зданий в открытом виде, а не под землей являются своеобразной изюминкой для современного туриста. Если нет возможности посмотреть на довоенный Кенигсберг, то пусть будет возможность посмотреть на его руины. Это может привлечь многих. Где еще в центре современного города есть руины средневековья?"
"Хотя, ты может быть, прав, - Ботяжин потирая руки, обдумывал сказанное мною, - то что приносит деньги, имеет право на существование".
В это время в кабинет влетел Куров, тяжело дыша, и следом раздался телефонный звонок. Меня вызывал генеральный. Я спустился к нему.
"Курову нужно место. Что он сидит у тебя, как бедный родственник. Он целый полковник, а ты его где-то за шкафами посадил, там и ноги вытянуть невозможно", - начал генеральный.
"Но я не могу выбросить начатый макет Кнайпхофа. Каждый день он становится все больше, потому что я каждый день работаю над ним. Я и сам сижу в стесненных условиях", - попытался парировать слова генерального.
"Надо найти место, - упорствовал он. - Ты понял меня?"
"Но места нет, может быть, мне Курову весь кабинет уступить?" - Произнес я и понял, что поставил генерального в неловкое положение, противопоставив себя Курову.
"Уступи", - ответил он.
Я провел ладонью по виску, не предполагая, что разговор закончится так быстро, но дабы предостеречь себя от негативного развития событий, ответил, что Курову будет выделен самый большой стол, и подарен электрический чайник, чтобы он с утра до вечера пил чай.
4.
Вообще, идея масштабных археологических раскопок на острове Кнайпхоф, пришла мне в голову не вдруг, и, может быть, не только мне, потому что на месте бывшего Кенигсбергского замка, чуть выше острова, уже начали проводить археологические раскопки, вскрыв погреба, и, наверное, кто-то из историков также стал подумывать о работах в Кнайпхофе.
С такими мыслями я пришел домой к родителям, и был удивлен, увидев в их квартире женщину и юродивого. Это была старая знакомая моей матери Рима с глупеньким Витичкой. Он подобрала его возле церкви в Дивеево, в Нижегородской области, где она побывала когда-то в качестве паломницы. Паломники люди не обычные, и среди них много людей озлобленных, потому что им кажется, что со стороны простых обывателей к ним существует предвзятое отношение. Эта озлобленность проникла в сердце и этой маленькой женщины, может быть, доброй по натуре, но испорченной дальними дорогами паломничества, лишением, скитанием, противопоставлением себя обществу, где по ее мнению много греха. Она бросила своего мужа из-за того, что он изменил ей с другой женщиной, и подалась в православие, но, может быть, она не верно трактовала православие, не верно поняла любовь к Богу, из-за церкви она поругалась с дочерью и не смогла простить ей причиненную обиду, хотя ведь церковь призывает к всепрощению. В Дивеево она увидела Витичку. Этому мужчине было больше пятидесяти лет, столько же сколько и Риме. Но он на вид уже был дряхлым стариком, в грязи, бормотал что-то нескладное, и, когда она спросила где он живет, он привел ее в комнату, которую дало ему государство, как больному человеку, и Рима с удовольствием там устроилась жить, а потом пошла в управление и взяла опеку над Витичкой, ввиду того, что его сестры фактически отказались от юродивого.
Комната, в которой жил Витичка, была маленькой, наверное, пять квадратных метров, но, когда Рима в ней убралась, она показалась ей вполне сносной для жизни. Кроме того, строить отношение с душевно больным человеком, как думала женщина, проще чем с человеком амбициозным, которым был ее прежний муж. Юродивый человек, как растение, или как маленький ребенок нуждается в ежедневном физиологическом уходе, этого часто не хватаем многим пожилым женщинам, у которых уже выросли дети, а мужья почили по старости лет. Ко всему, юродивый никогда тебе не изменит, он всегда будет рядом, а это так важно, чтобы в твоей молитве к Богу был кто-то рядом. Тем более юродивый - он ведь больной и Бог это видит и поэтому забронирует для тебя обязательно светлое место в царствии небесном. Но Рима была и остается сейчас достаточно изворотливой женщиной. Получив опеку, она пошла в пенсионный фонд и выяснила, что Витичке десять лет не выплачивалась пенсия, а это - приличная сумма почти 600 тысяч рублей, она стала требовать, что бы человеку вернули деньги, но власти поселка обеспокоились сумасбродной женщиной и попытались найти защиту у местной братвы. Братва приехала в Дивеево с конкретной целью купить у Витичке комнату в небольшом деревянном доме, а заодно и весь дом, с тем, чтобы потом продать этот дом втридорога. Купить этот дом пожелала московская попдива, дабы на склоне лет отмолить свои грехи на почти святой земле в Дивеево. Братва купила весь дом, и Витичке, а соответственно и Риме стало негде жить, и они поселились в небольшой пристройке возле дома, который теперь стоял заколоченный в ожидании новых хозяев. Рима даже иногда гладила рукой деревянные стены заколоченного дома, пуская слезу, но убеждала себя в том, что жизнь в сарае и помощь Витичке угодна Богу!
Однажды во двор этого дома вошла знаменитая на всю страну певица госпожа Растрепьева. На ней был летний легкий наряд небесного цвета, шляпа с длинными полами, украшенная горстью искусственных цветов, на ее сильных ногах красовались золотые босоножки, сверкающими стразами. За ней тянулась кавалькада услужливых лиц, несших сумки, чемоданы, авоськи, а также маленькую собачку и клетку с птицами. Растрепьева, не обращая внимания на Риму, прошла в дом, дверь в который была отколочена за несколько минут до этого, и через десять минут вышла из дома вся в черном. Алые перчатки отмечали в ее черном облике особенность натуры. Рима долго суетилась, пытаясь выспросить у прислужников Растрепьевой, зачем приехала ее любимая певица, и, когда узнала, что она купила этот дом в Дивеево, то на какое-то мгновенье была безмерно счастлива. Жить рядом с Растрепьевой! Какое счастье! Но вышло так, что, когда певица вернулась в дом, то столкнулась лоб в лоб с Римой, и, узнав, что она вместе с глупым Витичкой живет в хозпостройке возле дома, попросила ее съехать, так как скоро здесь все снесут и сделают лужайку для гамака, и разобьют множество цветников. Рима не сразу сообразила, что ей придется куда-то уезжать. Куда ехать она не знала, потому что никто нигде ее не ждал, даже родная дочь. Все-таки она отправилась домой, вместе в Витичкой, пенсия которого позволяла ей сводить концы с концами, но в ее родном доме ее не приняли, и вот так она оказалась в квартире моих родителей, которые познакомились с Римой в церкви много лет назад. О Риме я узнал только сейчас.
"Вы кто? - Спросил я женщину, занимающуюся мытьем посуды на кухне в родительской квартире. - Вы откуда здесь взялись?"
"А вы, наверное, Петр? Ну, вы можете спросить вашу сестру, она вчера была здесь. Она разрешила нам здесь помогать, - объяснения были какими-то не то что невнятными, а нелепыми. Причем здесь была моя сестра, которая заходит проверить больного отца, наверное, раз в пол года. Почему она должна разрешать, хотя, сама не живет в доме родителей. Рима прочла по лицу мои мысли и продолжила.- Ваша мама разрешила. Вот, я штору постирала. Окно промыла".
На кухне действительно не было шторы, а карниз на которой она крепилась, свисал, готовый упасть. Штору снимали очень неаккуратно.
"Я вижу, что вы штору сняли. Это было ни к чему". - Ответил я, пытаясь разглядеть Витичку, сидевшего ко мне спиной и кушавшего рукой тюрю из чашки. Это был человек обросшей и запущенный, не следивший за собой, без зубов, с глупым веселым взглядом. Первое, что следовало бы сделать Риме, отправить его на лечение. Но вместе они колесили по свету в надежде на то, что исцеление придет со стороны церкви, и нигде не лечились. Что стало причиной душевной болезни Витички мне не известно, но я прекрасно знал, что в этой квартире в детской комнате лежит мой умирающий отец, болезнь которого не менее серьезна, и что он нуждается в покое, который ни Рима, ни Витичка не смогут дать моему отцу. Ко всему прочему, моя мать, обрадовавшаяся приезду этих гостей, стала кричать, что она в доме - хозяйка, и что она будет решать, кто и сколько здесь будет жить, и вот тогда я пошел к отцу, и спросил, что он думает. Потребовалась неделя, что бы отец изменил свое мнение в отношении юродивого, которых на Руси всегда миловали, а царские особы еще и почитали. Несмотря на то, что отец, когда я его спросил, сказал, что пусть поживут, они помогут убирать в квартире и готовить, я вышел из детской комнаты и сказал, что Риме и Витичке надо подыскать себе другое место. - Вы же видите, как болен мой отец. Прошу вас, сегодня, раз уж вы обосновались и обедаете, живите, а завтра покиньте этот дом".
Женщина была обижена, но кроме этого, она стала себя вести так, словно меня не было.
"Они приехали из Дивеева, - говорил мне отец. - Она судится с дочкой, которая забрала у нее квартиру и выгнала ее на улицу. Церковь ее тоже выгнала. Они купили дом в Дивеево, а потом дом выкупил у них какой-то бизнесмен, и им оставил два метра". Я видел, как тяжело говорить моему отцу, но он все-таки говорит, потому что думает, что, пустив этих людей в дом, он будет выглядеть более добрым. Но как сильно можно заблуждаться, пытаясь выглядеть лучше в лице окружающих, не замечая, что тебя попросту облапошивают.
В Дивееве под Арзамасом находится известный в России монастырь и церковь, в которой хранятся мощи Серафима Соровского. Вот из этих мест родом и моя мать, поэтому Риму она воспринимает почти родной, но ее чувства вряд ли находят отзыв у самой Римы, иначе бы она не привезла сюда Витичку. Многие уверены, что, когда наступит конец света, то именно Дивеево будет не тронутым ни огнем, ни водой, ни болезнями. Это мнение крепко в народе.
"И что же она сделала с теми деньгами, которые получила за свой дом в Дивеево? Это, по идеи, должна быть приличная сумма?" - Спросил я отца. Рима может приврать для своей пользы. Эта женщина возит с собой больного Витичку, получая его пенсию по инвалидности и оплачивая расходы на саму себя. Она была вполне прилично одета, что не скажешь о ее юродивом муже. Румянец на щеках этой женщины говорил о том, что она хорошо питается, а количество сумок и баулов, которые она с собой возит, подчеркивал ее кочевой образ жизни. При этом она нигде не работала, и посещая церковь(а она была верующим человеком), оставляла Витичку на ступеньках храма, чтобы тот собирал милостыню. Она была уверена, что никакая молитва его не излечит. Представители церкви несколько раз выгоняли Риму и Витичку из церкви, когда те, ввиду того, что им негде было ночевать, пристраивались в крестильной комнате, положив на пол тряпки, на ночлег. Что же можно еще сказать и о тех, и о других. Но ведь квартира, где живут люди - не церковь. Квартира моих родителей, в которой лежал мой тяжело больной отец, а мать, потеряв рассудок, утратила связь с сегодняшним днем, была удобным местом для Римы, убежденной, что именно здесь они вместе с Витичкой найдут кров и защиту. Они приходили сюда поздно вечером, когда я уже уходил(в их понимании я был жестоким палачом), ложились спать в спальне, где никто не жил, а однажды пришли в два часа ночи, напугав отца. Он даже подумал, что пришли грабители. Встал, едва держась на ногах, и попросил Риму уйти, и она ответила ему, что она пришла по приглашению, а не просто так. Когда же отец спросил, кто ее пригласил, она указала на мою спящую мать.
"Ну, вы понимаете, что вы говорите ерунду", - попытался защищаться отец. Но Рима его не слушала. Она стала искать мешок, который оставила пару дней назад, и оказалось, что мешка нигде нет, а так как ни отец, ни мать его не видели, то виновник в пропаже ее мешка - сын, то есть я. Отец действительно не видел этого черного большого мешка, потому что он лежал, и не вставал, но мать, этот мешок видела, но забыла об этом. Мешок Римы меня смущал, потому что никто не просил ее оставлять эту кладь у нас, в нашей квартире. Я перенес его из спальни в прихожую, чтобы как только она появятся, забрала его и ушла. Конечно, я заглянул туда, в нем были тряпки, несколько кусков хозяйственного мыла, противовирусный антисептик, какая-то церковная литература и книжка по рыболовству . Моя мать, проснувшись, увидела этот мешок и разложила все его содержимое по шкафам. Мне удалось найти Римины тряпки, но куда делись мыло и антисептик, не мог и предположить. Все найденное Римино тряпье было уложено в ее пустое ведро, которое она принесла, чтобы мыть у нас полы, и выставлено за дверь.
5.
На работе у меня было много дел. Институт готовился к строительно-архитектурному форуму, который одна немецкая компания вместе с рядом немецких банков, должна была провести в Москве в следующем году. Руководство этой компании хотело видеть на форуме и представителей бывшей Восточной Пруссии, потому что ряд крупных инвесторов изъявлял желания вкладывать деньги в бывший Кенигсберг. На Западе вообще мало кто иначе называл и называет сейчас город. По привычке. Потому что Кенигсберг был известен в Европе, а новое название там так и не прижилось, и когда говорят о городе на новый лад западные бизнесмены и политики могут переспросить, о чем идет речь. Слово Кенигсберг для них - является ключевым, все становится ясно. Кстати, и местные жители называют свой город по-старому, трансофримруя название в молодежной среде как Кениг, а в среде интеллигенции Кенигсберг - это визитная карточка интеллекта. Более того, большинство жителей города не могут найти прямой связи с Михаилом Калининым - всесоюзным старостой, в честь которого в 1946 году был переименован город, но постамент соратника Сталина все еще красуется на привокзальной площади, напоминающий сегодня, скорее, об эпохе холодной войны, чем некий символ времени.
Наш институт, ставший частным предприятием, представит в Москве две концепции строительства города - мою, основанную на воссоздании старого Кенигсберга, и Мурикова - концепцию, как он выражается, устремленную ввысь. Моя концепция ясна и открыта, концепция Мурикова мне не понятна, что имеется ввиду - ввысь. Однажды я спросил, что из себя представляет его концепция, и он сказала, что узнаю обо всем на форуме. Может, он имеет в виду строительство небоскребов? Так один из них уже строили, но не хватило денег, и возникли сомнения, что двадцать этажей никому не понадобятся.
"Почему-то мы всегда стараемся углубить, расширить, устремить ввысь, но никогда не думаем над тем, удобно ли будет человеку в инвалидной коляске подниматься на сто пятый этаж, где нет ни пандусов, ни специальных лифтов, - говорил я Ботяжину, сидя за столом в пельменной, куда мы иногда заходили на обед. - Началось какое-то сумасшествие с этими небоскребами. Посмотри, - я открыл папку, где лежали фотографии, сделанные на презентации проекта Сити, - здесь семь зданий с высотностью более сорока семи этажей. Вот шпиль - сто восемь этажей. Кто, скажи, будет здесь жить и работать?".
"Бизнес, - Ботяжин всегда отвечал коротко на вопросы, не имеющие никакого значения для сути дела, - наше дело спроектировать".
"Ладно, пусть бизнес. Я даже не об этом говорю. Посмотри на все это. Вот этот шпиль содрали с картинок Сан-францисских небоскребов, а эта высотка - типичная Сингапурская постройка времен 80-ых прошлого века, а вот это не понятно что - башня что ли? А вот - просто срисовано, даже не содрано, а срисовано под копирку с Токийского бизнес-центра. И все это умудрились поставить в одном месте, на расстоянии вытянутой руки. Ну, что это - концепция?"
"Да фиг с ними, - отвечал Ботяжин, - ничего из этого все равно не построят. Здесь надо знаешь сколько бабок? Миллиардов двадцать. А сегодня все региональные проекты стоят не дороже сто миллионов...Рубле-ей! Да пусть себе рисуют. Понятно, что сами ничего придумать не могут...По жилстроительству(Ботяжин занимался проектирование и строительством типового жилья) тоже самое. Здесь питерский проект, там - московский. Думаешь, инвесторы что-нибудь смыслят в современной архитектуре? Ничего они не смыслят. Их интересует лишь процент прибыли, которую они получат после реализации проекта".
"Ну тогда надо заниматься чем-то другим, вкладывать деньги ни в строительство, а в рулетку, в порнобизнес, в наркотики - вот там прибыли, - мне был не очень понятен скептицизм Ботяжина, но все-таки он не раздражал как покрытая тайной концепция Мурикова об устремленном ввысь неком городе N. - Вот в итоге и получается то, что получается. Город уже потерял свое лицо, его попросту изуродовали торгово-развлекательными центрами в стиле не то аля-бегуди, не то рог-на-носу. Ты же знаешь, как проектировали один развлекательный цент? Забыли про вентиляцию. Пожарная инспекция пришла, и оказалось, что нет вентиляционных отводов. Случись что, посетители задохнуться в дыму. В два счета положение исправили, установили на крыше вентиляционные трубы, так они там и торчат, как рога на голове. Их видно издалека. Через десяток лет они проржавеют и будут эффектно смотреться на фоне голубого неба".
"Да, это дело рук человека...- Ботяжин пережевывал очередную пельменину, запивая ее томатным соком. - Знаешь, что самое смешное, - Руслан с грустью посмотрел на меня, и как-то печально улыбнулся, - ты не обидишься? Муриков получит первую премию, а твою концепцию задробят, хотя, она мне лично нравится больше, ну, ты знаешь, потому что я вообще люблю в земле копаться".
Слова Ботяжина меня ни сколько не обидели, но я почувствовал, что в них была какая-то правда, потому что многое в нашем институте проходило мимо меня: заграничные командировки, распределение премий и должностей. Муриков, придя в институт намного позже меня, уже возглавлял ведущий отдел, в котором было девять человек, а я был где-то на задворках, рядом с отставным военным Куровым, занимающимся самым простым делом - детскими площадками и тротуарами. Даже мое кенигсбергское направление, в глазах многих, становилось все менее перспективным, потому что перестало приносить доходы, и генеральный часто подумывал его закрыть, и переключить меня на работу Курова - детские площадки и тротуары. Наверное, меня привлекли для участия в архитектурном форуме ради разнообразия, ведь должны же быть и аутсайдеры.
Мне было больно осознавать такое положение дел, но любовь к своему городу, который давался мне такой ценой, была от этого еще сильнее.
Вообще, занимаясь реконструкцией Кенигсберга, где-то подспудно я осознавал, что былого величия не вернуть, и что даже полное идентичное восстановление Кнайпхофа и Альтштадта не вернет тот особый колорит, который был присущ довоенному городу, бывшему в разные времена столичным, и долгие годы сохраняющим столичные функции. Это будет лишь новодел для состоятельных лиц, желающих иметь жилище рядом с рекой, что вполне оправдано, люди всегда во все времена селились рядом с водоемами. И казалось, что занимаясь реконструкцией старого Кенигсберга, я работал на перспективу. Но общемировая тенденция в архитектуре была иной, отличной от того, чем занимался я.
"Я понимаю, что сегодня существует принцип жесткого противопоставления нового, сегодняшнего пласта архитектуры старой архитектуре, - говорил я Ботяжину, - но вся беда в том, что сегодня в городе нет старой архитектуры, а та, что кое-где местами сохранилась, не может претендовать на некое осмысление и более того не может дать основу для противопоставления новому".
"Ну, у нас есть район областной библиотеки, улица Кутузова, там особняки, ну есть еще что-то, и потом Кафедральный собор...- Ботяжин пытался вникнуть в суть моих мыслей, и мне это льстило. - Ну, каким ты видишь город будущего?"
"Сегодня главную скрипку в архитектуре играют многие западные архитекторы, но первенство надо отдать одному англичанину, знаешь такого Нормана Фостера? - Начал я издалека, уверенный в том, что Ботяжин, имея неплохие знания в современной архитектуре, ответит мне однозначно да. Но он почему-то смущенно нахмурил брови. - Ну, башня Москва-Сити. Вспомни, ты знаешь. Вот посмотри, Фостер - человек, который сформировал новый взгляд на архитектуру, как среду обитания. Он придумал жилой дом в Швейцарии, который соединил в себе многовековые традиции этой страны и современные технологические приемы. Должна была быть создана постройка, идеально соответствующая окружающей среде. Форма здания - пузыреподобная, но сам дом выполнен из старых, традиционных отделочных материалов, и имеет естественный древесный цвет. Он расположен на склоне холма и из его окон открывается замечательный вид на деревню и озеро. Окна построены так, что улавливают дугу траектории солнца. В этих местах распространено строительство деревянных домов на столбах, чтобы избежать гниения фундамента, и Фостер тоже построил свой дом на опорах, и сама поверхность холма осталась не тронутой. Этот дом стал своего рода манифестом современной архитектуры, который показывает, как современное здание за счет применения новейших технологий может идеально вписываться в природную среду и сохранять ее единство"
"Ну, это понятно, - Ботяжин, казалось, был далек от всего того, что я говорил ему, когда мы шли по городу, хотя, иногда он резко выключался и начинал задумчиво отводить взгляд куда-то в сторону, словно видел нечто новое, чего вчера еще не было. - И что ты хочешь сказать, что нужно вписать фахверковую архитектуру Кнайпхофа в парк лип и кленов, поросших по уши в траве?"
"Нет, это я, чтобы ты вспомнил, кто такой Фостер - он гений, - мне стало ясно, что Ботяжин ничего не знал про Фостера, и что разговор о современных тенденциях в архитектуре с Русланом может быстро затухнуть ввиду некоторой отвлеченности мысли моего коллеги. - Это выход для сегодняшнего положения дел - такая яркая фигура, как знаменитый англичанин. Но беда в том, что здесь, у нас, местечковый подход к решению любых проблем, тем более, таких как архитектура, являющаяся основой быта человеческого общества, а быт, как известно, определяет сознание. Так вот если мы хотим быть передовой нацией, передовым обществом, с передовыми технологиями и инструментами решения социально-экономических проблем, мы должны позаботиться о том, каким будет лицо наших городов, и начать надо отсюда, - я провел рукой перед собой, показав широту и значимость того места, где мы шли, и заметил, что Ботяжину стало несколько неловко, и он стал оглядываться по сторонам. - Понимаешь, Фостер заново изобретает все из чего состоит архитектура - стены, окна, крыши, каркасы, ограждающие поверхности. Там, где единственная функция стены ограждение, у него появляется витраж. Зачем строить стены, потом долбить их, чтобы расширить, лучше создать прозрачные стены. Он заново изобретает отношение здания и города. Здание есть отдельное от города пространство, а город есть собрание таких отдельных мест. Зачем вводить искусственный свет там, где можно спроектировать здания, полные естественного света, зачем нужны дорогие системы кондиционирования там, где можно просто открыть окно. Вот в чем суть!"
Мы присели на скамейку и я заметил, как Ботяжин облегченно вздохнул и стал внимательно слушать меня, переключившись с моей жестикуляции на дикцию.
"Архитектура Фостера - это благородная простота и спокойное величие, - продолжил я, - Вскрыть фундамент Кнайпхофа - это все что нужно для острова, пусть там копаются археологи, проводятся экскурсии для школьников, туристов. Представляешь, огромный музей археологии под открытым небом. Таких примеров много в мире, Например, Типаза в Алжире - руины города, разрушенного землетрясением - великолепное зрелище для туристов, жаль, что Алжир сегодня не самое лучшее место для отдыха. Но мы-то совсем другое дело... Вот что я предлагаю. Ну, и кроме того, надо все это сделать гармонично, построив пешеходные мосты для посетителей, создать некие археолого-исторические зоны, может быть накрытые стеклянными куполами, может быть, с небольшими элементами воссоздания прежних зданий, а может быть, даже со строительством совершенно новых, и при этом, здесь же на Королевской горе я не исключаю строительство Кенигсберг-Сити, великолепной стильной башни, все-таки надо учитывать сегодняшние тенденции. Реконструкция Альтштадта или Кнайпхофа не создаст величие облика, а лишь уведет в глубь, но башенное фостерсовское строительство привнесет в облик столичного лоска".
"А что делать с Домом Советов?" - Спросил Ботяжин, разминая пальцы.
"Снести!", - Однозначно ответил я.
"А Королевский замок? - Это было продолжение первого вопроса, и я также четко ответил, что городу нужны руины исторической правды.
"Тратить миллионы долларов на новодел для ни кому не нужных музейных площадей - нелепо. Если властей волнует политический аспект всего этого. Вот, мол, Королевский замок восстановили...И что?! Это будет лишь неяркая копия прошлого, а вскрытый фундамент замка, оголенные его руины - это будет историческая правда, представляющая собой интерес, как с точки зрения истории, так и с точки зрения морали, памяти о грандиозной гибели всех европейских городов, попавших под бомбежки в годы второй мировой войны. Может быть со временем, будет найден иной смысл этим руинам, но будет непоправимой ошибкой, если на месте бывших средневековых городов, - где сейчас просто пустырь, и еще можно, покопавшись поглубже, многое увидеть, - появится новодел, который навсегда заслонит собой историческое прошлое Кенигсберга".
6.
Вернувшись с обеда, я направился в свой кабинет, и увидел, что дверь, которую я запер на ключ, так как Куров отсутствовал, притворившись больным, уйдя по своим делам, была открыта настежь. В предбаннике, где стояло кресло и журнальный столик, лежала гора мусора. Кто-то вывалил его у входа , причем, определить чей это был мусор было трудно, потому что он был старый, липкий, заплесневелый. Это был скрытый вызов недоброжелательности, и, когда я вошел, меня поразила пустота рядом с окном, где обычно сидел Куров. Его пожитков не было видно, как и его стола и стула. Этот тип перебрался в другой кабинет, - подумал я, - и корзина с мусором в предбаннике стала своеобразным прощальным подарком. Позже узнал, что Куров не просто переехал в другой кабинет, его повысили в должности, назначив заместителем генерального. Человек, далекий от архитектуры, занял важный пост в нашей конторе - так я стал называть наш институт после этого странного назначения. Более того, через день меня вызвал генеральный к себе.
"У вас там наверху черт знает что делается в кабинетах, - начал он, указывая мне на выброшенный в моем предбаннике мусор. - Ну, скоро собаки там начнут гадить. Что у вас там - проходной двор. Зайдите к моему заместителю, он вам объяснит что нужно".
Куров начал грубить с первых слов, и чем больше я молчал, тем сильнее его это заводило.
"Ваше дуреломство с вашим Кенигсбергом - чушь. Мы решили закрыть это направление, и перенаправить силы в иное русло. Все! Больше мы не занимаемся всякой ерундистикой, потому что, ну, что мне тебе объяснять, ты лучше меня знаешь, что все это мутотень, и пустомятство. - Казалось, что у Курова от ощущения того, что он вновь наделен властью, кружилась голова. - Мне тут особенно с тобой возиться нет времени, что ты у меня один что ли, поэтому все. Закрываем! Но пока "гуд бай" не говорим, займись-ка ты, старик, вот чем. Здесь нам нужно в новостройках провести тротуарную сеть. Вот выбери, нарисуй, проведи маркетинг, определись с материалом, с закупками, что там еще. Ты сам знаешь. Все расчеты мне на стол к вечеру".
Я был не просто подавлен, а сломлен. Час я провел в неподвижности, сидя за столом, обхватив голову руками. Мне было так плохо, что время от времени возникало чувство рвоты. Иногда слезы капали из глаз прямо на фотографии старого Кенигсберга, разлинованные когда-то мною для детального изучения архитектурных особенностей. Это было не просто фиаско моей жизни, на мою душу словно надели кандалы. Наверное, то же самое чувствовала Мия Брахерт, оказавшись под прессингом власти. В этот момент никто из сотрудников нашей конторы не зашел ко мне в кабинет, понимая всю щепетильность перемен, а иначе они бы увидели безрадостную картину, не сдержав своих эмоций, я бы попросту разрыдался.
Но я сказал себе "не смей впадать в депрессию, иначе это чревато плохими последствиями".
Пошел к родителям, и на этот раз не просто помочь им, а, прежде всего помочь себе. Мне было очень плохо, не душе кошки скребли, и, когда, придя домой, и как обычно спросив у отца, что нужно купить, взял деньги пошел в магазин, больше по инерции, чем со знанием дела. По пути встретил своего одноклассника Тимофея Котова, который знал, что мой отец болен, более того, у него самого два года назад отец умер от рака легких, потому что много курил. Какое-то время, идя в магазин, я испытывал сочувствие с его стороны, но в магазине произошла нелепость. Уборщица старенькая невысокая женщина стала кричать на меня, мол, я наступил на разлитую воду возле витрины с молоком, и Тимоха Котов - любитель выпить и от этого вечно какой-то помятый и потрепанный, словно ободранный кот, брезгливо поморщился, и, сказав что торопится, убежал в банк, снимать деньги. Меня возмутило не столько поведение уборщицы, которая, конечно, была женщиной недалекой, сколько реакция Тимофея, оставившего меня с двумя пакетами молока в продуктовой корзине в магазине, в окружении недовольных посетителей. Защищая себя, попытался обратиться к руководству этого магазина, с одной целью - путь уборщица извинится передо мной. Заведующая магазина стала звать Любку(имя этой пожилой женщины), и когда та пришла, сказала ей, чтобы она извинилась, и в этот момент я вдруг подумал, что это моя мать извиняется передо мной. Уборщица со шваброй в руках была похожа на мою мать, и, когда я вышел из магазина, понял свою крайне низкую ценность как человека. Если взять игральные карты и разложить их на столе, то я буду не королем, и даже не валетом, а какой-нибудь восьмеркой или даже семеркой, потому что шестеркой будет эта уборщица из магазина, и что, если бы я промолчал и не пошел разбираться, то был бы тузом, потому что ее бьет самая мелкая карта. И раз так - в отместку самому себе я купил матери сигареты и кофе - то в чем она постоянно нуждается, и в чем я ее постоянно ограничиваю. Тимофей Котов так легко сбежавший от меня из магазина, оставивший меня наедине со злыми языками ворчливых посетителей, был для меня человеком существенным, потому что связывал меня с моим беззаботным детством, и, кроме того, являясь практикующим адвокатом, мог бы мне многие вещи подсказать - я рассматривал его как человека сведущего в юриспруденции, а иногда у меня возникает потребность в решении разного рода проблем с помощью имеющегося законодательства. Но Тимоха сбежал, довольный, что успел поделиться со мной тем, что к нему заходят и ему звонят одноклассники, при этом, наверняка, убежденный в том, что мне и не звонят и не хотят звонить. Собираясь вместе(о чем я узнаю уже после подобных встреч) мои одноклассники, конечно, вспоминают и обо мне, мол, отец - болен, мать - тоже не понятно что, что хожу к ним каждый день - бедолага, и вообще весь такой подавленный и забитый, и даже, может быть, они говорят, что хотят дать мне денег, чтобы помочь. Ну, хотя бы в долг, если хочет, но так ведь он не возьмет, потому что очень уж гордый...Наверное, такие фразы звучат под звон граненых стаканов, но ощущая эту однобокость, идущую с их стороны, мне жизнь этих людей становится не интересной, и даже Тимоха, которого я бы ценил выше других, в одной общей кампании моих одноклассников в итоге кажется мне человеком ветреным и пустым.
Возвращаясь из магазина, я подумал, что новое занятие, которое мне предложили - а именно тротуары и детские площадки, может быть вполне интересным, если подойти к этому творчески. Приготовив отцу и матери покушать, я сел на кухне, достал блокнот, и стал рисовать в нем полосы тротуара, подсчитывая в уме примерные затраты. Наиболее оптимальным был обычный тротуар из асфальта, но сейчас повсеместно стали использовать тротуарную плитку, и власти поощряли ее применение, правда, тротуар из плитки был дороже в два раза. Я искал нужный мне вариант, и, возвращаясь с обеда в контору, подумал, что общегородской тротуар(ну хотя бы так где его нет, или где он требует капитального ремонта) нужно сделать широким, состоящим из трех частей - пешеходной зоны, которую можно было бы построить из дорогой тротуарной плитки, асфальтовой велодорожки, и двухметровой парковочной зоны для автомобилей, вымощенной булыжником. При этом стоящие на таком тротуаре припаркованные автомобили могли бы выполнять роль заграждения, и сделать движение пешеходов и велосипедистов более комфортным. Этот трех полосный тротуар должны был быть не только отделен от проезжей части по высоте, но и иметь внутри тротуарную разметку.
Мое предложение рассматривалось на очередной летучке у генерального, и, как обычно, началось обсуждение мягко, а закончилось оскорблениями в мой адрес, потому что, как выражались мои коллеги, я не понимал не только экономику подобной затеи, но еще и общую тенденцию строительства какой-то там парковочной зоны вдоль центральных дорог. Меня обвиняли в том, что мое предложение идет в разрез с политикой властей, которые вложили средства в закупку эвакуаторов, и хотели заработать на эвакуации припаркованных вдоль дорог машин, а тут, как выразился генеральный, и его поддержали все, и в том числе Куров, "наши творческие сотрудники перекладывают с больной головы на здоровую". Я должен был докладывать еще и свое видение о детских площадках, но не стал, потому что, во-первых, меня попросили сесть, а, во-вторых, мои идеи касающиеся детских площадок выглядели еще более нелепыми. Например, отказался от металлических предметов в детских аттракционах, уменьшив вообще количество железных горок и качелей, надеясь предложить деревянные и веревочные всевозможные лестницы, а также стилизованные газоны для небольших детских бассейнов, спортивные городки и игральную площадку для девочек. Я тяжело дышал, слушая какие косвенные упреки летят в мой адрес, и у меня, это заметил сразу, от волнения трясся мизинец.
После разгромной летучки, не мог с уверенностью рассчитывать на то, что поеду на конференцию в Москву, все чаще меня стали посещать сомнения относительно моей работы, но как-то в мой кабинет зашел генеральный и спросил, готов ли я к поездке. Этот вопрос придал мне силы, но не уверенности, потому что каким-то шестым чувством, ощущал холод, идущий от руководства, и позже Ботяжин рассказал мне , какие страсти кипели у руководства по поводу моей фамилии. Главным противником отправки меня в Москву был Куров, считавший мою концепцию бесперспективной, генеральный же, отстаивал мою кандидатуру не столько из-за уверенности в моих творческих способностях, сколько наперекор Курову, которого он стал недолюбливать, почувствовав как тот медленно и последовательно вытаскивает из-за под его задницы насиженное кресло.
Многие наши сотрудники стали разменной картой в начавшейся борьбе двух одиозных личностей за руководящую должность, и так как я был всегда чужд подобных интриг, то был не очень-то интересен ни тому ни другому. Этого нельзя было сказать о Мурикове, который быстро уловил двойственность положения, и стал маневрировать между генеральным и Куровым. Муриков был определен на конференцию под номером один. Кроме этого нашу контору представлял отдел малоэтажного строительства и малых архитектурных форм, Эфира Аюшкина (за глаза в виду медлительности ее звали Баю-баюшки) из расчетно-финансового отдела и водитель нашего генерального Алексей, который, как я позже узнал, вез в Москву, какому-то дальнему родственнику генерального копченую рыбу и различные безделушки из янтаря. Поговаривали, что этот дальний родственник был достаточно влиятельной персоной, и именно благодаря ему наш генеральный с легкостью уничтожал своих противников и конкурентов. В итоге так произошло и с Куровым. После нашего возвращения их столицы России, лишился своей должности и был переведен из нашей конторы куда-то на новое поприще.
Глава IV.
1.
В последних числах ноября, когда на улице было уже по-зимнему холодно, а снег, выпавший тонкой полоской к вечеру был похож на грязь, отправился в аэропорт встречать господина Фйогле, прибывающего для подготовки выставки своего достопочтимого мюнхенского миллиардера. В городе были пробки, и мне приходилось изворачиваться, чтобы объехать заторы, не следовало опаздывать - это было мое ответственное убеждение. Будь таксистом, особенно бы не церемонился, простоял в пробках и приехал бы позже срока, но расценивал встречу Фйогле, как важное задание. Хотя меня отправили в аэропорт по инерции, потому что в прошлый раз был я, и в позапрошлый раз, и Рыкина, предоставившая площади своего музея для размещения работ важного немца, ерзая в кресле, его скрип был слышен даже в телефонную трубку, говорила, куда нужно будет отвезти Фйогле, чтобы тот смог, не теряя времени, заняться делом. Рыкина была не молодой, но амбициозной особой, живущей для себя и в окружении самой себя. У нее был один заметный физический недостаток(кроме разве что еще и ее очень высокого роста), - ее левый глаз был меньше правого, а зрачок этого глаза постоянно двигался, вне зависимости от того, что делал другой. Наверное, это был такой своеобразный нервный тик. Но этот недостаток не помешал ей сделать карьеру.
Мюнхенский миллиардер со своими работами сейчас был крайне необходим Рыкиной. Она должна была показать, что может проводить выставки мировых знаменитостей. Хотя эта знаменитость через Фйогле сама вышла на Рыкину ввиду того, что миллиардеру был интересен Кенигсберг.
В этот ноябрьский день, накануне его визита, Рыкина отправилась с приехавшими Фйогле, Косницкий и Галей по злачным местам. Первым был ресторан польской кухни. Весьма затейливое место, где ввиду проветривания зала, нам предложили утеплить колени пледами. Немного стеснялся, потому что не планировал тратиться на ресторан, но еще и потому что так и не понял окончательно свою миссию в этой компании - не то водителя, не то свободного архитектора(Фйогле будучи архитектором, со мной не общался даже через переводчицу) и, когда Косницкий дружелюбно похлопав по моему колену, сказал, что не надо и беспокоится, мне стало еще больше не по себе. Немного растерялся, потому что никогда раньше не обедал в ресторане за чужой счет, и потом, что мог себе позволить, все тоже самое что и все, или же только кофе.
За небольшим круглым столиком сидели Ян, Фйогле и его переводчица Галина, занимавшаяся переводом меню, напротив меня торжественно восседала мадам Рыкина, пряча свой бегающий глаз, другим же делая удивление от сказанного Косницким и в ее счет, но у нее довольно плохо получалось изображать из себя бедную овечку, потому что она была голодна, как волк.
"Ну, и как же можно сегодня привлечь людей в залы? - Спрашивал Косницкий, дожидаясь, когда к столику подойдет официант. - Это - проблема для любого провинциального музея. Искусство сегодня не может существовать без дотаций". Рыкина не стала поддерживать этот разговор, плавно переведя его на тему о пиве, а когда ей принесли большой бокал темного пива, все оценили ее жест - железной леди.
Мне принесли кофе и сладкое, причем, сладкое включало в себя три огромных блина со сливками, джемом и шариками мороженного, от этого мне стало не уютно, потому что это явно был десерт, а его, как известно, кушают последним. Кто мог знать, что сладкое будет в таком виде - на огромной тарелке с яркой оранжевой салфеткой. Фйогле, увидев десерт, указал на мою тарелку, и сказал, что тоже этого хочет. Это было спасение, потому что, разглядев тарелку немца, в которой были кальмары, фаршированные овощами, произнес громко, что тоже хочу такое, и все дружно засмеялись, - кроме Рыкиной, закусившей губу от злости. Эту злость на меня, не то, как на водителя, не то, как на архитектора, нельзя было не почувствовать, потому что она цокнула зубами, сделав презрительную гримасу в мой адрес. Заметили это и Косницкий и Фйогле и, конечно, Галина, и меня обдало словно огнем.
Ел блины, тупо ковыряясь в них вилкой, и думал, что веду себя не прилично. Косницкий, заметив изменения, произошедшие во мне, попытался повлиять на ситуацию, спросив, что о моих мысялх о посещаемости музеев. Поднял голову, выдохнул, и глядя в бегающий глаз Рыкиной, сказал, что нашим музеям не грозит нашествие посетителей, потому что все они находятся в грустном положении, а внешний вид часто отпугивает даже любителей искусства и разного рода ценностей. Рыкина изменилась в лице, ее меньший глаз прищурился, а большой округлился.
"И что теперь?" - рявкнула она.
"Конечно, понимаю, что у музейных работников всегда не хватает денег, но ведь находятся средства на строительство музыкального театра, - говорил я, и Косницкий начинал понимать, что между Рыкиной и мной назревает конфликт, основой которого является борьба за лидерство мадам Рыкиной (вероятно, делает это она повсеместно, очень уж резко она бросается в горло мнимому врагу) и готовой из-за этого уничтожить если не физически, то хотя бы морально любого, кто осмелится с ней тягаться. Косницкий быстро занял позицию Рыкиной - одна шайка лейка - а Фйогле даже не обратил внимания на мое поведение, вызванное неловкостью ситуации, в которой оказался с ломаным грошом в кармане. Конечно, хотел бы заказать то что хочу, рассчитаться при всех за самого себя и спокойно поговорить о посещаемости каких-то там провинциальных музеев, но ничего нельзя уже было исправить, - за все платил немец, Рыкина компенсировала мне транспортные расходы, вроде бы был по уши им обязан, но при этом никто не мог заставить меня быть обязанным им ценой собственного достоинства. - Переживаю за наше искусство, и мне бы хотелось, чтобы были новые формы привлечения людей в залы, картинные галереи. Ну, и , конечно, внешний вид вашего заведения - весьма и весьма далек от идеала. Наверное, можно провести какой-то конкурс среди художников, архитекторов, чтобы нарисовать, как должно выглядеть ваше здание. Это было бы здорово".
Ответная речь Рыкиной на мою любовь к искусству была короткой:
"Это - глупо! - Она имела, наверное, в виду не мою идею насчет конкурса, касающегося внешнего вида музея, открытого когда-то двадцать лет назад в полуподвальном помещении рыбного магазина, и выглядящего сейчас, как совдеповский гастроном со стрижеными газонами у входа, а то, что говорил об этом, сидя за столом ресторана и обедавшим за чужой счет. - Что ты понимаешь в управлении? Конкурс... Какой вздор. Это просто смешно".
"Но ведь Селедкина сумела построить целый музейный комплекс на пустом месте", - попытался парировать я грубые слова Рыкиной, но та возразила, что я ровным счетом не смыслю ничего в администрировании.
В какой-то момент наступила пауза. Все кушали молча, обдумывая ситуацию. Мне было не по себе. Все эти слова были ножом по сердцу, а мои попытки выкрутиться, - наивными и, когда все встали, а Косницкий стал расплачиваться, спросил у него с дерзостью: во сколько обошелся этот вкусный обед - для интереса, и тогда Рыкина не удержалась, бросил на кресло плед, и вышла.
Последующие поездки в кабаки и кулуарные тусовки стали ответным ходом Рыкиной. Отныне я сидел в машине, мерз, часами, дожидаясь, когда Фйогле, Косницкий и Рыкина вдоволь нагуляются. Сейчас, слава Богу, перекрещусь, хожу мимо этой ядовитой змеи, но с высоко поднятой головой, и с одной лишь мыслью "сколько крови она еще выпьет у тех, с кем трудится бок о бок". Даже спустя несколько месяцев очевидна ее странная месть: она пригласила моего коллегу Петю Рязанова из отдела подземного строительства подрабатывать у нее фотографом, при этом, хорошо зная, что и я умею и люблю фотографировать, а для Пети это "реальный напряг", как он выражается, рассказывая мне о своей подработке, и, наверное, потом докладывая о наших проектах Рыкиной. Рязанов - это ее желание показать мне мою несостоятельность, но, ввиду того, что меня это никак не задело, а ей приходится платить, платить и платить, она начала трепать Пете нервы, как только он сделал несколько снимков. Но потом он отнес их в какую-то газету, там их опубликовали, и Рыкина вроде бы успокоилась - не приятная личность. Ну, да фиг с ней: пусть заказывает такси!
Миллиардер(имя которого называть не буду, не потому что опасаюсь его адвокатов, а потому что не собираюсь рекламировать его бесплатно, и уж тем более вписывать его в историю всей этой провинциальной драмы, хотя, мне-то он ничего плохого не сделал) прилетел на открытие выставки на собственном самолете. Вместе с ним была его молодая супруга. Держались они очень достойно, ввиду того, что везде их сопровождала охрана. Торжественные мероприятия они пропустили и пришли посмотреть на выставку в выходной день, когда доступ для посетителей был закрыт. Вся подработка бегала фотографироваться с седовласым миллиардером: так кружит голову одно лишь представление о миллиардах. Но, правда, и самому миллиардеру и его молодой жене стоит отдать должное, потому что они были хорошо одеты и излучали свет. Пожилой немец был в темно-сером костюме приличного покроя с атласной подкладкой, купленного в брендовом бутике где-нибудь в Париже. Если лицо миллиардера с небольшими подтяжками кожи у глаз и на лбу, а так же лучезарной улыбкой и все еще яркими белоснежными зрачками глаз, могло как-то скрыть его истинный возраст, то шея выдавала его глубокую старость, и он прикрыл ее клетчатым шарфом. Супруга миллиардера была женщиной с безупречным вкусом в одежде. От нее приятно пахло смесью духов, губной помады и кожаных изделий, и казалось, что она была безмерно счастлива, но ее грубоватые кисти рук с маникюром кровавого цвета - были слишком сильны, чтобы быть руками счастливой женщиной.
Они приехали, покрутились в залах музея, разглядывая свои картины, и вечером улетели в Мюнхен, а выставка, провисевшая шесть месяце, была, чуть ли не единственной достойной в этом году, но, увы, малопосещаемой. С тех пор Рыкину не вижу, хоть стороной и не обхожу.
Вообще, с культурой в нашем городе - большие проблемы. Каждый год власть выделяет деньги на культуру, но ничего яркого не вспыхивает и не прорастает. Еще бы. Рыкина это знает по тому, как власть пирует в залах ее музея на длинных столах, ломящимися от обилия спиртного и закуски, в культурном антураже странных авангардных птичек, висящих на нитке от потолка до пола, в окружении фонтанчиков с лебедями, беседок из цветов, и с выступлением модных столичных артисток.
2.
"Наша власть живет какой-то совершенно особой жизнью, не связанной с жизнью тех людей, которые ее окружают", - рассуждал, возвращаясь из правительства, куда мне пришлось зайти перед поездкой в Москву, по просьбе нашего генерального. Он попросил провести небольшой анкетный опрос одного важного чиновника, чтобы потом Эфира Аюшкина могла фигурировать цифрами в столичных ведомствах. Этот чиновник с крашенной в иссиня-черный цвет шевелюрой был не очень рад меня видеть, хотя накануне он любезно ответил мне по телефону, что готов к встречи. Меня попросили подождать, и зайти ровно в три, как и договорились, что и попытался сделать, но за три минуты до трех, прибежала некая Верявина из аппарата правительства и стала интересоваться темой моей беседы, на что показал ей анкету, и та немного успокоилась. Но, тем не мене, вошла в кабинет высокопоставленного чиновника вместе со мной, а тот как-то странно стал обращаться ко мне на ты, называя меня по имени. Затем Верявина спросила, не я ли занимаюсь возрождением кенигсбергской архитектуры, и, когда получила утвердительный ответ, гавкнула, и сказала, мол, я же вам говорила. Чиновник с румяными щеками, плечистый, с заметным животом, но достаточно крепкий, попросил меня отложить анкетирование и предложил встретиться в следующий раз.
"Как вас вообще пустили в здание правительства? - Возмущалась Верявина, когда мы спускались по лестнице. - Что вы здесь бардак устраиваете. Зашли, показали какой-то старый пропуск. И не надо возражать, эта власть работает не для вас, уважаемый!"
Когда вышел из здания правительства, у меня в горле стоял ком. Хотя... Мне в принципе все равно, чем занимается эта власть. Иного мнения придерживается Фаустцов, ненавидевший власть в принципе, а эту - в особенности, потому что убежден, что Кенигсберг попал в тотальную зависимость от Москвы.
- Такого здесь не было даже во времена польского гнета в шестнадцатом веке, - как-то поделился Фаустцов, увидев меня в супермаркете. Отвел меня в сторону. - Вообще, ты даже не представляешь что тут сейчас происходит... область попросту грабят, как склад с винтажным вином, тянут бочками, тоннами - и все в Москву. Миллиарды! Когда это правительство рухнет, ты обратишь внимание, как мало станет джипов на наших улицах, они все вернутся домой!
Теперь все местное ушло на второй план, а все привозное стало занимать все больше места, становясь и более значимым, и вот сейчас почувствовал, что стал утрачивать свою связь с прошлым, с миром моего детства, с городом, в котором родился, вырос и прожил всю свою сознательную жизнь - с городом Канта, Бесселя, Гофмана, с городом Альбрехта и королевы Луизы. Наверное, поэтому взялся за написание конспекта истории Кенигсберга. Понял, что история - есть основа существования любого народа на отдельно взятой территории, а не только наука о прошлом. Наша же история почему-то начинается в 1945 году и состоит в основном из штурма города-крепости Кенигсберга и Хайлигенбайльского котла, а куда девать борьбу пруссов за свою независимость, появление лютеранского герцогства, эпоху бидермейера и еврейский либерализм - все это нельзя вычеркнуть из контекста истории, так же как нельзя вырубить кленовые и липовые деревья, потому что они кому-то не понравились, и наставить искусственных пальм. История также как и природа есть то вещество, которое создает личность, без чего любое общество не способно к саморазвитию.
Когда поставил точку в конспекте, вышел на улицу и вдруг увидел, как прекрасен мой уютный дворик - как сладко здесь поют соловьи, и детвора, играющая на площадке под тенью деревьев, - такая родная. Гулял по парку, с любопытством рассматривая новое строительство на берегу маленького озерца, и мне уже не казалось оно чуждым, а наоборот, оно стало для меня естественным развитием той земли, на которой мы все живем, и потом, когда вернулся домой открыл альбом с ватманом, стал рисовать здания(так - на свой вкус, без всякого заказа) "разрезал" стекло и бетон господина Фостера фахверковыми вставками и, наоборот, делал удивительной формы стеклянные витражи, "разрезая" архитектуру средневековья, украшал фасады домов скульптурами рыцарей с ногами животных, барельефами битв пруссов с крестоносцами за свою независимость, и вдруг увидел совершенно новый облик своего города, и тогда сел работать над новой концепцией своей архитектуры.
Ночь пролетела, как одно мгновенье, рисовал, вскакивая с кресла, очарованный тем, что получалось у меня на бумаге, ходил по комнате, мои глаза светились от восторга. Это был сладкий миг творчества, завораживающий и опьяняющий. Ничего никогда в моей жизни не было столь же удивительного, как эта крылатая ночь, подарившая мне счастье просто быть на этой земле(на этой конкретной земле) - может быть, кто-то скажет что все это пустые слова, но теперь возрожу - миг творчества может сделать человека по-настоящему счастливым, и, когда это происходит, творятся чудеса.
Не мудрено, что утром опоздал на работу. В нашей мастерской, как всегда происходили какие-то оргштатные изменения, сократили Рязанова и Подобельскую, занимавшуюся курьерской работой. Если Рязанов не выходил из своего кабинета, и было слышно, как он передвигает там мебель, то Подобельская стояла в курилке и плакала, пуская сопли и вытирая их чужим грязным платком. Ее успокаивали наши сотрудники, мол, она найдет себе работу и получше, и более оплачиваемую, и поинтереснее, но та, как только слышала, дескать, увольнение - не конец жизни, начинала еще громче рыдать, и дрожащим голосом произносила, что она ничего больше не умеет делать, как только переносить бумаги с одного стола на другой. Успокаивающие ее молча гладили по плечу, затем отворачивались и чесали, затолки - почти одновременно. Как-то так все это было смешно, а когда вышел Рязанов, весь навьюченный баулами и сумками(видимо, выносил свое имущество с работы), успокаивающие Подобельскую удивленно выпучили глаза, а я почему-то рассмеялся(и потом понял, что мой смех - от недосыпания). Заперса в кабинете, улегся на диван и уснул.
3.
В Москве
В российскую столицу мы ехали в разных вагонах, причем, Муриков и его напарник из статуправления неизвестный мне молодой человек, ехали в спальном вагоне, потому что, как они сказали, они доплатили. Со мной вместе ехала Эфира Аюшкина. Она сидела напротив в цветастом халате, у которого были пришиты не все пуговицы, и из-за этого ее большие груди в плотном черном бюстгальтере время от времени выглядывали, и это очень смущало меня, потому что кроме нас в купе больше никого не было - они казались мне неким намеком... На границе к нам подсел пожилой мужчина и в купе стало оживленнее. Аюшкина постоянно что-то ела, а пожилой человек, переодевшись в трико синего цвета с резинками для стоп, чтобы не задиралось выше щиколотки(такое трико сейчас уже не выпускается промышленностью, потому что резинки натирают ноги), читал газеты, причем, - помятые и засаленные. Казалось, что он прихватил их с собой в привокзальном туалете. От него и запах шел такой же - засаленный и помятый. После прохождения таможни, уснул, и проснулся ночью, во время стоянки поезда. За окном слышались шаги, кто-то спешил, отыскивая свой вагон, а кто-то курил, стоя на перроне, и дым от сигарет тянуло в вагон. Слез с полки, надел сланцы и вышел на улицу. Мы были в Минске, удивившим меня величественностью зданий, напоминающих сталинские времена, причем, одно из этих зданий (это было видно даже в сумраке неба, подсвеченного вокзальными прожекторами и множеством люминесцентных ламп, прикрепленных на нем) было современной постройки.
- Вот, пожалуйста, ничего не надо придумывать, - подумал , - дом, колонны, шпиль и скульптуры - вот вам и образ столицы. Но вся эта столичность попахивала провинциальностью, исчезал шарм, который всегда должен сопутствовать столичному лоску, исчезала новизна, и все что оставалось - были мои рваные сланцы, которые нравились мне больше, чем помпезная архитектура вчерашнего дня в Минске.
Покрутившись на перроне, ушел в вагон, уснул и проснулся уже в Москве, и том месте, где наш поезд, преодолев мост над Москвой-рекой, сделал небольшой поворот и вдруг открылись ровные высокие сине-черные здания Москва-Сити, и я вскочил, взволнованно дыша, видя эту ослепительную красоту не на рекламных роликах телевизора, а воочию. Тер заспанные глаза, пытаясь лучше разглядеть сверкающее стекло Москва-Сити, вокруг меня суетились пассажиры, сдающие белье и бегающие из купе в купе, чувствовал, как учащенно бьется мое сердце от предвкушения чего-то нового в моей жизни.
Москва-Сити постепенно уплывало куда-то на зданий план, оставляя странное чувство - почему никто кроме меня не обратил на это величественное 600-метровое здание никакого внимания - кто-то шептал, что гаражи покрасили в зеленый цвет, кто-то жалел о том, что началась санитарная зона, но никто не озвучивал мои восторженные чувства, вызванные красотой творения знаменитого англичанина. Тогда понял, что подлинная архитектура вызывает восторг при встрече, когда ты видишь ее на переднем плане, она же создает опасность на удалении и не примечательна вовсе на среднем плане, где ее видят лишь специалисты, изучающие ракурсы, пропорции, детали. Средний план - это то самое место, где архитектура как бы засыпает, отдыхает, сливается с окружающей средой. Если же здание примитивное, то именно средний план выдаст все его недостатки(вблизи их можно и не увидеть), если же здание масштабное - то этот масштаб покажет задний план, создав иллюзорность очертаний. С такими мыслями я вышел из вагона, за мной вышла Эфира Аюшкина, которая теперь выглядела намного интереснее(надев голубой брючный костюм), но, так как она сразу же пошла в противоположную сторону, отыскивая кого-то, приехавшего вместе с ней, то интерес к этой полноватой особе быстро угас, и, несмотря на то, что мы были из одного города, понял, какие мы разные.
Нас разместили в разных гостиницах, и так получилось, что оказался в одиночестве, в пустом шестиместном номере захудалого отеля в районе метро "Сокол" на Ленинградском проспекте. Когда я шел, отыскивая нужное мне здание московскими двориками, радовался за столичную детвору, жизнь которой, судя по ухоженным детским площадкам, да и вообще уютным московским дворикам, была, без всякого сомнения, более комфортной, чем в провинции. Моя гостиница стояла у подножья высотного здания. Это был жилой дом, построенный, как говорили обитатели моей гостиницы, на деньги госпожи Батуриной - родной сестры столичного градоначальника. Высотка со шпилем в стиле градостроительной политики Москвы сталинского периода была похожа на гору, все близ лежавшие дома казались перед ней карликовыми, и даже при своем достаточно ухоженном виде, проигрывали во всем. Дом госпожи Батуриной был просто грандиозным, но, на мой взгляд, лишенным оригинальности - просто обычная копия сталинских высоток, и тем не менее, поражала стоимость квадратного метра в этом доме, обнесенным со всех сторон роскошным высоким забором, за которым виднелся каскад фонтанов, сквер для прогулок, супермаркет, автомойка, домики для охраны. Кто-то называл одну цифру, кто-то другу, но все-равно, по моим подсчетам, квартира в таком доме, должна была стоить более миллиона долларов. Но удивляло еще и другое - то, что в ночное время лишь десять-двадцать окон из тысячи светились, и было видно, что в этих квартирах кто-то живет. Все остальные квартиры пустовали. Представив на мгновенье, что у проживающих в этом доме, скажем, на сорок третьем этаже, не было соседей ни на лестничной площадке, ни этажом ниже, ни этажом выше, и даже на ближайшие двадцать этажей никто бы не жил, а, направляясь к лифтам, эхом бы звучали шаги, становилось немного не по себе.
Стаи ворон, взметнувшихся с веток деревьев, и гаркающих в соседнем парке, были весьма кстати, потому что хорошо прочитывали мои чувства при виде этого громадного жилого дома. Говорили, что здесь, среди этой недоступной простому гражданину роскоши, проживал известный певец Дмитрий Билан(земля полнится слухами).
Конференция по современной архитектуре проходила в другой гостинице, в центре столицы. Это то место, о котором не надо много и долго говорить, потому что оно является своего рода визитной карточкой, так же как и Большой театр, расположенный рядом, и гостиница "Москва", закрытая во время нашего приезда на реконструкцию. Чуть дальше Красная площадь и Кремль. Что ни на есть - самый центр столицы, и, может быть, всей России.
Первый день в гостинице для меня лично был скомкан встречей с руководителем нашей делегации Петрусо Мустрине. Встретил его в вайе. Он сидел в кресле, и, увидев меня с испуганными, как он сказал, глазами, рассматривающего блеск зеркал и люстр над юной головой, подозвал меня пальцем. Мустрине(молдаванин по национальности) был очень высокого роста, и, когда он сидел в кресле, его колени почти касались его груди, по характеру он был достаточно уравновешен, но высокомерие, которым он был награжден не то при рождении, не то во время работы в правительстве, было таким же большим, как и его рост, и оно придавало ему черты холодного, надменного синьора с юга, у которого все переспрашивали имя и фамилию, уточняя при этом где имя, а где фамилия. Чиновник, подозвав меня пальцем, что было хорошо заметно всем сотрудникам гостиницы, а среди них было много юных девушек, и это обстоятельство вызвало на моем лице недовольство, начал с того, что произнес свою любимую фразу, мол, тот-то тот-то "выглядит как бомж с бодуна". Стал рассматривать свой костюм, поправлять галстук, пытаясь разглядеть в расположенное недалеко от меня зеркало, ровно ли завязан галстук. Мустрине не останавливался, щупая своими длинными пальцами карманы моих брюк - в них лежали мобильник и несколько карточек Метрополитена.
"Ты хоть понимаешь, что здесь - "УВИП" ?", - Произнес, выделив интонационно VIP, Петрусо.
"Ну, да, костюм, как и положено", - ответил я, разглаживая и поправляя рубашку и брюки.
"Да, хватит вам вертеться, молодой человек. Что вы, как вошь на гребне? - Слово "вошь" Мустрине также произнес с интонацией, выделив шипящую. - И ботинки! Ну, что вы их не чистите что ли? Ну, вам самому не стыдно? Ведь вы же позорите свое учреждение. Что там учреждение, всю область!"
Еще немного и Мустрине сказал бы что я позорю всю Россию, но в это время к нему подошел представитель организационного комитета и Петрусо оставил меня в покое, махнув на меня рукой, отвернулся, а мне стало как-то плохо от этого странного разговора, свидетелем которого были служащие гостиницы и несколько человек из нашей и других делегаций, в том числе и иностранных. Полтора часа сидел в конференц-зале, особенно и не прислушиваясь к тому о чем говорилось с трибуны, автоматический переводчик лежал у меня на коленях, а я, постоянно поглядывая на часы, думал лишь о том, что во время перерыва убегу с конференции гулять по Москве. Через час объявили кофе-брейк.
Скажу, что кофе-брейк в гостинице рядом с Большим театром был куда уж лучше наших обедов, потому что здесь было все - не только бутерброды с черной икрой, а я ел черную икру впервые в своей жизни, и это было истинное наслаждение, потому что вкус у икры просто умопомрачительный, от него даже подкашивались ноги, и шампанское здесь не такое, как в наших супер и мегамаркетах(там оно как моча - жидкое и теплое), а здесь оно обжигало, и сводило от удовольствия десну, и попадало в тебя, оставляя жирный терпкий след на горле, - такое крепкое и очень нежное шампанское от которого голова плыла, как ладья по голубому морю, а еще здесь была красная рыба, которую очень люблю, и часто покупаю, но впервые оценил какой же должен быть вкус у этого деликатеса - она пахнет рыбой и морем, а вовсе не льдом и не соседней полкой с куриным фаршем, ее аромат моря так остр, что даже, если у вас насморк, он все равно с легкостью определяется твоим мозгом, словно самый лучший аромат на земле. Не только кофе-брейк окрыляло, от обилия света и дорогих вещей в вестибюле, от особого запаха, витающего здесь и в коридорах, куда заглянул ради интереса, и ослепительной чистоты в туалетных комнатах, появлялось волнение и вдруг не с того не с сего бегали мурашки - как же я люблю эту роскошь, это светящееся богатство. Почему они придают нашему телу легкий трепет и ты начинаешь испытывать некоторое блаженство, и радуешься всей этой райской красоте, как ребенок, и даже делаешь вид, что этот рай принадлежит тебе, а только что зашедший некто в мокром плаще, наверное, глядя на тебя уже думает, что ты тот самый богатый и знаменитый дядя, остановившийся в апартаментах, для которого заказан столик в ресторане, и на нем уже стоит огромный букет его любимых алых роз. Эти чувства дарят дорогие гостиницы абсолютно всем, кто находится в них легально хотя бы пару часов - в этом их неповторимость и индивидуальность, никакие другие гостиницы не способны дать столько чувства собственного достоинства и собственной значимости, как эти.
Было грустно осознавать, глядя на себя в зеркало в туалетной комнате, на свою лихую молодость, на дорогой костюм, который купил специально к этой поездке, на прекрасно подобранный галстук(и чего прицепился Мустрине?), на легкий румянец щек и горящие от гостиничной роскоши глаза, что все то, что тебя окружает - чужое, и более того, что это чужое - еще и постороннее, потому что жили мы в другом мире, в гостинице, где в номерах не было ни душа ни туалета, где пахло на весь этаж хлоркой и дешевым мылом, а за столиком у телевизора сидела кучка пьяных посетителей, разглядывающий с недоумением твой дорогой костюм и блестящие от крема ботинки(их почистил сразу же после неприятного разговора с чиновником из нашего правительства).
Понимать свое положение в этом обществе было очень не приятно. Но все компенсировала Москва, которую казалось, начинал любить. Мне нравился ее запах - запах Метрополитена, вырывающийся на улицу, словно щетками горячим воздухом, бьющего откуда-то из под земли, в котором перемешались разные ароматы - миллионов людей, с их разными судьбами, свежих газет, разложенных у входа, булочек и шаурмы, вылетающий из киосков, расставленных вдоль стен в переходах. Мне нравился запах автострад, в котором можно было различить даже то как пары бензина и асфальта разрезаются клокочущими звуками автомобильного транспорта. Все эти сгустки энергии, красок, звуков, ароматов и запахов являются неотъемлемой частью Москвы, их в таком количестве и объеме нет нигде, ни в каком другом российском городе.
4.
Как только закончился кофе-брейк, увильнул в туалет и сел там в кабинке, чтобы дождаться пока участники конференции уйдут в зал, и чтобы кто-то из нашей делегации не прихватил меня с собой. Выйдя из туалета, тихо прокрался к вестибюлю, быстро миновав открытые двери конференц-зала. А в фойе почувствовал себя более свободно, и даже ощутил некоторый прилив сил, когда ко мне подбежал сотрудник гостиницы, спросив нужно ли подогнать автомобиль. Сделав вид, мол, было бы неплохо, но справлюсь и сам, направился к выходу, как вдруг швейцары стали заносить в гостиницу багаж нового постояльца. За ними следом вошла группа людей, среди которых была знаменитая на всю страну певица Вайле. Не знаю почему, остановился и почтенно склонил перед ней голову. Мне не следовало так делать, потому что сегодня такие жесты скорее обозначают принадлежность к низшему звену огромного аппарата таких гостиниц, чем к человеку , выразившему свое уважение. Меня приняли не за того, повесив в мои руки огромный саквояж, а, когда я попытался объяснить, что не являюсь сотрудником гостиницы, меня стали отсылать то к одному, то к другому. В конце концов, набравшись храбрости, подошел к Вайле, отодвинув сопровожатого(и это было очень просто, никто на меня не набросился и не стал отталкивать и угрожать) и протянув саквояж, сказал, что мне случайно вручили ее замечательную кожаную сумку, и что она достаточно тяжелая, оттого что в ней, видимо, много хороших вещей.
"Ну, так брось ее вон туда, - сказала Вайле, подмигнув мне глазом, и указав на диван возле рисепшина. Но как только я собрался поставить саквояж, Вайле закричала, чтобы я был осторожнее, - Извини, я вспомнила...там - стеклянные безделушки. - Она достала из сумки несколько статуэток от Сваровски и вытянув их перед собой, тихо произнесла, - Какая красота. На, отнеси все эти штучки в мой номер. Поставь их где-нибудь у зеркала в ванной, там, где есть много света".
Ослушаться Вайле было не возможно. Взяв саквояж и, уточнив, где ее номер, попросил сотрудника отеля сопроводить меня, не понимая еще, что происходит со мной - поворот судьбы, везенье или обычный курьез. Расставляя хрустальные статуэтки в ванной апартаментов, где остановилась Вайле, ловил себя на мысли, что хотел бы задержаться здесь гораздо дольше, чем на несколько минут, пока знаменитая певица, раздав автографы, поднимется в свой номер, и, конечно, что уж тут лукавить, хотел бы неких отношений со знаменитостью(в этот момент еще не понимал каких именно, потому что не мог предположить как будут развиваться дальнейшие события). Рассматривая блеск хрустальных статуэток, я не заметил, как в ванную заглянула миловидная чуть полноватая женщина. Это была администратор Вайле, и она, конечно, попросила меня побыстрее уйти, что бы не маячить перед звездой, как это любят делать сотрудники дешевых гостиниц. Не успел, Вайле встретила меня в дверях, и толкнув меня в плечо, произнесла:
"Но ты ведь не отсюда! Кто ты?"
"Я - архитектор. Здесь проходит конференция по архитектуре, хотел сбежать с нее, погулять по Москве. - Я не просто говорил что-то и как-то, я оправдывался перед Вайле за то, что случайно оказался на ее пути, и это было очень трогательно. - Извините, простите. Не хотел вам мешать".
"Да, ладно, - протянула она, хлопнув меня опять по плечу рукой. - Архитектор. Так интересно. Вы - первый архитектор, который принес мою сумку в номер".
Слово "вы" было таким желанным, его произнесла знаменитая певица, стоять возле которой уже было почетно, оно было каким-то нежным, и мне многое начинало мерещиться, у меня на мгновенье закружилась голова. Хотя Вайле произнесла слово "вы" из разнообразия, она любила красиво говорить, менять интонации, смысл и звучание одних и тех же слов и понятий.
"Дайте ему стул, - сказала Вайле, а то у него от волнения сейчас подкосятся колени. - Ну, сядь, ты. Хватит меня пугать. Архитектор."
Сел, и через минуту тишины в апартаментах, где из зала в спальню и обратно ходила Вайле, и за ней было любопытно наблюдать, в ванной комнате копошилась, готовя вану для звезды, администратор певицы, и еще какая-то молоденькая девушка распоряжалась по мобильному телефону относительно ужина, одновременно пересчитывая чемоданы и сумки, расставленные в коридоре, где на стуле сидел я, ко мне начались вопросы.
"И что эта ваша конференция так не интересна, что вы сбежали?" - Спрашивала звезда.
"Интересна, но меня утром отчитали за мой неряшливый вид, и у меня было плохое настроение", - Вайле нравилась моя откровенность, и она с желанием продолжала общение.
"У вас вполне приличный вид, и потом молодость - это всегда главный козырь. Тот кто вас отчитывал, просто делал это из зависти", - паузы между нашими фразами были такими ровными, что их можно было бы замерять.
"Вы так и будете сидеть у входа на стуле? Идите, сядьте в кресло", - Сняв верхнюю одежду, звезда оказалась в облегающем брючном костюме черного цвета, на ее запястье виднелся золотой браслет с камнем. Раньше я воспринимал певиц, как легкомысленных особ - пустых, воздушных, немного глуповатых и весьма заносчивых. Сейчас я видел перед собой женщину, наделенную недюжим умом. Едва Вайле сняла головной убор(сделала она это после того, как сняла туфли и оказалась босиком на ковролине), заметил, что она значительно старше, чем казалось при встрече. Женщина не может скрыть свой возраст, если ее волосы плохо уложены. Головной убор примял волосы певицы, отчего она была немного неуклюжей, но, прочитав это в моем взгляде, она быстро нырнула в ванную, а я остался сидеть в кресле рядом с коридором под присмотром Вайлиного администратора.
"Это очень не похоже на нее, - сказала та, пытаясь рассмотреть цвет моих глаз. - Она никогда не заводит знакомства, вот так, с первым встречным. Вам просто повезло, милый мой! Сидите и ждите пока она примет ванну и потом выгонит вас ".
То, что говорила администратор, было не правдой. Об этом еще не знал, так как вообще не знал этих людей, и никогда раньше не имел дел или каких-то отношений со знаменитостями, и сейчас, сидя на кресле в апартаментах Вайле, верил всему, что мне говорилось. Одно я чувствовал сердцем, что понравился поп-диве, годящейся мне, может быть, даже в мамы, но при этом, способной вызывать легкий интерес у молодых мужчин, особенно, таких как я - лишенных настоящего счастья быть любимым, ввиду своих провинциальных привычек и достаточно затворнического образа жизни. Счастье настигает нас вдруг, в дороге, в новых делах, в чужих городах и странах, оно не ждет нас рядом с диваном, на котором вы сидите и смотрите телевизор, оно(если это, конечно, не ваша семья, любимые жена и дети - что и является настоящим счастьем) не дожидается вас на балконе, хотя, вполне может спать у дверей вашей квартиры. Одним словом, счастье - это миг, который нужно уметь поймать, как Жар-птицу, и уж , когда она в ваших руках, то держите ее так крепко, чтобы этот миг превратился в вечность.
Вайле вышла из ванной совершенно иной женщиной, чем ее встретили в вайе гостиницы. Она была как розочка в вазе с водой: свежая и влажная, - в широком банном халате, на голове чалмой было завязано большое махровое полотенце. Ее глаза светились, как огни, она растирала ладони кремом и, увидев меня, рассмеялась(ее смех был удивительно легким и чистым, словно это был смех молоденькой девушки).
"Ах, вы все еще здесь, - она протянула ко мне руки, как к котенку, с которым можно поиграть. - Ну, вы вполне смотритесь, как охранник. Сколько вам платят, господин архитектор?"
Вайле, выйдя из ванной, обратилась ко мне, а не к ее администратору или к ее помощнице, и мне это польстило.
"Немного, - ответил , вставая. - И потом я все еще в шоке от того, что нахожусь здесь, и даже боюсь пошевелиться, а не то, чтобы уйти".
"Ну, это вы зря. Бояться ничего не надо, кроме... своих похотливых мыслей, они подрывают здоровье. - Вайле была убедительна во всем. В движениях, в словах, в роскоши, которая ее окружала, и, в отличие от меня, эта роскошь была частью ее самой, они были одним целым. Все, что было на ней, все к чему она прикасалась, все что было рядом, стоило огромных денег. Дорогие вещи, драгоценности, появляющиеся то тут то там, цветы, которые приносили каждую минуту с небольшим рассказом о том, кто и когда их отправил. Это была обожаемая многими звезда с какой-то очень далекой для меня планеты, которую хотелось разгадать. - У меня на побережье есть дом. Там работал один очень талантливый архитектор и целая группа дизайнеров. Знаете, что они мне придумали? Они построили в одном из моих больших окон камин. Это так здорово, смотреть на огонь, бьющейся в стекле, словно во льду".
"Наверное, это не просто красиво, а завораживающе красиво. - Начиная разговор, пытался отыскать в себе те мужские желание, которые часто возникают при виде женщины, вышедшей из ванны, но их не было, и это меня настораживало и волновало. Меня несколько смущало, то, что сказала Вайле относительно похотливых мыслей, не являются ли они тем же, что и обычные мужские желание. Звезда красовалась передо мной, это нельзя было не заметить, но ее мысли были направлены не на меня, они блуждали где-то, и даже не здесь, не в гостинице, не в Москве. - Вообще, на мой взгляд, камин в окне - это достаточно не простое, хоть и оригинальное, дизайнерское решение. А вообще я люблю сочетать современные решения с традициями той или иной местности".
"И что же много у вас было проектов?" - Спросила Вайле, подойдя ко мне так близко, что почувствовал ее дыхание.
В этот миг раздался телефонный звонок, даже обрадовался ему, так как ответить на этот вопрос мне было нечего. О чем мне следовало ей сказать - о том, что занимаюсь проектированием детских площадок, и большего мне не доверяют, или что все мои проекты - лишь на бумаге, а моя профессия только звучит красиво. Вайле, взяв телефонную трубку после администратора, долго слушала, что ей говорил ее собеседник, и потом тихо ответила "Нет", и еще через пол минуты чуть громче - "Все", а потом крикнула в трубку "Не хочу" и швырнула ее в угол.
"Кое-кто бывает таким назойливым, - сказала Вайле, повернувшись ко мне, и в этот миг увидел ее глаза, они были обращены в мою сторону и рассматривали меня с нескрываемым обожанием. Они были большие, выразительные и очень красивые, а лицо, искусственно лишенное морщин, было не просто чистым, оно было таким, которое хочется потрогать рукой".
"Спасибо вам за талант быть деликатным". - Сказала Вайле, я начал понимать, что больше не могу задерживаться в ее апартаментах, потому что это может быть не правильно истолковано, хотя, мысль об этом мне льстила - погрелся в лучах славы звезды - но администратор подошла к певице и шепнула ей на ухо, что я должен уйти, и произнесла вслух, мол, иначе молодого человека(то бишь меня) начнут атаковать, как только он выйдет за дверь. Вайле ответила ей шепотом, что пусть атакуют. Но потом, взглянув на меня, на мое расплывшееся в искренней улыбке, лицо котенка, сама открыла мне дверь. Вышел в пустой коридор, и когда дверь за мной защелкнулась, подумал, что моя жизнь вновь вернулась в прежнее русло, и об этом, конечно, сожалел.
5.
Мои сожаления, как всегда, компенсировала Москва. Ее дух пренебрежительности, заискивания и даже некой подозрительности, повсеместный шорох денежных купюр, любопытство толпы к закрытой власти, мчавшейся в черных BMW с проблесковыми огнями - все это было свойственно только ей. И это отрезвляло, а чувство сожаления притупляет остроту жизни, кажется, что она закончилась. Но она везде и всюду била ключом. Москва компенсировала мои обманутые чувства не своей красотой и величественностью зданий, а ярким отражением сегодняшнего дня - он был виден в ней, как в зеркале - непродуманный, нагроможденный, растянутый, но насыщенный людьми и событиями, изменчивый, как зазеркалье калейдоскопа, блестящего разноцветными узорами, создающими иллюзию прекрасной гармонии красок и рисунков, но на деле являющийся лишь неровными стекляшками: мелкими и никчемными. Москва компенсировала мои провинциальные желания не качеством столичной жизни, а ее количеством - ее здесь много и она может достаться каждому, кто приложит хоть немного усилий для этого. Ну, хотя бы просто выйдет на улицу и пройдется по ее широким проспектам. Для тех же кто желает страстно - это его город.
Не могу сказать, что я страстно захотел...(нелепо звучит) Вайле. Она оставила меня в растерянности чувств, в некотором смятении. Встреча с ней не была курьезом, не была, в общем-то, и везеньем, потому что заканчивалась, как и началась ничем, и уже тем более не расценивал ее неким поворотом судьбы.
Голодный и злой поспешил в свою гостиницу, и когда проходил мимо дома Батурина, мне попался мужчина, который стоял у высоких ворот московской высотки и разговаривал по домофону. Мужчина этот был одет в черный плащ. На голове его была шляпу с длинными полями - очень необычная одежда для столицы, где подобных людей можно было бы скорее встретить где-нибудь на Старой площади, но не здесь. Он просил, чтобы его пустили в дом, ведь он купил то что нужно(коньяк и что-то из закуски), но его, казалось, не понимали, делая долгие паузы. Он умолял, говоря, что не хочет возвращаться назад, потому что есть важные вещи, которые нужно обсудить прямо сейчас. Слова, которыми он мотивировал свою необходимость попасть в гости, эхом летели в пустынном переулке. Наконец ворота щелкнули и медленно стали открываться, но не для того, чтобы мужчина в шляпе вошел во двор. Показался охранник в форме, подошедший, чтобы посмотреть документы гостя, и только когда охранник сканировал их в своей кибитке и вернул владельцу, гостя пропустили. Я стоял через дорогу напротив этих ворот, и смотрел, как пришедший в дом Батуриных, шел нервным шагом, временами переходя на бег, и постоянно оглядывается.
"Какой в этом прок?" - Громко произнес, войдя в номер гостиницы, и увидев на одной из кроватей нового постояльца.
"Не понял вас".- Ответил тот, подумав, что мои слова обращены к нему.
"Это я о своем, извините. Об этом доме напротив". - Я стал принюхиваться к новому запаху в моем номере, и он мне не очень-то и нравился. По запаху я часто определяю к какому социальному слою принадлежит человек.
"А-а, да! Шикарное здание, нечего сказать", - Произнес мой сосед.
"Но есть в этом какая-то зловещая красота, - продолжал я, рассматривая соседские пожитки. На подоконнике стояли пакеты с молоком, лежали плавленые сырки, куски масла, валялся раскрошенный хлеб. - Это ваш ужин? - Хотел чтобы мой вопрос остался бы без ответа. Так и получилось. - Сейчас некто в штатском попытался прийти в гости в этот дом, и его досмотрели, как перед допросом. Не хочу, не люблю, не нравится мне такая жизнь. Не говорю уж что она лишена простоты".
"В Москве вообще простых людей не любят. - Ответил мне сосед по номеру. - Люди здесь вынуждены быть назойливыми, чтобы добиться всего лишь расположения важной персоны".
Задумался, находясь под впечатлением от знакомства с Вайле. Конечно, никакой дом Батурина и его посетители не могли сбить меня с мысли о такой необычной встречи, и мне очень не терпелось рассказать кому-нибудь об этом, но, так как мои земляки жили в других гостиницах, а сосед по номеру не вызывал у меня доверия, держал все в себе, отделываясь пустыми фразами и словами об отвлеченных предметах.
"Чем вы занимаетесь, что оказались здесь, в этой гостинице? - Продолжил он . - В этой гостинице живут в основном военные и лица кавказской национальности".
"Архитекторой", - мой ответ был скуп по разным причинам. Во-первых, как уже отметил для себя, собеседник не вызвал у меня доверия, потому что, так же как и я ужинал в номере, именно поэтому я решил, что сегодня пойду на ужин в ресторан. Потом, странное убеждение, что в Москве нужно быть назойливым, говорило о том, что молодому человеку приходится добиваться всего самому, что он редко пользуется своей внешностью, и это значит, что экономит на одежде, а такие люди мне редко нравятся, и что у него нет покровителей, и, вообще, в принципе нет каких-то определенных перспектив. В дальнейшем все мои предположения подтвердились, но, тем не менее, стал более лояльно относиться к собеседнику, и более того, когда он узнал, что иду ужинать в ресторан, попросился со мной, и это меня удивило.
Когда он одевался, отметил про себя, что его простая, но удобная одежда, очень к лицу моему компаньону, что у него достаточно приветливая улыбка, а, когда он достал из чемодана фотоаппарат с длинным увесистым объективом, и, сказал, что возьмет его, чтобы не украли, моей отношение стало меняться. В ресторане мы заказали одно и тоже - салат из свежих овощей, бифштекс, картофель и два бокала пива - как в столовой. Но в виду того, что в ресторане звучала живая музыка, все заказанное показалось мне вполне стоящим тех денег, которые мы готовы были заплатить. Моего собеседника звали Руслан Джанбеков. Его отец работал по какой-то программе НАСА на Кавказе. Это меня заинтересовало, но как-то забыл спросить о том, где работает сам Руслан.
"Был у моего отца несколько раз в обсерватории. Он водил меня посмотреть на звезды из огромного телескопа, - рассказывал сосед по номеру, дожидаясь горячего, и было видно, как он волнуется, переживая, что тратит деньги не очень продумано, потому что недавно он уже поел, а ужин в ресторане - незапланированное мероприятие, и, если вдург разговора не получится, то получится, что расходы окажутся напрасными. Кстати, эти же мысли приходили на ум и мне. Руслан от волнения несколько раз ронял на пол салфетку, и успокоился лишь когда принесли бокал пива и он сделал несколько жадных глотков. - Представляете, Луну видел как свою руку. Так интересно наблюдать где какой кратер, где предполагаемые моря. Она вся изрешечена метеоритами. Мне даже показалось, что жизнь на Землю пришла с Луны. А вообще, знаете, какое событие в жизни людей считается началом создания цивилизации. - Можно было бы долго гадать, Руслан бы очень внимательно ждал правильного ответа, а так как его не знал, то и не тянул кота за хвост. - Считается, что наша цивилизация появилась тогда, когда смогла передать радиосигналы о своем существовании в космос. Да, да, с того момента изобретения радио".
Оказалось, что родной дядя Руслана - космонавт. Очень редкая профессии. Мы уже были сыты, уничтожив принесенный официантом бифштекс, и спокойно потягивали пиво. Внимательно слушал своего собеседника, мнение о котором не просто изменил, мне он даже стал нравиться. Хотя время от времени у меня возникало опасение, что Руслан привирает, а это могло бы привести к полному разочарованию в человеке, потому что тогда бы утвердился в своем первоначальном мнение о нем. Но, более того, когда он стал рассказывать о своем увлечении дельтапланеризмом, мне показалось, что он сильно запьянел. Расплатившись и взяв с собой второй бокал пива(в этой гостинице можно было забирать в номер то, что не допил), я предложил пойти туда, где потише. В номере Руслан, постоянно поправляя свой огромный фотоаппарат, достал из шкафа альбом, и открыв его стал показывать мне фотографии, где он был изображен парящим на дельтаплане.
"Ты - хороший парень, - сказал Руслану, выдохнув, и прошептав, что, мол, слава Богу, что все, что говорил этот юноша, оказалось правдой. - А зачем тебе такой здоровый фотоаппарат? - Руслан ответил, что он - журналист, и что его снимки, сделанные с высоты птичьего полета, а также его небольшие статьи о дельтапланеризме публикует одна центральная газета. Он и на этот раз приехал в Москву, чтобы передать свои материалы, и получить в газете гонорар. - Что - много сегодня платят журналистам? - Мой вопрос был скорее данью уважения профессии моего собеседника, чем любопытством, потому что все-равно не чувствовал в рассказах Руслана какой-то конкретики, свойственной журналистам, оперирующим фактами, и все еще не до конца доверял ему, и даже, когда он стал расспрашивать меня об архитектурной конференции, и о том, что нового и интересного придумал я, мои фразы были отрывчатыми, но, тем не менее, они заинтересовали моего
компаньона и тот стал что-то записывать в блокнот."...Неужели все понятно из того, что говорю, - поинтересовался у Руслана, и тот, улыбаясь, а в этот раз его улыбка была столь открытой и чистой, что обезоружила меня, и я заметил как много света в глазах молодого журналиста, сказал, что сделает несколько снимков. - Вот, посмотри, например, - я достал из своей папки несколько рисунков и разложил их перед Русланом. - Вот это - обычное пятиэтажное здание, построенное из стекла и бетона. Его внешние стены являются окнами, и внутри стены - из стекла, только лифтовая шахта и вестибюль - бетон, кирпич и так далее. И здесь идет стеклянный купол над раскопанным фундаментом - бывшее ремесленное училище, его фундамент теперь является одновременно и музеем и летним садом, и здесь же плавный переход в здание-новодел, имитирующее фахверк, средние века, с внутренними балочными перекрытиями, высокими двухэтажными потолками, построенное под галерею или элитный магазин, или офисы, и далее опять - стекло и бетон. Это - одна общая конструкция, имеющая законченный вид. Или вот - большое административное здание, в котором есть некоторые элементы из стекла и бетона, а основная его часть - это воссоздание архитектуры Кенигсберга(точная копия), но на фронтоне, обрати внимание, - два атланта с ногами лосей и с рогами на голове, раскачивающими в гамаке принцессу Преголю(это прусские мотивы). И на коленях принцесса держит корону, словно сплетенную из полевых цветов. Вот эти элементы прусского язычества, а на других рисунках - герцогская свита, приклоненная перед Богом, держащим в руках венец власти. Вот посмотри, здесь весь город такой. Современная сказка для взрослых, а внутри все дома, предназначенные для высокого качества жизни - яркие светлые помещения, галереи, длинные анфилады для прогулок, всевозможные ресторанчики, бутики, ярмарочные площадки".
Руслан писал и щелкал, и на какое-то мгновенье мне показалось, что мой компаньон через чур увлекся темой моего диалога, что он мало что понимает в архитектуре, может что-то исказить, но он так увлекся, что казалось что даже не замечал меня. "Классно, вот потрясающе!" - Шептал Руслан, видя в моих рисунках что-то свое - какую-то свою мечту, о которой я стал догадываться и меня это пугало. "Что он там себе еще напишет? - Вдруг подумалось мне. - Исказит все, переврет, испортит годы работы". У меня кольнуло в сердце, и я замолчал.
"Все, Руслан, хватит! - Сказал, отталкивая журналиста от папки с рисунками. - Не надо ничего больше снимать. Перестань. Остановись!... Уже поздно. Нужно ложиться спать. - Как-то быстро все спрятал, как-то быстро стал раздеваться, одновременно разбирая свою постель. Улегшись в кровать, и погасив настольную лампу, стоявшую на моей прикроватной тумбе, еще раз попросил Руслана ни о чем не писать, а принять то, что я рассказал, к сведению, мол, есть и такие взгляды на современный мир. Но Руслан уже был неудержим. Ложась в кровать, он обдумывал свой материал, и, когда на следующий день он пришел в газету, и сказал, что есть зарисовка о проходящем в Москве архитектурном форуме, ее взяли в номер, потому что рядом шло огромное интервью с господином Фостером, являющимся главным фаворитом этой конференции. Газета вышла через день с этим интервью, где на одной полосе была колонка с заметкой Руслана обо мне, как о начинающем перспективным архитекторе из провинции. Но я тогда еще ничего об этом не знал, так же, как и господин Фостер, который днем раньше улетел в Лондон, и естественно газеты со своим интервью не читал. Тем более оно было на русском языке, которого Фостер не знал. В кулуарах конференции эта газета попала мне в руки. Лихорадочно прочел материал о себе, а также и рядом стоявшее интервью. Господин Фостер был красноречив, всеобъемлющ, многообразен, а я же брал только своей смазливой мордашкой, запечатленной Русланом на фото, сделанном в номере гостиницы. Все что было написано от моего имени, меня раздражало, потому что было куца, скупо и мелковато - обо всем и не о чем. Злости моей не было предела. Шел в гостиницу с номером газеты в руках, готовый разорвать журналиста. Но Руслан Джанбеков в этот день выехал из гостиницы, оставив лишь кусок тетрадного листа, на котором был написан номер его мобильного телефона, хотел сразу позвонить, чтобы высказать свое недовольство, но потом подумал, чем собственно не доволен? Собой?
Тем не менее, злость разъедала мне душу, и уже собрался звонить Руслану, как вдруг сообразил, что в моем мобильном телефоне стоит старая Сим-карта, а звонок в роуминге значительно дороже обычного. Поэтому отправился в ближайший магазин мобильной связи, купил московскую "симку" и, когда хотел поменять ее, раздался телефонный звонок. Еще бы несколько секунд и этого звонка никогда не услышал, но он прозвучал.
"Ало, Виктор?" - Это был голос Вайле. Но я не узнал его. Не мог даже предположить, что мне позвонит звезда, знаменитая певица, живущая бурной, насыщенной, яркой жизнью. Признаюсь, что воспринял этот голос, как голос просто незнакомой мне женщины, и потом - Вайле не могла знать номера моего мобильного телефона, я не оставлял его, так как в тот момент, когда оказался в Вайлиных апартаментах, о нем просто забыл. Подумал, что звонит кто-то из нашей делегации, чтобы проинформировать меня о планах,
"Да. Слушаю. - Мой ответ был бы краток, потому что звонок в роуминге дороже обычного. Хотел уже предложить перейти на новую сим-карту, как вдруг узнал ее голос. - Да. Это я".
"Вы случайно выронили свою визитку у меня в номере, - говорила Вайле, - я подумала, а почему бы не позвонить. Вы еще в Москве?"
У меня дрожало сердце. Москва и москвичи, вы видели когда-нибудь человека, стоящего на ленинградском проспекте, среди толпы людей, идущей по обе стороны от тебя, с разобранным мобильным телефоном, согнувшись, чтобы не выронить диск с кодами для новой См-карты, и разговаривающего с королевой эстрады, знакомой каждому из вас, любимой большинством, и, может быть даже желанной многими и многими. Такого не может быть, но это было.
"Да, я в Москве до воскресенья, еще четыре дня". - Теперь уже для меня не имело значение, какая Сим-карта стоит в моем телефоне, и более того, телефонный номер гостиницы высветился на экране мобильника, а это значило, что , если у меня закончатся деньги, то поменяв сим-карту, смогу перезвонить.
"Скажите, что вы делаете сейчас? - Вайле говорила очень спокойно, ее ровный мягкий тон вселял уверенность, и я заметил, как сам изменил свою позу, выпрямившись и взяв под мышку диск, купленный в магазине мобильной связи. - Я хотела бы вас увидеть".
"Я - свободен, а сейчас собирался поставить московскую сим-карту в телефоне, но позвонили вы, - ее уверенность передалась мне, - готов приехать куда скажите".
"В какой гостинице вы живете? Пришлю за вами машину. Оставьте этот номер...", - Вайле повесила трубку, когда выяснила, где находится мое пристанище.
Через две минуты пришло сообщение от Вайле, в котором указывалась марка и номер машины. Сначала прочел слово "лимузин", как нарицательное название, но через секунду понял, что за мной приедет настоящий "Лимузин", с конкретным номером и конкретным водителем. Шел в гостиницу ускоренным шагом, перебирая мысленно содержимое моего чемодана. В нем есть белая рубашка, но нужно ли ее одевать, и достаточно ли она чистая. Мне будет нужен утюг. Главное, чтобы кастелянша не ушла на обед. Газета с заметкой обо мне... Нужно ли ее брать с собой? Нет, конечно, это мелко. Куца. Ну, просто - ни к чему. Вайле пригласила меня с одной лишь целью - узнать меня поближе, потому что я ей понравился, как молодой человек, а уж, конечно, не как архитектор. Может быть, ей нравятся молодые мужчины, она сама говорила, что молодость - это главный козырь. Чем дальше я отходил от того места, где говорил с Вайле по телефону, тем учащеннее билось мое сердце.
Через десять минут был в номере, прикидывая, что мне одеть - костюм, рубашку с галстуком, или же быть менее претенциозным - в скромном свитере, джинсах или даже в футболке и ветровке. Решил надеть костюм, а галстук взял с собой, положив его в карман брюк так, чтобы он немного свисал, подчеркивая, что при любом удобном случае, может принять нужную форму и вполне пристойный вид. Сняв пиджак и выйдя на улицу в ожидании Вайлиной машины, почувствовал прохладный ветер.
Через пол часа приехала "Лада", бордового цвета, в пыли по боковые молдинги, с заляпаными окнами, из нее вышел пожилой человек - водитель, спросил не я ли господин Кульманов, и, получив утвердительный ответ, как мне показалось, почти силой посадил меня в машину. Он произнес что-то вроде "садись, давай" или "а, ну, сядь сюда". Мой пыл пропал... Костюм выглядел нелепо. Достал из кармана галстук и стал размахивать им из стороны в сторону, разглядывая потрепанные сиденья машины. Может быть перепутали, "Лада" приехала не за мной? Но, к сожалению, - за мной. "Лада" же, пос словам водителя, вполне русская сашина, как и я(причем здесь была моя национальность?). Главное, что в машине - чисто и приятно пахнет. Это было убеждение человека, который сидел за рулем. Несколько раз в пути мы почему-то останавливались и чего-то ждали, а, когда подъехали к гостинице, то водитель не мог долго закрыть свою дверку, не срабатывал замок, дверь открывалась. Не дожидаясь, когда водитель справится с поломкой, вышел из машины и направился в отель. На входе швейцар повернулся ко мне спиной, показав мне свое пренебрежение , но меня это не сильно трогало, потому что был раздосадован грубостью водителя. Думал о нелепости своей идеи взять с собой газету с заметкой обо мне. Какая там газета, шел по коридору размашистым шагом. Дверь в апартаменты Вайле была приоткрыта, и первые фразы вылетевшие оттуда, заставили меня остановиться и подождать.
"Но ведь его не было, когда этот предурок ворвался в номер, - слова Вайле звучали монотонно, но ее интонацию не возможно было спутать с какой-то другой. Звезда поп-сцены чаще всего имеют свою интонацию, которую знают и любят миллионы. То, в чем одета звезда не имеет никакого значения. Главное, что она - поет. Не только интонация вызвала сейчас у меня легкий трепет, но и понимание того, что Вайле говорит обо мне. - Кто же знал, что Зураб окажется таким негодяем. А вдруг экспертиза сможет определить чьи это отпечатки пальцев?". Имя нового человека не вызвало во мне и толики ревности, но все то, что следовало в словах Вайле дальше меня даже не насторожило, а разозлило. Мне стало понятно, для чего меня позвала эта умная и хитрая женщина.
"Вы хотели, чтобы я приехал?" - Спросил, войдя, удивившись разительным переменам, произошедшим в номере Вайле и в ее облике. Во-первых, поп-звезда была одета в платье до пят, скрывающее и ее нежные руки, и ее длинную шею. Сиреневая шляпа с длинными полями прикрывала широкие темные очки,за которым были скрыты казалось наплаканные глаза поп-дивы. Передо мной была словно другая женщина, не та, которую видел несколько дней назад. Узнал певицу по ее волевому подбородку, хотя в номере гостиницы было темно, так как окна были занавешены шторами, горящие на стенах бра давали мало света. Пахло не дорогими духами, как это было еще пару дней назад, а хозяйственным мылом и хлоркой. Цветы в вазах поникли, повсюду лежали их опавшие лепестки.
"Ах, это вы! - Протянула в мою сторону руки Вайле, словно пыталась найти тросточку для того, чтобы ухватиться за нее в этой полутьме. - Вы должны помочь моей девочке. Она ни в чем не виновата. Моя Лидочка. Ее увезли в отделение. - Скажите, что вы были здесь, я вас всему научу".
Было видно, как взволнована Вайле. Мужчина в черном костюме, стоявший напротив, сидевшей в кресле, певицы, провел по мне изучающий взгляд, и сделал недовольную мину. Он быстро вышел, когда Вайле показала ему на дверь.
"Это мой адвокат, - начала она тонким голосочком, мне приходилось прислушиваться к тому, о чем она говорит. - Какой кошмар был здесь. Ко мне в номер, минуя несколько кордонов охраны, ворвался мой бывший ухажер. Я сказала ему еще несколько дней назад, что между нами ничего не может быть, что он зря тратит время и деньги. Ой, что я говорю...Ну, да ладно. Я ему сказала в общем "нет", и он не смог стерпеть обиды, и пришел сюда, где столько охраны, где всегда все навиду. Он стал хватать меня за руки, за талию. Вот посмотрите, Виктор, что он со мной сделал. - Вайле сняла очки. Ее глаза были опухшие, и даже в полутьме были видны кровопотеки и синяки. - На моем теле тоже нет живого места, а у меня (о, господи!) завтра второй концерт в Москве. Боже мой..."
Вайле заплакала. Подал ей стакан с водой, и она сделала несколько глотков, а, когда успокоилась, продолжила:
"Когда Зураб схватил меня вот здесь рядом с горлом, я потеряла сознание, и, когда очнулась, он уже был мертв, и лежал вот здесь на ковре. - Вайле зврыдала так громко, что я вздрогнул. - Но это не я, это не я, это...не я-я"
Во время Вайлиного рассказа, ее адвокат постоянно заходил в номер, и выходил обратно, внимательно слушая что говорит певица, а когда она зарыдала, он вбежал в апартмаенты, и, нахмурив брови, посмотрел на меня.
"Успокойтесь, Вайле, ваш милый друг обязательно вам поможет, не так ли?" - Сказал адвокат, повернувшись ко мне. Он не пробыл в номере и двух минут, как Вайле показала ему на дверь.
"Вы должны сказать, или лучше сейчас написать, что, проходя мимо моих апартаментов...У вас же тоже архитектурный форум, или что там у вас? - Вайле нервничала, пытаясь скрыть общую неприязнь ко мне, появившуюся из-за того, что ей(звезде эстрады) приходится унижаться, прося меня не просто о неприятных, а даже о страшных вещах(о чем именно уже стал понимать). - Что вы услышали крики о помощи, и, когда вошли увидели этого жестокого Зураба, душащего меня, и мою Лидочку, которая стукнула эту мразь вазой по голове".
Вайле замолчала, словно она и не плакала, и как только в номере стало тихо, вошел Вайлин адвокат.
"На вазе нет никаких отпечатков пальцев, не беспокойтесь", - произнесла поп-дива, и адвокат поправил ее рукой по плечу, чтобы она молчала.
"И это все? - Спросил спокойно, улавив запах крови, оставшейся в ковре. - Но это же будет ложь. И это может только навредить, уличить вас, милая Вайле, в обмане".
"Вы не понимаете, - начал адвокат. - Нет никаких свидетелей того, что так оно и было. А бедная Лидочка, сейчас она не в себе, она наговорит всякой ерунды, защищая себя. Это ведь, дорогой мой, убийство. Вы, как посторонний человек, должны внести ясность. Сказать, как вас просит Вайле".
Глава V.
Опустошение
1.
Мой отец умер, и, когда это произошло, казалось, что мир перестал существовать для меня. Рыдал, как ребенок, - сильно и неистово. Казалось, что был готов к смерти отца, знал, что болезнь заберет его, но она настигла врасплох. Он лежал на полу, рядом с кроватью, возле его лица на ковре мать стерла пену, шедшую из его рта. Под его головой была подушка, на ногах – одеяло. Мать укрыла его, как живого. Она думала, что он уснул, но он уже был мертв. Так он пролежал, наверное, несколько часов, пока и я смог увидеть печать смерти на его лице.
Взял руку отца, чтобы проверить пульс. Как хотелось, чтобы он открыл глаза, чтобы сказал мне такое дорогое для меня слово «сын». Но глаза были закрыты, рот немой, а впалые щеки белы, как снег. Где-то в его венах еще текла кровь, не пульсировала, но текла. Это было последним прикосновением к дорогому моему сердцу человеку. Потому, что потом, на кладбище, не смог прикоснуться к его лбу, как , наверное, должен был сделать. На его лице было много тонирующего крема, и от этого оно было не просто безжизненным, но даже пугающим, Не знал, что так тяжело пережить смерть, и даже теперь, спустя почти сорок дней, боль все еще сильна, а тогда была просто не выносима.
...Увидев, что отец умер, вызвал милицию и скорую помощь. Его тело было высохшим. Огромная незажившая рана, в виде разросшихся метастазов, зияла на шее. Следователь из милиции, войдя в комнату, закрыл свои глаза рукой, произнес что-то испуганно, но самообладание взяло верх, и он тщательно осмотрел труп.
Потом пришли санитары, распахнули настежь окно, и, попросив родных сесть на кухне, и не поворачиваться, закутали труп в одеяло и вынесли его на улицу. Мать рыдала, пыталась вырваться и побежать за санитарами, но ее удержали.
«Он любил меня», - говорил я, словно задавал себе риторический вопрос. Приехала моя сестра и ее дети. Живым они видели его, наверное, месяц назад, но, как мне показалось, они не были сильно расстроены смертью близкого родственника, как-то быстро принесли водку, и стали ее разливать по пластиковым стаканам, с таким торжеством, словно они не оплакивали своего предка, а радовались его смерти.
Финансовые вопросы не обсуждались, потому что отец оставил деньги на похороны. Но картина с водкой повторилась вновь на кладбище, где у могилы отца, на инвалидной коляске, в которой ехала моя мать, ввиду того, что ей было трудно идти, но в последний момент она встала, и коляска оказалась свободной, разложили стаканчики с горячительным напитком, и потом кто-то всунул мне в руку блин. Размахивая блином, думал, что как-то не хорошо есть на кладбище, и мне ко всему прочему было не до еды, и не до водки. Я прикрывал глаза, полные слез, черными очками, чтобы мои слезы не вызывали испуг у окружающих. Но слышал за спиной недовольство родни, мол, блины мне уже не нравятся. После похорон, получив в администрации кладбища свидетельство о смерти отца, последним сел в катафалк, и, когда мне сказали, чтобы дал свидетельство сестре, то спросил зачем.
«Ну, зачем, вот зачем ей нужно свидетельство?» - Мое сердце билось так сильно, что могло выскочить из груди, потому что знал, каковым на самом деле было ее отношение к отцу. Оно было исключительно потребительским, и это трудно было стерпеть в такой тяжелый день. Стерпел, не отреагировав на то, что родня со стороны сестры решила отказаться от поминок в доме отца. Это было не просто акт неуважения, это было предательство. Мы вдвоем с матерью вышли из катафалка, и, опираясь на руки друг друга, вдвоем вошли в подъезд. Дверь медленно закрылась, и мы вдвоем, а точнее, я и моя мать, лишенная рассудка, остались наедине со своим горем.
Моя сестра однажды сказала, что у нас разные отцы. Ее настоящий - инженер, или что-то там, в этом роде, и что именно его-то мать и любила, а моего отца – никогда. Это было давно. Тогда я едва окончил школу. Признаюсь, тогда никак не воспринял это заявление. Оно показалось мне придумкой, вроде тех, которые придумывают дети, пытаясь чем-то удивить или шокировать – на время. Но, позже, стал замечать, что эти слова обрастают все новым смыслом. Стал искать опровержение этого заблуждения моей сестры. Но не мог его найти. Она родилась в июле, а мои родители расписались весной того же года. Их свидетельство о браке мне попадалось, а потом оно куда-то исчезло. Но, это может показаться странным, за многие годы так и не узнал, когда же они познакомились. Последний раз, когда отец рассказывал об этом, а это было, когда он уже знал о своем диагнозе, слушал его с восторгом, восхищаясь, как же человек может любить, и как он может рассказывать об этом, будучи смертельно больным. С такой правдой, с таким душевным теплом он говорил про то, как он любил мою мать. Все время он повторял, что была зима. Но тогда, не смог задать ему уточняющий вопрос. Да, и в последующим, не стал шевелить, может быть, больные душевные раны. Пусть заявление о том, что у нас с сестрой разные отцы, останется на совести моей сестры, которую я, несмотря не на что, люблю.
Мое горе было сильным, мне и сейчас не хватает отца. Грусть волной накатывается на мое сердце. Ищешь его образ, вслушиваешься в пустоту, вспоминая его голос. Для любого мужчины отец – это совесть, это здравый рассудок, это сила, встающая на защиту в тот момент, когда, кажется, спасения нет. Но пока он – в моей душе, в моей памяти, он – еще одна сила, живущая во мне.
2.
Сидел на кухне в квартире моих родителей. Мать спала. Смотрел в окно, пытаясь разглядеть сквозь мутное пошарканное стекло фрамуги очертания Кафедрального собора. На столе лежали документы, которые принес из кладовой. Было тихо, так тихо, каким бывает зимнее морозное утро, когда падает снег, пряча на улице под своим белоснежным покрывалом движения и звуки. Но на улице было лето. Отец оставил завещание, в котором указал, что передает мне все свое имущество, включая долю в большой родительской квартире. Слухи об этом завещании появились уже давно, они-то и стали причиной натянутых отношений с сестрой, которая надеялась на то, что эта доля достанется ее сыну, так как ему, как она говорила, негде жить, и он скоро женится.
Вместе с завещанием о наследстве отец оставил и все другие документы, среди которых был военный билет, выданный ему в 1962 году. Этот билет, а также еще и письмо односельчанки Аглафьи Порошиной, которое обнаружилось позже, и пронзили мое сердце не меньше, чем когда-то заявления моей сестры о том, что отец не является для нее родным. Потом, спустя многие годы, правда, ее формулировка исчезла, и более того, на похоронах сестра даже назвала своего сына Марата кровным родственником. Произнесла она это громко, когда разбирали венки, которые положено нести впереди гроба, делать это не должны родные усопшего, - произнесла так громко, чтобы, наверное, услышал отец. Но мертвые не слышат.
Так вот, в этом военном билете значилась дата рождения отца – 1 августа 1942 года, и написана эта дата была в 1962 году, когда отца забирали в армию, и мои родители еще не знали друг друга. Это говорило лишь о том, что всю свою жизнь заблуждался, думая, что мой отец сам придумал себе дату рождения, чтобы отмечать день рождения рядом с материнским. В военном билете было не что иное, как точная дата отцовского рождения. Понимание этого стало холодным душем, потому что c началом войны мой дед ушел на фронт. Более того, когда-то мне моя бабка рассказывала, что в ее доме в начале войны жили фашисты, потому что дом был расположен в выгодном месте, был большим и светлым. Немцы выбрали дом в качестве пристанища, поселив его обитателей в чулане, за печкой. Это наводило на грустные мысли, и как-то мне начинало казаться, именно в них и заключалется голая правда, причем, правда, эта весьма условная, потому что никаких неоспоримых доказательств нет, а именно: в эти страшные дни войны, в отсутствии моего деда, был зачат мой отец.
Зная свою бабку – порядочную и умную женщину, не сомневаюсь в ее честности, и могу лишь предположить, что ею овладели насильно. Как бы не было мне не приятно вообще думать о том, что мой отец был рожден не по любви, другого выбора, судя по имеющимся данным, не остается. Если люди могут молчать, то документы всегда говорят. Сейчас они указывали не только на бесчеловечность войны, ее тщедушие, кровожадность, вечное стремление к хаосу и пустоте, но и на нечто новое в моей жизни.
Но так как не было веских доказательств, а были лишь предположения, то отнесся ко всему с иронией. Некий сволочь- фашист затащил мою бабку в чулан, сделал свое гнусное дело, показав превосходство арийской нации над русскими девушками, и через девять месяцев родился мой русско-немецкий папа. В моем сознании - издевательства, которые чинились фашистами на территории России в годы Великой Отечественной войны, иначе как изуверством назвать нельзя. Что же мне могло прийти в голову от этих жестоких совпадений, которые отфильтровывались в моем мозге, словно процеживались в решето? Нет, конечно… эти мысли – еще одно мое заблуждение. Могу, благодаря своему развитому воображению, представить, как русскую девушку изнасиловал какой-нибудь гад в фашистской форме, и даже буду представлять себя партизаном, идущим в село, чтобы разрядить магазин на этом ублюдке. Но… почему не являюсь извергом, не бесчинствую, и более того – веду себя порядочно и придерживаюсь букве закона? Так ли то, что смутило меня до беспамятства, или же все эти совпадения – лишь насмешка судьбы? Пустой ли это всплеск эмоций, или может быть это вызов времени, а вовсе не ответ моему одиночеству. Или это - вопрос, заданный самому себе, устремленный к глубинам сердца – кто есть я?
Меня шатало, ноги шли сами по себе по городу, также как и день назад, - пелена перед глазами, сдавленные виски, а теперь еще и пустота в сердце. Лежал на кровати и думал о том, что плачу за прошлое по самым высоким счетам.
Достал военный билет отца. Данные документа за номером НМ 1399671 очень хорошо сохранились: дата рождения, место рождение – деревня Рождество, дата выдачи – 24 ноября 1962 года, военную присягу принял 30 января 1963 года, фамилия военного комиссара Шаров и его подпись, название призывной комиссии – Измайловский РВВК. Приказ министра обороны об увольнении моего отца в запас номер 207 от 3 сентября 1966 года, номер его воинской части, его должность, звание, награды. В 1965 году мой отец побывал в дальнем походе, за что получил нагрудный знак «За дальний поход». В билете есть данные о прохождение учебных сборов, сведения о медицинских прививках, группе крови, метрике, и вот – печать о регистрации брака с моей матерью – 6 апреля 1965 года. Через четыре месяца у них родилась моя сестра. В конце билета была поставлена подпись отца. Пожелтевшие страницы больше ни о чем мне не говорили, кроме разве что о характере моей матери, потому что в нем были исправления, сделанные ее рукой о том, что ее муж каменщик по профессии, женат. В графе семейное положение слово «холост»(понятно, что в 1962 году отец еще был холостым), было аккуратно зачеркано, и вписано женат на моей матери: фамилия и имя. Она навечно привязала его к себе, подчинила его.
В дверь позвонили. Звонок отвлек меня от волнительных размышлений. Пришла сотрудница нашего ЖЭКа с просьбой, чтобы я расписался в отчете за проделанную ЖЭКом работу по устранению течи в подъезде. Вспомнил, что пол года назад, обращался в ЖЭК с такой просьбой. Требовал, чтобы в стенах заделали щели и утеплили фасад, а также, чтобы поменяли оконные рамы в подъезде, так как те протекают, и на лестничной площадке после дождей - лужи. Кроме того, тек электрощит, и во время дождя могло произойти короткое замыкание, которое часто приводит к пожару. Работница ЖЭКа Коплыжкина пыталась войти в квартиру, но я не пускал ее. Мы смотрели друг на друга, как два врага, стремясь выгадать время.
«Нет, я вас не пущу в дом, вы мне здесь натопчите, свои туфли вы все равно не снимаете, - начал я, не давая высказаться Коплыжкиной, которая все-таки успела сообщить, что пока я не подпишу ее бумаги, она не будет больше реагировать на мои просьбы. – Вот пройдут дожди, и я посмотрю, как и что вы на самом деле сделали. Потому что, если вы выполнили все формально, то это сразу станет ясно. По крайне мере, в моей квартире вы ничего не делали, это мне хорошо известно, и это значит, что зимой у меня будет холодно»
«Ну, смотрите, как знаете, вас никогда ничего не устраивает, - завела свою песню Коплыжкина. – А что там у вас в квартире, что ли вы сами ничего сделать не можете?»
«Не надо утрировать, - начинал злиться, - речь идет о стенах , о фасаде. В них - трещины. Я не могу устранить это изнутри.… И не должен. Почему я должен платить за обслуживание жилья, а ваш ЖЭК наглым образом еще и на меня же перекладывает все ваши проблемы. Может быть, мне и соседям швы залатать? У них тоже стены текут».
«Ну, знаете, вы тут не грубите, – говорила Коплыжкина. – Ставьте подпись, или сами пожалеете».
«Вон, - крикнул, вытянул руку с указательным пальцем, стукнул ногой, и захлопнул дверь. Это был смелый поступок, ввиду того, что ЖЭК мог отключить лифт, горячую воду, не вывезти в субботу мусор. Да, мало ли что мог. Но, пребывая под впечатлением от отцовских документов, мне все вокруг казалось никчемным, мелким. Захлопнул дверь с полным убеждением своей правоты. – Очковтиратели!»
3.
Недавно встретил Фаустцова, стоявшего за автобусной остановкой, и разговаривавшего по телефону. Сделал вид, что не заметил его, и Фаустцов, со своим уязвленным самолюбием, конечно, подошел. Он был сыт и доволен, а, видимо, его темное настоящее, связанное с неким уголовным делом по поводу торговли землей на Куршской косе, оказалось не чем иным, как банальными слухами, которые распространяли злые языки. Мне было не приятно, что и я стал частью этого испорченного аппарата по производству слухов.
Разговор с Фаустцовым был натянутым, надуманным и пустым. Он, рассматривая мое новое пальто и прикидывая в уме стоимость моего мобильного телефона, пытался, как мне показалось, выяснить не мои жизненные устремления, о чем напыщенно говорил, а мое материальное положение, задавая недвусмысленные вопросы, и это было бы обидно, если не мое отречение от тех мнимых идей, которые когда-то исповедовал Фаустцов.
«Не хочешь поменять страну? – Спрашивал он. – Сегодня это – проще простого. Можно поменять город, страну, и даже планету».
«Нет, планету менять не хочу, по крайне мере, не в этой жизни», - мои ответы были короткими и колкими. Семен, уловившей во мне некоторые перемены, никак не реагировал на мою колкость, пытаясь за минуты ожидания транспорта выяснить их причину, и ему это удалось, потому что я сказал, что у меня умер отец, и, что сейчас занимаюсь оформлением наследства.
«Ведь все возможно, - продолжал Семен, - в космос может полететь любой, у кого есть деньги».
«Это пустой разговор, и мне это не интересно, - отвечал я. - А как там у вас на косе? Наверное, нет более спокойного места, чем этот райский уголок природы?»
Фаустцов начал заикаться, и его мнение о том, что коса стала объектом раздора бизнеса и власти, выглядело не очень убедительным, и, кроме того, мне оно было не интересно, Семен это понял, когда я сказал, что думал только самое хорошее об этом райском уголке на берегу моря. Не дождавшись транспорта, мы пошли в разные стороны – я по ходу движения, Семен – в обратном направлении.
Шел по городу и вспоминал, как однажды, с Фаустцовым мы решили побывать на субботнике в Немецко-Русском доме, который только-только открылся для того, чтобы помогать российским немцам переселяться из дальних регионов России в бывшую Восточную Пруссию. Это учреждение было открыто и для горожан. Сюда приглашали всех желающих участвовать в его общественной жизни – на музыкальные вечера, встречи, выставки, утренники, субботники и прочее. Вот на такой субботник однажды попал и я. Фаустцов не пришел. Меня же в этом уютном одноэтажном здании, построенном на немецкие деньги, встретили настороженно – не агент ли я, работающий в ФСБ. Чем активнее сгребал листья в прилегающем сквере, где рядом со мной трудилось еще несколько человек, тем с большей уверенностью директор дома пожилой немец Ханц Гюр и его жена Гретта предполагали, что – все- таки агент. Но, когда, после работы, пришел попробовать хрустящих немецких сосисок, на лужайку перед домом, где стояла жаровня и несколько перешептывающихся о чем-то человек, а официант из ближайшего ресторана, работающих здесь по вызову, разносил соки и пиво, Грета подошла ко мне и радостно пожала руку.
Мне казалось, что что-то новое наступает в моей жизни. Но это ощущение было не долгим. Однажды ко мне на работу пришел журналист, решивший написать статью о проекте воссоздания старой части Кенигсберга. Тогда мне практически нечем было с ним поделиться – наработок было мало, и он, по собственному желанию, разбавил техническую сторону материала политикой, написав, что немцы, переселяющиеся в Пруссию, хотят создать новую немецкую республику на берегах Балтики. Меня вызвали в Немецко-Русский дом, и в присутствии всех глав немецких обществ, а их насчитывалось около десятка, назвали агентом ФСБ. Оказалось, что журналист, написавший статью о новых прожектах Кенигсберга, действовал по наводке ФСБ(откуда им было это известно?), и российские немцы решили, что и я тоже засланный к ним агент. Тогда мне было очень неприятно даже думать об этом. Как все это выглядело мерзко и ничтожно. Никто не пытался выслушать. Меня называли господином, шпионящим за порядочными людьми. Все те, кто отчитывал меня, сидя за большим круглым столом, были мне не знакомы, и более того, еще пару лет назад их вообще не было в этих краях, они примчались сюда, чтобы получить техническую помощь из Германии. Эта помощь исчислялась миллионами немецких марок, она шла мощным потоком в адрес переселенческих обществ и многие успели за какие-то считанные годы сделать на ней настоящее состояние. Но переселения российских немцев в бывшую Восточную Пруссию, на что рассчитывало немецкое правительство, не произошло, потому что все эти мнимые арийцы затем уехали в Германию, а там, к сожалению, так и не прижились, оставшись людьми второго сорта.
Уверен в том, что всех их, и Фаустцова в том числе, который так мило симпатизировал германской нации, и даже нашел себе несколько непонятных друзей в Германии, которые давали ему деньги на восстановление важных захоронений в Пруссии, постигла одна беда – жажда наживы.
Распрощавшись, мы пошли в разные стороны. Фаустцов - против движения транспорта, в направлении памятника «Мать-Родина», карикатурой которого был мужской член, словно выглядывающей из-под подола бронзовой Матери(так неудачно этот памятник был сооружен, ладонь Матери, с вытянутым большим пальцем, с боку можно было принять за мужское хозяйство, что и делали многие, фотографируясь на фоне этой незаметной достопримечательности). Я шел в сторону Кафедрального собора, чуть дальше, за ним, жила моя мать, карикатурой жизни которой стало ее безрассудство. Разница в направлениях движения каждого из нас, на мой взгляд, заключалась в подлинности бытия, присущей только одному из нас.
4.
После смерти отца мать стала испытывать депрессию от одной только мысли, что ее мужа больше нет на этом свете. Она быстро забывала о нем, едва ложилась в пастель. Но вспоминала вновь и вновь, как только встречала что-то напоминающее о ее супруге. Мне пришлось убрать все фотографии, которые были разбросаны по комнатам, и которые напоминали об отце, потому что при виде своего мужа мать начинала исступленно реветь, хватаясь за воздух руками.
Она постоянно хотела куда-то уйти, требовала, чтобы я не закрывал входную дверь, когда уходил, стояла у выхода и ждала моего ухода, и затем запирала дверь своим ключом. Вечером она, кое-как одевшись, растрепанная и пугающая прохожих, отправлялась в поисках вина. Если час был поздним, шла к соседям, если нет – в магазин, и там, ссыпая мелочь на прилавок кассы, покупала «Портвейн». Она возвращалась домой, наливала себе стакан, и шла спать, а входная дверь оставалась либо не запертой, либо и вовсе открытой нараспашку.
Она нисколько не заботилась о том, чтобы оплатить счета за квартиру, подготовить ее к зиме, постирать грязное белье, купить обновку, и даже – продукты. Все это пришлось делать мне, учитывая ее маленькую пенсию и свои невысокие доходы, экономя на всем, делая приобретения в дешевых магазинах.
После смерти отца квартира нуждалась не просто в уборке, а хотя бы в косметическом ремонте, потому что на обоях, на дверях, на полу, на мебели и даже на лампах, еще можно было встретить следы кровавых потеков отцовских ран. Кроме того, было много и обычной грязи, которую нельзя было бы выгрести, не поменяв обои, и не побелив потолки. Все это нужно было делать, и я делал это, не дожидаясь помощи со стороны. Ее, кстати, практически и не было. Сестра, которая должна была бы заботиться о матери, устроила скандал во время телефонного разговора со мной, натравив на меня своего сына Марата, как голодного пса. Они оба были пьяны, а итогом этого разговора, начавшегося словами Марата:«кто-то говорил, что дверь будет всегда открыта», и закончившийся моими словами: «ключи от двери получит только твоя мать, а ты – сопляк, чтобы со мной так разговаривать». Во время этого разговора, телефонную трубку, по моей просьбе, брала моя сестра, и от нее узнал, что я нахальным образом тратил деньги отца на кормежку, и более того последние два месяца отец ничего уже не ел. То есть, иными словами, моя родственница обвиняла меня в воровстве отцовских денег, в то время, когда она приносила продукты каждый раз на 500 рублей. Мне пришлось возразить, что приходила она к умирающему отцу раз в два месяца, а уход требовался каждый день, и, кроме того, отец дал ей 10 000 рублей материальной помощи, так что и она не сильно потратилась.
После этого разговора мы больше не виделись, сестра не навещала и не помогала матери. Можно было только догадаться ,какими словами она мотивировала свои действия. Но было ясно, как божий день, что она во всем обвиняла меня.
Никуда не спешил, занимаясь мелким ремонтом, пытаясь облегчить жизнь моей матери, столкнувшейся после смерти отца с депрессией. Но одно понимал, что зимой плата за коммунальные услуги будет в три раза больше, и нужно было уже сейчас искать выход из ситуации, потому что предвиделись расходы на родительскую квартиру. Конечно, что уж там говорить, надеялся на какое-то чудо, на то, что хоть кто-нибудь вникнет в мое положение, придет и поможет, и в тайне – ждал звонка от Вайле, которую после моего отлета из Москвы, от серьезных неприятностей спас некий Юлиан, взявший убийство Зураба Камаева на себя. Адвокат хорошо потрудился, выставив Юлиана жертвой преступления, и молодой человек не был осужден, его освободили в зале суда. Об этом я прочел в желтой прессе. Причем, в заметке имя Вайле даже не упоминалось, но мне-то все было понятно. Ждать звонка от Вайле – все равно, что ждать у моря погоды. В этом своем наивном ожидании я был похож на павлина, смотрящего на бананы, растущие в чужом саду. Но Москва долго не выходила у меня из памяти: ее небоскребы, сверкающие миллионами огней, освещенные шныряющими прожекторами, ее сладкий дурманящий запах светской жизни, ее невероятные перспективы в деньгах, власти, славе. Все это манило. Хотя со временем Москва в моем сознании трансформировалась в город, пожирающий чистые души, в некий конгломерат всеобщего зла. Глядя из провинции, кажется что этот так. Москва устанавливает те непонятные и неприемлемые для меня правила игры, которые так наглядно можно увидеть на примере пожилых людей, таких как мои родители, моя мать. Но ведь и мы когда-то станем пожилыми. Как же далеко наше государство от совершенства. Оно выжимает соки из здорового цветущего организма, и выбрасывает на помойку стариков. Никто не переубедит меня в обратном. Имею перед собой яркий пример последних лет жизни моего отца. Еще до того как он слег, они были связаны со строительством храма. Каждое утро он отправлялся на стройку, и клал кирпич за кирпичом, возводя храм, получая за свою работу фактически лишь на похлебку. Но награды, как я уже упоминал, позже получили другие, те, кто имел лишь косвенное отношение к Храму. Странное дело, даже такие важные звания, как «Почетный гражданин» в то время почему-то присуждали не жителям города, а американским астронавтам(ничего против них не имею, но причем здесь они?)
Вот трудовая книжка отца: учетная запись номер 49 от 10 сентября 2001 года «Принят каменщиком 4-го разряда в структурное строительное подразделение Кафедрального Собора Христа Спасителя», уволен 30 апреля 2003 года по инициативе работника. В апреле отец сильно обгорел в пожаре, но, после больницы, через месяц он вновь пришел на стройку храма, с обгорелым лицом и кистями рук. Еще целый месяц он трудился на стройке, пока не упал, потеряв сознание, и, когда его приводили в чувства, сняв перчатки с его рук, напарники были поражены видом окровавленных бинтов, которыми были перемотаны точащие кровью незажившие после пожара раны.
Когда думаю об этом, на ум приходит одно: наше общество не благодарно перед человеком и поэтому ничтожно.
5.
Идешь по Кнайпхофу, как-то смутно представляешь, что именно здесь было до войны. Сказывается отсутствие данных о прежнем Кенигсберге. Горожане не углубляются в детали, и в этом нельзя их винить, потому что данные о городе, как правило, хранятся в немецких архивах, на немецком языке, или же в памяти тех, кто здесь жил, но уехал в Германию.
Все это лето на острове стригли траву, и в итоге здесь стало более культурно, но ничуть не более жизненно – все тот же пустырь, напоминающий о жестоких августовских днях 1944 года, когда Кенигсберг был разрушен. Вспоминаю фотографии дымящихся руин некогда красивейшего города Европы, они ужасают масштабом. Но жизнь не может стоять на месте. Руины разгребают, засыпают землей, на их месте высаживают скверы и парки, и кажется, что все начинается вновь, но в ином качестве. Это - кажущийся эффект, историю нельзя вычеркнуть из памяти, особенно такую, каковой была история Кенигсберга.
После смерти отца, не стал иначе относиться к городу, Кенигсберг не стал для меня ни ближе, ни дальше, но идеи, появившиеся много лет назад, касающиеся возрождения духа города в новой культурной среде, не покидали. Мое устойчивое моральное положение является следствием моей внутренней работы над собой, моим обращением к истокам этой земли, к лучшим сторонам ее жизни.
Макет Кнайпхофа был практически готов, но он, конечно, был в большей степени схематичным, потому что сложно создать здание в миниатюре, пользуясь только открытками довоенной поры, картами, фотографиями, сделанными с высоты птичьего полета, но не видя Кенигсберга воочию. Тем не менее, хорошо виделись многие черты прежнего города, когда делал выписки из альбомов, брошюр, книг. И вот сейчас, идя по пустой аллее, мысленно представлял, что вот здесь, напротив Кафедрального собора был расположен Дворец Шиндельмайссера – одно из самых видных зданий Кнайпхофа. Оно было построено в 1793 году в стиле позднего рококо. Владел им крупный виноторговец господин Шиндельмайссер. Затем его фирма открыла знаменитый ресторан «Блютгерихт»(переводится с немецкого, как «Кровавый суд») в подвалах Королевского замка. В подвалах же Дворца Шиндельмайссера тоже хранилось вино. В больших бочках, с разными годами выдержки. Здесь было много дорогих и ценных марок. Потом здесь размещался Прусский Имперский банк, а в 1928 году сюда переехало земельное управление культуры.
Средневековый Кнайпхоф хорошо бы сохранился, если бы не бомбежка города в августе 1944 года. Сегодняшние туристы с большим интересом посещали бы такие места, как Медвежья аптека. Она занималась поставками лекарств ко двору последнего магистра Тевтонского Ордена Альбрехта Гогенцоллерна. Первые упоминания об этой аптеке относятся к 1512 году. Не меньший интерес представляла бы и «Голубая башня», служившая местом заключения в Средние века. Ее построили в 1378 году, как часть городских укреплений вместе с городской стеной. Первоначально она называлась «Пороховой». Новое название перешло ей в 1735 году, когда стоявшую по соседству «Голубую башню» снесли. В 1897 году ее остроконечную крышу заменили на зубчатый фриз.
Середина 18 века была связана с развитием зеленых зон. В 1840 году на месте парка средневекового города открыли Юнкергартен. Юнкерский сад являлся традиционным местом для отдыха и торжеств крупных торговцев, членов купеческой гильдии – юнкеров. Но вот сегодняшний парк скульптур под открытым небом, созданный по подобию Стокгольмского, не идет ни в какое сравнение с Кнайпховским. В Юнкергартен, примыкающим к Старой бирже, выстроенной над водой, проходили маскарады, концерты, студенческие балы. В 1840 году в Юнкергартене принимали короля Фридриха Вильгельма IY, прибывшего в Кенигсберг по случаю принятия присяги.
В 1829 году в Кнайпхофе на месте Литовской пристани появился Капустный рынок. Сюда причаливали крестьянские канны, груженные овощами, приходившие из восточных областей – из Прусской Литвы. Вплоть до Второй Мировой войны здесь можно было видеть канны с сыром и фруктами. Овощи и картофель лодочники отвозили на верхний конец Рыбного рынка к Деревянному мосту.
Это может показаться странным, но не богатый Кнайпхоф первоначально был назван Кенигсбергом, а Альтштадт. Причем, до той поры пока Кнайпхофа не было, то есть до 1300 года, не было и названия Альтштадта, а был просто Кенигсберг. Но потом, по мере роста числа горожан у стен Королевского замка, начали строить второй город – Кнайпхоф, а прежний получил название Альтштадт(Старый город), потому что Кенигсберг уже был в малой Азии, и это название в те времена было больше дипломатическим, чем географическим.
Альтштадт - самая старая из трех частей Кенигсберга. Сформирован между Королевским замком и северным рукавом Преголи. Уже в 1258 году он получил городское право и имя Кенигсберг. Традиционно здесь был центр сосредоточения столичной власти. Первая аптека здесь появилась еще в 1420 году. Город имел серьезные укрепления и многие из них долгое время сохранялись, как и здание Альтштадской Ратуши – резиденции бургомистра и городского совета. Первые упоминания об этом здании относятся к 1442 году, но в 1757 году оно было перестроено в стиле ренессанса. На нем были установлены астрономические часы
и япперы.
О япперах вообще стоит сказать отдельно. В эпоху средневековья жителей Кнайпхофа называли япперами, то есть неграмотными, неотесанными, внешне непривлекательными людьми. Ну, так сложилось исторически, что в Альтштадте немного недолюбливали кнайпхофцев, часто с ними конфликтовали. После одной из стычек в 1455 году альтштадцы выразили свое брезгливое отношение к жителям Кнайпхофа, приделав к часам на городской Ратуше отвратительную морду, которая каждый час показывала язык Кнайпхофу. Они назвали эту безобразную морду яппером. Через семьдесят лет в 1528 году при реконструкции Ратуши Альтштадта (а в это время герцогом Пруссии был Альбрехт, который тоже недолюбливал Кнайпхоф по известным причинам) была построена вторая башня, на которой также появились часы в виде безобразной морды, и которые также как и первые каждый час при бое курантов показывали Кнайпхофу язык. Причем, происходило это поочередно - «бом-бом, бом-бом». Еще через двести с лишнем лет в 1774 году(а в это время Альтштадт и Кнайпхоф уже были единым городом Кенигсбергом) власти Альтштадта решили построить новое здание Ратуши. К тому времени жителей Кнайпхофа перестали называть япперами, многие из них стали богатыми, образованными людьми, но часы на Ратуше в Альтштадте сохранили и после строительства нового здания. Правда, на этот раз оставили одного яппера, к которому все горожане привыкли и даже успели полюбить. Но надо так случиться, что прямо в рот япперу залетел воробей, и часы сломались. Кнайпхофцы в шутку обозвали Альтштадт «пожирателем воробьев», часы отремонтировали, но механизм, высовывающий язык япперу, восстанавливать не стали.
«Было бы здорово восстановить этих япперов в первозданном виде. Правда, для этого надо построить Ратушу в Альтштадте, а заодно и сам Альтштадт», - думал, прогуливаясь по набережной Кнайпхофа.
Наверное, такие же мысли были у жителей Кенигсберга, когда в 1832 году они изготовили третьего яппера. На этот раз решено было создать не отвратительную морду, а позолоченную голову льва, которая также как и раньше каждый час при бое курантов высовывала красный язык, но это уже больше никого не раздражало, и даже более того, часы в виде льва стали гордостью Кенигсберга. В 1944 году во время налета английской авиации Ратуша Альтштадта сгорела. Сейчас здесь – тоже пустырь, поросший деревьями.
6.
У подъезда дома моей матери встретил Тимофея Котова, направлявшегося в магазин. Искренне обрадовался своему школьному товарищу, намереваясь рассказать о своей поездке в Москву, но, как всегда, проявил сдержанность. Тимофей вспомнил школьную пору, одноклассников, учителей, и так как это было на улице, и не к месту, выглядело все это как-то грустно. Воспоминания Котова ввергли меня в ностальгию. Ввиду того, что через две недели был мой День Рождения, решил разбавить грустный разговор, пригласив Котова к себе в гости, и, сказав, что придут еще друзья и знакомые, и, наверное, будет весело. Тимофей проявил такой же ностальгический интерес, как и к одноклассникам, о которых рассказывал. Потом он зашел в магазин и купил «чекушку».
Две недели пролетели быстро, многие дела не успел довести до конца, нужно было зайти в БТИ, чтобы оформить справку на наследство, и, кроме того, самое главное – нужно было обзвонить наши музеи, чтобы выяснить, кто из них заинтересован в макете Кнайпхофа, который я намеривался завершить в ближайший месяц.
Все утро в субботу в день своего рождения колдовал на кухне, занимаясь приготовлением праздничного ужина. В холодильнике остывали пыльные бутылки французского вина, вкусно пахли салаты, разложенные в хрустальные вазы, на нижней полке в коробке ждал своего часа большой праздничный торт.
Пока готовил мясо по-арабски, думал о том, кого пригласил в гости. Мой напарник Ботяжин, недавно вернувшийся из Китая, был искренне рад приглашению. Он спросил, что мне подарить, а также поинтересовался, не буду ли я против его прихода с одной милой особой. Поэтому интерес к Ботяжину у меня был большой. Котов шел на ум лишь изредка, да и то в отрицательном контексте. Боялся, что он произведет дурное впечатление, ввиду своего пристрастия к алкоголю. Он как-то странно раскрылся для меня в последнее время, хотя этого человека я знал больше, чем кого бы то не было. Это было связано с нашей предпоследней встречей, когда, сидя на лавочке в сквере возле магазина, Котов рассказал о том, как занимался перевозкой и продажей золота, о том, как пытался искать счастья в Москве. Было это еще в начале 90-ых, и тогда, уехав в столицу по приглашению некого бельгийского бизнесмена, он бросил свою первую красавицу жену и малолетнюю дочь. Котов восторженно рассказывал о том, что было там, в Москве, и почему ему пришлось вернуться. Бельгийский бизнесмен, еврей по национальности, покупал в России золото и продавал его на Западе. Разница в цене была большой, и, соответственно, большими были доходы. Эту же схему прокручивал он и в России. Мой одноклассник был его подельником, таскал с собой обычный дипломат с драгоценностями по вокзалам и аэропортам, передавая золотые изделия крупным воротилам и получая за это деньги. Тимофей рассказывал об этом так быстро и подобострастно, что казалось, он пересказывает какую-то книжку с захватывающим сюжетом, и, кстати, это больше походило на правду, чем то, что какой-то еврей доверил Котову, бросившему жену и дочь, носить дипломат с золотом. Но Тимофей был неудержим, и продолжал, почти захлебываясь от восторга. Однажды, говорил мой одноклассник, в квартиру, которую снимал бельгиец в Москве, пришли люди в черных масках, закрыли Котова в ванной комнате, а его покровителя избили до полусмерти. На этом и закончилась золотая лихорадка, Тимофей вернулся домой, бельгиец уехал в Израиль. Вот такой финал у Котовской беллетристики. Уже тогда, когда Котов рассказывал эту свою X-историю(так я называю сокровенные тайны жизни людей), мне показалось, что она взята из какой-то дешевой книжки в тонком переплете, и поэтому в шутку спросил, не из того ли дипломата его золотая цепь на шее и золотой браслет на руке? Котов сказал, что это подарок его жены. Вообще, Тимофей женат третий раз, его третью жену я не видел, но знаю, что она – татарка, в гости к которой часто приходят местные приезжие узбеки, и что часто в саду их дома готовят плов по-узбекски. Признаюсь, что все это как-то плохо вяжется с профессией Тимофея. Будучи адвокатом, он, как мне кажется, должен вести более примерный образ жизни.
Так вот об этом думал, когда готовил мясо по-арабски. Кстати, это – настоящий деликатес. Обычную мелкорубленую баранину заливают сладким арабским соусом. Подается мясо отдельно без гарнира, но на большой тарелке, с миндалем, черносливом и грецкими орехами. Это изысканное лакомство, о котором знают все мои знакомые, и очень его ценят. Но в этот раз мясо у меня подгорело. Еще утром почувствовал что-то неладное, у меня стало ныть под лопаткой, и подумал, что приготовление праздничного обеда несколько отвлечет, но чем ближе стрелка часов подходила к назначенному времени, тем сильнее становилась эта боль.
Сел за компьютер, открыл сайт с гороскопами, и быстро прочел, что сегодняшний вечер пройдет в спокойствии и одиночестве. За десять минут до ожидаемого прихода гостей, пошел снимать с себя костюм, развязывая на ходу галстук. Позвонил Ботяжин и сказал, что у него срывается приход в гости, о причинах он расскажет позже, что он поздравляет и очень сильно извиняется. Котову я позвонил сам. По домашнему телефону никто не брал трубку, мобильный был отключен. Когда часы пробили в прихожей, их тихий ритм наполнил пустой дом, сел на диван, обхватив голову руками, и вдруг понял, какая страшная пустота - в моей душе. Как же я хотел, чтобы в эту минуту позвонил мой отец, и сказал мне добрые слова, идущие от сердца, честные и сильные. Но его уже не было. Сжавшись в комок, лег на диван, и слезы потекли у меня из глаз.
7.
В природе есть настоящее благоденствие. Она одна совершенна и поэтому одна может дать каждому человеку, думающему о своей сути, подлинное ощущение бытия. Когда идет дождь, подает снег, дуют холодные ветры, стоит изматывающая жара, тому, кто нашел свое место в этом мире, все эти явления природы дают лишь силу, и дарят только умиротворение и спокойствие души. Даже в дождь, в снег, в ураган можно ощутить счастье собственной жизни. Нет ничего лучше, когда пустую душу наполняет природа, ее вечная красота, ее жизнь во имя человека, ее космическое дыхание, потому что ничто не может быть более важным для человека, чем понимание того, что он является частью этой природы. Суть же самого человека в создании всеобщей гармонии этой совместной жизни с природой.
Шел по Куршской косе, оставив машину на КПП, дышал широкой грудью. Запах хвои отрезвлял, словно вчера мне пришлось побывать на бурном застолье. Мне-то хорошо известно, что никакого застолья не было, лег спать рано, не откупорив даже бутылки вина. Вчерашние мысли о том, как мне теперь нужно будет себя вести с людьми, которые еще до вчерашнего дня составляли некий круг общения, а теперь были для меня неприятным воспоминанием, постепенно вытеснялись красотой леса, шумом прибоя и свежестью морского воздуха.
В сущности, мы и есть вечные странники, мчащиеся в лоно природы за спасением, и пытающиеся найти свое место вне ее. В этом есть трагизм человека. По чьей-то странной ошибке мы разделили себя на два антагонистических лагеря: общество, стремящееся к раздорам и обогащению, и природу, живущую в ладу с собой миллионы лет. Эпохи сменяют друг друга, создавая и руша цивилизации, а природа властвует, как и сто, тысяча, миллионы, а может быть, миллиарды лет назад. Только люди остаются все те же – думающие лишь о своем животе: похотливые и мелкие. Лишь избранным дано увидеть себя частью природы, понять ее величие, и оценить масштаб своей ничтожности перед временем и пространством.
Чьи-то следы на песке, - еще одна одинокая душа ищет спасения в эти утренние часы на морском побережье. Мелкая морось, осыпающая холодное лицо колкой ватой тумана, набегающая волна, льнущая к ногам, как чужая соседская кошка, от которой хочется увильнуть. Будешь мысленно парить выше чаек, взбираться по песчаным откосам, стряхивая по-кошачьи песок с ботинок, а потом - вдыхать грудью воздух, пропитанный йодом, выискивая вдали очертания своего будущего, но никогда не взлетишь над человеческой сущностью.
Выглянувшее из-за туч, солнце, полосы белого песка, манящие своими акварельными красками, - думаю над тем, как можно в архитектуре применить эту естественную красоту. Море и песчаный пляж – это подлинные богатства этой земли. Кто видел дюну Эфа, тот никогда не променяет белоснежную красоту морского песка на гальку южных морей. Мне даже кажется, что песок оказывает какой-то лечащий эффект на человеческую душу, и ощущаешь это, когда ищешь потребность в этом лечении. Кто-то получает свою порцию лекарства, придя в церковь или в театр, а для меня настоящим лекарем является природа.
Я оглянулся по сторонам, и вдруг заметил, что в нескольких метрах от меня, на небольшом холме, сидел человек, держащий в руках длинную палку. Он словно прочел мои мысли, и, кивнув головой, как будто согласившись с ними, стал пристально вглядываться в морскую даль.
Подошел ближе и спросил, правильно ли что мы все ищем спасение у природы, и быстро понял, что этот вопрос задал скорее сам себе, потому что увидел перед собой обычного бомжа. Мой вопрос, конечно, был не уместен, но бомж, сидя ко мне спиной, в своем черном длинном драповом польто, выглядел вроде бы прилично. Его лицо, которое рассмотрел, когда он обернулся, было лишено всякого интелекта. У таких людей никогда не будешь спрашивать имя, род занятий, круг знакомств, становится сразу все ясно при виде их мятой грязной одежды, нездорового румана на щеках, лукавого взгляда и сальных нестриженных волос.
- Да, природа - это здорово, - промычал бомж. - Нет ничего лучше чем моря. Я люблю море. Вот сейчас...чуть-чуть и хорошо. - Я хотел было уйти, но бомж продолжил свою лебединую песнь. - У меня здесь есть.
- Что есть, извините? - Переспросил, удивленно.
- Скипедар. Купил в городе, таскаю с собой, нюхну чуть-чуть и - хорошо. - На вид это был молодой человек, лет двадцати пяти. Помой его и причеши, мог вполне бы понравится какой-нибудь девушке. Видимо, прочитав эти мои мысли, бомж, который сам сказал, что зовут его Леха, стал больше улыбаться, спонтанно демонстрируя свои гнилые зубы. - Я, когда нюхну, с птицами разговариваю, с деревьями.
- И что же они говорят? - Меня, конечно, злило общение с этим человеком, потому что как-то сразу забыл про то зачем приехал на Куршскую косу, и вспомнил вчерашний вечер в одиночестве. Бомж Леха был весьма необычным типом. - Они что говорить умеют?
- Да, деревья говорят, что скоро зима. Они так:зима...зима..зима. Скорее бы весна...весна. - Так сразу много голосов. Я слышу их. Они как будто бы поют. А птицы они перекрикиваются, что видят: червяк... мышь... хлеб. Хлеб - и все слетаются. У них очень хороший слух. - Леха бомж замолчал, покручивая бутылкой скипедара, которую он прятал в кармане.
- Может быть, это ты сам себе нашептываешь, когда нанюхаешься? - Я изучал этого человека, задавая себе вопрос: почему человек опускается до психотропных веществ, алкоголя, наркотиков, токсикомании, пытался найти ответ. Должен ли я был протянуть этому человеку руку помощи? Сказал ему, что токсические вещества разрушают нервную систему, человек от этого медленно умирает. Но бомж Леха никак не отриагировал. Но добавил, что хочет умереть.
Меня не сбили с толку его слова, они даже показались очень убедительными. Когда-то много лет назад, вот здесь же на побережье Балтийского моря, возвращаясь с такой же прогулки, в дюнах, увидел повешенную женщину. Ветер раскачивал ее труп на ветке дерева. Было не по себе. Пошел подальше от этого страшного места, на встречу попался грузовик, медленно ехавший по песку, и я слышал, как сидевшие в нем люди говорил, как они будут снимать эту повешенную.
Мы мчимся в лоно природы, чтобы умереть? - Эта страшная мысль показалась мне безошибочной, но жестокой, - наши поиски спасения в природе, не что иное, как уход от обычной человеческой жизни, понятно почему - часто насквозь пропитанной стяжательством и наживой, и надо уметь, отправляясь на побережье, быть сильным, защищенным от мелких позывов самоубийства, которые могут привести к большой беде, потому что расчленяя себя на душу и тело, ты расчленяешь природу, у которой ищешь спасения. В этом и есть трагедия человека. Нам не нужно разговаривать с деревьями и птицами, это нам не дано природой, и, пытаясь ее обмануть, мы лишь вредим ей.
Не попращался с бомжом Лехой, который, конечно, как только я спустился к урезу моря, достал свой бутыль и стал самозабвенно нюхать пары скипедара. Шел по мокрому песку, не оглядывась.
Вернувшись в город, поехал к матери. Меня не оставляли мысли о бренности жизни. Стремясь к некому материальному благополучию и душевному спокойствию, тем не менее, мне, также как и нам всем, такова уж наша сегодняшняя жизнь, постоянно приходится сталкиваться с бедностью и человеческими пороками, которые никогда не приведут душу к ощущению счастья, но могут привести к очищению. Если ты совестливый, в душе ты будешь мучатся и страдать вместе с теми людьми, кто не может найти себя в обществе, но сможешь ли ты помочь всем? Моя мать стала для меня тем человеком, который заменил мне весь несчастный мир потерявших себя людей, таких как бомж Леха. Сегодня в их число, по моему убежденю, попал Тимофей. Не могу помочь всем, вытащить их из мирка кривых зеркал, из пьянства, из таксикомании, из непроглядного блядства, из неограниченной жадности, и достающего до луны, тщеславия, но могу помочь своей матери, даже лишенной разума, просто оставаться человеком.
Сидел на кухне, готовил оладья, рассматривая в окно здание Кафедрального собора. Мать ходила и спрашивала меня тридцать раз подряд, когда вернется отец. Несколько раз отвечал, что он умер, но она категорически отрицала, что он мертв, и убеждала меня, что он был сегодня утром, ходил тут по комнатам, а потом уехал на дачу. Она попросила, чтобы я разбудил ее, когда он вернется. У меня текли слезы от понимания того, что она все еще любит его, так же сильно, как когда-то в молодости. Где-то в глубине души ощущал значимость ее безрассудства, потому что, оставаясь бы в здравом уме, она никогда бы не сказала, что, будучи мертвым, он ходил тут утром, а потом уехал на дачу.
Признаюсь, что вопросы матери иногда начинали раздражать, и, если не отвечал на них, то она говорила, что ее никто не слышит и не видит, и вот тогда предпринял новую тактику общения - стал назвать ее на "вы", и это подействовало. Эффект был просто поразительным. Ей понравилось то, что сын, который, по ее мнению, когда она была в здравом рассудке, многого досиг в жизни, и живет так, что можно и позавидовать, называл ее уважительно на "вы". Понравилось это и мне, потому что это замечательное слово "вы" четко разграничело наши жизни, провело их идентификацию, и выяснело, что они имеют разные смысловые коды. Я выполняю свой сыновьий долг, но ни в коем случае не смешиваю свою жизнь с жизнью моей матери. Эти две жизни - разные, но благодаря здравому рассудку, они достойно сосуществуют.
8.
Мои обращения в наши музеи с предложением о покупке макета, который завершил совсем недавно, оказались не эффективными. Еще в то время, когда занимался воссозданием Кнайпхофа, где-то подспудно понимал, что денег мне это дело не принесет. На закупку материалов для общирного макета уходила львиная доля моей зарплаты. Не хватало средств на приобретение новой одежды. Заметил, что ношу обноски. После смерти отца мое материальное положение ухудшилось, нужно было содержать мать, пенсия которой была смехотворно мала, не хватало средств, чтобы оплатить коммунальные услуги. Приходилось экономить на всем, даже на еде. Не всегда наследство может обогатить человека.
Мое положение еще более ухудшилось в связи с финансовым кризисом, разразившимся осенью. На работе стали поговаривать о глобальном сокращении. Кризис оказался столь глубоким, что затронул практически все стороны жизни. Я был спокоен, потому что был поглащен творчеством, много размышлял, думал о вечных ценностях, о смысле жизни, и как-то финансовые проблемы, о которых все говорили, теряя свои сбережения то там, то здесь, меня не цепляли, но, конечно, они не прошли мимо. Теперь мог позволить покупать меньше сыра, растительное масло худшего качества, значительно меньше мяса, полностью отказался от деликатесов: вот, наверное, и все. Но все-таки перспективы в связи с кризисом в экономике, и жесткой позицией руководства страны во внешнеполитическом курсе, которая подогревала
кастрюлю с этим мировым финансовым кризисом, заставляли меня иначе думать о будущем, чем еще несколько месяцев назад. Мне нужны были дополнительные доходы, в первую очередь, чтобы оплатичивать жилье, которое в общем счете поглащало больше половины моих средств. Продать его, в период мирового кризиса, когда цены на недвижимость резко упали, было бы не разумно. Любой здравомыслящий человек понимает, что вслед за кризисом идет
экономический подъем. И потом, где бы жила моя мать? Давно усвоил для себя аксиому:недвижимость следует продавать во время подъема, а покупать во время кризиса. Было бы у меня достаточно наличных средств, приобрел сейчас бы пару магазинов, объявления о продаже которых все чаще стали мелькать в местной прессе.
Мой предпринимательский склад характера, увы, не приносил ничего кроме расстройств. Музеи отказали в покупке макета, и, мне приходилось хранить его у себя дома. Всякий раз подходил к телефону с некоторой надеждой, четко понимая, что кроме как из музея или галереи, больше никто не позвонит. С трепетом ждал электронную почту. Мне отказывали. Особенно неприятно было получить отказ от Рыкиной. Не от нее лично, от секретаря, но все-таки это было ее решение. Мотивировка была такой - галерея занимается художественными произведениями, а не макетами таких произведений, как Кенигсберг. Можно подумать, что она видела, каким был Кенигсберг.
В какой-то момент макет стал меня злить, потому что потратил на него много времени и средств. Еще в начале лета в разобранном виде вынес его с работы, где он уже был никому не нужен, месяцы потратил на доработку у себя дома, но теперь-то, особенно в период кризиса, со своим макетом выглядел нелепо, не просто как какой-то там чудак, а почти, как городской сумашедший. Ко всему прочему стал плохо одеваться, хуже питаться, это было заметно внешне, и многие знакомые просто не хотели меня видеть. Я винил во всем свое творчество, не приносящее денег. Открывая дверь комнаты, где на полу был построен Кнайпхоф в миниатюре, даже со злости плеснул на него кофе из чашки. Но потом закрасил кофейные пятна гуашью, а когда красил, при этом еще и плакал. Нисколько себя не жалею, потому что когда-то нужно поставить точку в этой смешной истории сумасбродного творчества, от которого удовольствие получал только я сам. Кайфуя свое полубольное воображение, зарытое в книжках и фотографиях старого Кенигсберга, как в сугробе, потеряв все - и даже друзей. Теперь мне грозило потерять еще и работу. Дальше было только дно.
В родительскую субботу пошел в церковь, поставил свечи у икон Николая Чудотворца и Богоматери, помолился и, когда вернулся в родительский дом, то заметил, что мать перевесила нашу икону Богоматери, которая висела в детской комнате, в зал. Мать спала, но мне показалось, что изменение местоположения иконы - некий знак: боженька заметила меня, что она здесь, где-то рядом.
С особым рвением продолжил наводить порядок в родительской квартире. Много хлама было на балконах, в кладовой, откуда вынес пустые ящики от овощей. Зачем они были нужны? Хлам перетаскивал на лестничную площадку, чтобы затем выбросить его в мусорный контейнер.
Вечером позвонила сестра моего отца тетя Вера. Она выразила мне свое соболезнование, и рассказала о своей жизни короткими фразами, видимо, экономя на телефонных переговорах. Сказала, что на сорок дней была в церкви и как будто ее обожгло, что, мол, она должна позвонить мне. Она плакала и говорила о своих детях и внуках, о том, что кто-то из моих родственников весной собирается играть свадьбу, и что если я захочу, то всегда смогу приехать к ним, в любое время они будут рады меня принять. О своих родственниках со стороны отца ничего практически не знал, потому что жили они далеко и мои отец и мать редко ездили к ним в гости, я-то и вообще не был ни разу. Особенного интереса к ним не испытывал, кроме одного - увидеть дом, в котором родился мой отец, в котором мою бабку Евдакию обрюхатил какой-то немец, забрать юношеские фотографии отца(если они есть), документы, все что с ним связано. Это было бы интересно, но на поездку у меня не было средств, ко всему прочему намечавшаяся свадьба какого-то моего родственника и грозящее мне соркащение на работе, не вселяли уверенности в перспективы этой затеи. Но, тем не менее, после звонка тети Веры мне стало не так уж одиноко. Но кто они мне были - мои дальние мало знакомые родственники по отцовской линии, был ли я для них любимым, или хотя бы уж родным?
В воскресенье утром на мой мобильный позвонила Рыкина. Это было очень неожиданно и волнительно, потому что никогда раньше Рыкина не звонила на мобильный. Она сказала, что моим макетом Кнайпхофа заинтересовался какой-то предприниматель и что он хотел бы посмотреть его.
- Это очень просто, макет - у меня дома, пусть приходит, смотрит, - ответил, поглядывая на часы. Было что-то около восьми.
Через два часа в мою квартиру пришла большая группа людей во главе с Рыкиной, которая расталкивая всех, пропускала вперед того самого предпринимателя, о ком она сообщила утром. Это был господин Мартин Фок, немец по нацинальности. Заметно, что он был скован в движениях, хотя, его живые подвижные глаза говорили о его энергии и деловитости. Вероятно, его движения были скованы в виду моей квартиры, где был длинный узкий коридор, достаточно не удобный для человека, прожившего всю жизнь на больших жизненных пространствах. Рыкина еще утром сказала, что у Фока есть замок на юге Германии и огромная квартира в Гамбурге.
Узнав, что покупателем макета станет немецкий бизнесмен, и, понятно, что он, наверное, купит его, предложив мне даже смешную сумму денег, меня это несколько разочаровало. Еще пол года назад был бы просто счастлив, если бы хоть кто-то заинтересовался макетом старого Кенигсберга, над которым трудился. Но теперь, после смерти отца, иначе смотрел на многое, и особенно на самого себя. Почему-то перестал рассматривать немцев, как заклятых буржуа, желающих мне только зла, но вместе с этим, подспудно расчитывал на некое снисходительное к себе отношение с их стороны, и потом мне казалось, что немецы должне испытывать по отношению в Кенигсбергу те же чувства, что и я. Но вспоммнил Фйогле(как похожи фамилии), и все мои ожидания рухнули в один миг - скупая, прагматичная нация. Решил, что буду торговаться. Не купит, оставлю как подарок городу.
Когда открылась дверь в спальню, где на полу был разложен макет одного из районов Кенигсберга, толпа оживилась, а немец как-то непроизвольно и достаточно искренне произнес "О-о, гут!" Потом это слово он часто повторял, рассматривая макеты зданий, трогая их руками, интересовался из чего сделаны лодки. Но в сущности материал, из которого были выполнены те или иные здания и детали мало интересовал покупателя. Он ходил вокруг Кнайпхофа, словно измеряя его длину и ширину, покачивал головой, и произнося что-то время от времени. Впечатления сводились к одному - каким красивым был Кенигсберг, и какое счатьсте, что Кнайпхоф не застроили безликими "хрущевками".
Все эти восторги пропускал мимо ушей, потому что был озабочен вопросом стоимости макета. Мне было сложно его оценить, не зная сколько вообще могут стоить подобные вещи. Тем не менее дешевле 50 тысяч евро я бы его не отдал: столько труда, и особенно души было в него вложено. Но у немца были свои взгляды. Как мне потом пояснили по телефону, он, воспринимая в целом Россию, как страну третьего мира, все созданное здесь, оценивает крайне низко, за исключением тех вещей, который создаются на немецкие деньги и под немецким присмотром. Такой бизнес-шовинизм не мог быть каким-то опровданием невероятной скупости Фока, который, восхищаясь макетом и называя его произведением искусства, предложил за Кнайпхоф 500 долларов.
Это была немая сцена, когда Фок сказал "долларов"(в евро это еще меньше). Кровь ударила мне в голову от этой унизительно маленькой цены, хотел сначало возрозить, что только на материалы у меня ушло почти 100 тысяч рублей, а это как минимум 4 тысячи долларов. Рыкиной не нужно было мне потом перезванивать и оправдываться за немца, который рассматривает Россию, как страну третьего мира, потому что уже тогда, когда он назвал такую не просто смехотворно малую, а унизительную цену, понял, что так он оценивает не макет, и даже не страну, а именно меня.
Нельзя сказать, что мы с Фоком не сошлись в цене. Это было бы примитивно, где-то в глубине души готов был подарить макет, с условием, что он будет выставлен где-нибудь в европейском музее, на людном месте, и что сохранится мое авторство, хотя, конечно, мне очень нужны были деньги и на ремонт родительской квартиры, и на поездку к своим далеким родственникам в Россию, но Фок был беспристрастен и хладнокровен, его, в принципе, не интересовали нужды и заботы художника, об этом, кстати, не было особенного разговора, я лишь случайно об этом обмолвился. И потом, если бы это было так, то он бы никогда не стал богатым. Его интересовало одно - где можно купить что-нибудь ценное фактически за бесплатно, чтобы потом втридорога это ценное перепродать. Это был его бизнес. Поэтому, несмотря на то, что он воспринимал Россию, как страну третьего мира, всем и всегда, и даже в Германии, он говорил, что очень ее любит. Но его любовь была и остается исключительно потребительской.
После того, как группа во главе с Рыкиной ушла, почувствовал себя даже не разбитым, а раздавленным, словно по мне проехался каток. И потом ее ухмылки и усмешки, и постоянно повторяющаяся фраза: "а-а, не буду это переводить..", и позже звонок по телефону с извинениями о том, как и кто воспринимает Россию, все это было похоже на клоунаду, разыгранную со мной, в которой я был грустным клоуном, над которым, благодаря искуссному режиссеру, все смеялись. Я падал, а все смеялись, и в добавок словно на тыкву показывали на меня пальцем. Пожалел, что назвал Фоку свою цену - 50 тысяч евро, и что сказал, что мне нужны эти деньги на ремонт квартиры, где живет моя мать. Уходя, Рыкина на ухо меня переспросила: "и мне тоже ты хотел продать эту прелесть за полтишок?" Знаете, что обычно хочется сделать в этой ситуации, одернуться, вырваться, развернуться и уйти. Телефонный же звонок Рыкина сделала из ресторана, о чем она, конечно, сообщила, сидя за столом вместе с Фоком и ее хорошими друзьями, и мне подумалось, что она, рисуясь перед богатым немцем, который, конечно, ничего не понимает по-русски, просто напросто мстит мне за то, что когда-то я оказался более свободным в собственных суждениях, чем она сама - умная, хваткая, изворотливая. И, если бы я не зжег макет, то сегодня бы все-таки продал его за 500 долларов. Так мне нужны деньги. Как жаль, что этого не сделал.
Рыкина не могла знать, что испытывал я, растаптывая Кнайпхоф ногами, проснувшись уром следующего дня. Было, наверное, пять часов утра, когда, как зомби я открыл глаза, словно и не спал, а был отключен из сети. И вот меня включили. Засыпая ночью с мыслью о том, что меня воспринимают как городского сумашедшего, наподобие ненормального полуумка, который торгует открытками с видами старого Кенигсберга у стен Кафедрального Собора, проснулся с еще большим ощущением своей ничтожности. Открыл вдерь в спальню, и из моих глаз потекли слезы, потому что я уже знал, что уничтожу макет, но не знал, как это сделаю. Начал сгребать его в охапку, как цветы, обливаясь слезами, чувствуя запах картона, клея, гуаши. Вырывал здания с корнем, все сильнее, разрывая все на куски, словно разбрасывая цветы по полу. Упал на них и уснул, а когда проснулся, ужаснулся не от соделанного, а от того, что макет все еще занимает одну комнату, куда могу поселить свою мать, чтобы быть с ней рядом, и чтобы сдать родительскую квартиру в наем.
Сложил разорванные и разломанные макеты зданий(некоторые детали были выполнены из папье-маше и пластмасы) в большие сумки, и вынес все это в парк. Было холодное осеннее утро. Опорожнив сумки, на небольшом пустыре, где по выходным выгуливают собак, и вчерашние следы животных все еще чернели на влажной земле, уложил уничтоженный макет стопами, и поджег их. Огонь постоянно затухал от того, что воздух был очень влажным, разжигал сново и сново, оглядываясь по сторонам, боясь что кто-то заметит меня и подумает, что делаю что-то недозволенное. Увидев в одной из сумок глянцевый журнал с проектами частных домов, взял его, порвал на страницы, поджег их и бросил в уничтоженный макет Кнайпхофа, который вдруг вспыхнул ярким пламенем, и быстро превратился в большой яркий костер. Кнайпхоф, уложенный стопами, горел, унося с собой годы моей жизни, моих стремлений, моей искренней любви к городу, в котором я родился и прожил всю свою сознательную жизнь. Костер горел, языки пламени обжигали лицо, а в душе была такая срашная пустота, у которой не бывает слез ни горя ни радости.
9.
Письмо Аглафьи Порошиной выпало из сумки, в которой нес унитоженный макет Кнайпхофа, сжегать на пустырь, когда я вернулся домой. Эта сумка хранилась у моих родителей, я забрал ее после смерти отца. Письмо было спрятано им под картонку на днище, и когда кортонка приподнялась, оно выпало на пол. Взял письмо, не обращая внимания на свои грязные от копоти и земли руки, достал из конверта мятые, пожелтевшие от времени тетрадные листы, и стал чистать, едва разбирая почерк, так как чернила с годами выцвели, а в местах изгибов и вовсе стерлись.
"Дорогой наш солдат Красной Армии, Иван Лукьянович Кульманов!
Пишет к вам партийный секретарь нашей поселковой организации Коммунистической Партии Советского Союза Аглафья Порошина. Мы помним все ваши большие заслуги в том, как вы замечательно лечили наш скот от пагубных болезней. Чего стоит только вылечивание тридцати коров весной тридцать девятого года от неизветной лихорадки. И ко всему прочему сельчане благодарны вам за умение лечить и людей и от хвори и от пагубных пристрастей. Вот и Белкины вам низко кланиются за своего сынишку Иваночку, которого вы спасли от некого яшура. Нынче он готовится пойти на фронт бить сволочей-фашистов, как вы. Наши советские солдаты своей грудью защищают нашу многострадальную землю, своих детей, матерей... (в этом месте следующее слово было зачеркнуто, но время открыло это слово, так же как проявляется белый лист фотобумаги в растворе реагентов), жен.
Пишим вам это письмо не из нашего теплого здания сельсовета, а из землянки в лесу. Многие наши петрищевцы теперь ушли в партизаны. Я - Аглафья Порошина и Белкины отважились назвать свои имена в письме к вам, не побоясь фашистов, в руки которых может попасть это письмо. А вообще тут пятнадцать человек собралось, все хотят свое слово высказать.
Не все - в партизанщине. Мы не можем промолчать, что жена ваша и трое ваших детей живы и здоровы, но обслуживают они немецкую сволочь, которая живет у них в доме. Ваши детишки ни в чем не виноваты, они малы еще и неразумны. А жена ваша ходит за водой к дальнему колодцу, где вода чище, чтобы фрицев напоить, и корову каждый вечер доит и даже хлеб печет из муки. И все это для наших врагов, которые надругались над нашей землей, над нашими людьми, убив изуверски Анфису Крошкину и Зою Зорину, которые плюнули фашисту в лицо, деда Кобзыря. Нам известно, что жену вашу постоянно преследует один немецкий гад маленький, как крыса. Подталкивает ее всегда в спину, хватает за подол и хватает за груди. Эту сволочь мы давно хотим убить, но он очень изворотливый и словно в рубашке родился, так как его ни одна наша пуля пока не взяла. Но мы обязательно доберемся до этого гаденыша и убьем ирода.
К. (не называем ни имени ни фамилии по ясным причинам) даже видел как эта крыса в яболневым саду у вас обнимала вашу жену. Его ласковые слова, какими он называл ее, она не принимала и отталкивала гада. Знаем, что , если бы вы были сейчас дома, то убили бы фрица одним штыком. Пока вы и ваши фронтовые друзья бьете врага под Москвой, наших женщин поганят сволочи-фашисты, и Иваночка даже хочет сам пойти в село и руками задушить хотя бы двух немцев. Но его никто не пускает, потому что нашей стране нужны обученные солдаты, и весной мы отправим его в военное училище на артиллериста. Так было решено на нашем партийном собрании, которое мы провели в лесу, и доложили об этом в нашу областную организацию. Иваночка стал большим и крепким. Вы сражайтесь, а он придет вам на подмогу. Но старики опасаются, что он может не перенести зимы в лесу, хотя ему уже шестнадцать лет. Недавно мы схоронили патилетнего Сереженьку, у которого был сильный жар, но не было лекарств и он умер в землянке. Все говорят, были бы вы здесь, обязательно бы спасли мальчика от смерти.
А ваши детишки Машенька, Шурочка и двухлетний Лешенька - здоровы. Хотя и у них муки осталось мало, все эти ироды съели, еще яблочные пироги требуют, чтобы им пекли. И хоть ваша жена давала нам хлеб тайком, мы все-равно считаем ее такой же гадиной, как и старосту Кирьяна Малкина, который разговариват по-немецки и ходит все проверяет, и по его доносу расстреляли пятерых человек, и деда Кабзаря.
Завтра мы будем писать такое же письмо еще одному нашему солдату Красной армии, который честно сражается на фронте, защищая свою родную землю от фашистской чумы. Мы помним вас всех, дорогой наш солдат".
Дочитав до конца, я почувствовал, как пропахла костром моя одежда, словно это я был только что партизаном, а не Иваночка, снял ее и пошел мыться. Лежа в ванной, думал не о письме, оно почему-то мне показалось банальным, словно его уже несколько раз читал, я рассматривал свои руки, ноги, изучал волосы, ладони, вспоминал как выгляжу. Мои сомненья относительно моего родства рассеялись, но под сердцем щемило: перед моими глазами все еще горело зарево костра, в котором превращались в пепел город моей мечты и годы моей прежней жизни.
Глава VI.
Когда мы бежали из пылающего города,
на первой сельской дороге, я, обернувшись,
сказал: " Пусть след наш позарастает травою,
пусть в огне умолкнут вопящие пророки,
пусть расскажут герои мёртвым о том, что здесь случилось.
Неожиданно, но мы должны породить новое племя,
свободное от зла и счастья, которое там дремало.
Идём". А меч огня открывал нам землю.
( Чеслав Милош. Бегство)
1.
В середине декабря 1944 года в Кенигсберге, где все еще можно было встретить неприятный запах гари, оставшийся от августовской бомбежки, его не смогли приглушить даже долгие осенние дожди, выпал снег, и воздух вдруг стал чище. От этого самочувствие горожан значительно улучшилось.
Так бывает, кажется, что зима вроде бы где-то задержалась, а, может, и вовсе решила перенести свой визит на будущий год, как вдруг в вечерних сумерках появились хлопья настоящего зимнего снега - пушистого, легкого, крупного. В одно мгновенье он укрыл город, лежавший в руинах, мягким белым покрывалом. Люди радовались выпавшему снегу, как дети. На какое-то мгновение показалось, что с этим выпавшим снегом, уйдут в прошлое беды и горести, что природа сжалится над людьми, подарив им такой густой снегопад, закрывший собой не только полуразрушенные здания, разбитые дороги, - все, все, все. Словно мир превратился в одну большую пелену из снега, падающего на город, застилая глаза пешеходам, пугая бродячих собак, перебегающих испуганно из одного подвала в другой.
В тех местах, где город уцелел от бомбежек, было как будто волшебно, наверное, потому что работали магазины, и в вечерних сумерках светились их витрины, а снег рядом с ними искрился, как в сказке. Но на душе не было очень уж спокойно от этого снежного волшебства, потому что никто не мог сказать, что ждет впереди тех, кто остался, кто, работая допоздна, продолжал восстанавливать городское хозяйство. Сейчас, когда Кнайпхоф лежал в руинах, уже никто не винил Гитлера в этой страшной трагедии, унесшей тысячи жизней, а все винили себя, так как только теперь начало приходить прозрение, и вместе с ним понимание того, что натворило время и люди, пришедшие к власти, со своими вселенскими обещаниями, по велению которых Кенигсберг денно и нощно превращали в неприступную крепость, но которая оказалась так быстро уничтожена, еще до прихода сюда советской армии. Нет другого конца у войны кроме разрухи, голода, нищеты и смерти.
Всю осень в Преголи вытаскивали трупы погибших при бомбежках, каждый день проводились похороны, останавливая работы по расчистке завалов. Горожане смогли расчистить лишь небольшую часть старого города, освободив дороги для движения транспорта и людей. Отчаянных, стремящихся работать даже ночью, останавливали, шепча на ухо о новых налетах, и о том, что важны лишь данные об умерших и эвакуация из руин ценностей. Но останавливало и то, что в октябре советские войска уже перешли восточную границу Германии, взяв Гумбинен, расположенный всего в ста километрах от Кенигсберга, в котором, несмотря на бытовые трудности, не было мародерства. Никто не бежал в завалы, чтобы набить себе сундуки, а затем тайком отправить их в западные земли. Но было бы пол беды, займись горожане этим, настоящей бедой кенигсбержцев стала слепая вера в неприступность города, укрепленного казалось по последнему слову военной науки. Так работала машина пропаганды, убеждавшая, что Кенигсберг надежно защищен. Пережили ковровую бомбежку в августе, переживем и следующую, если таковая будет, - говорили многие. Никто не собирался уезжать, по крайне мере, навсегда.
Удивительный оптимизм демонстрировали бургомистр Фегеле и его жена. Еще летом они обратились к Мии Брахерт с просьбой отвезти на юг Германии их пятерых детей, младшему из которых был всего один год от роду. Даже после бомбежки Кенигсберга, все последующее время, вплоть до самой зимы, они говорили одно и то же.
"Что вы, город никогда не захватят, я в этом просто убеждена, вы можете ехать, конечно, но мы останемся, и будем ждать здесь окончания войны, - говорила госпожа Фегеле, и шепотом добавляла. - Потом русские не будут здесь задерживаться, а может, и вовсе пройдут мимо, им нужен Берлин. Это же ясно, как божий день.… Посмотрите, какой снег выпал, как здорово, что мы все еще здесь, что никуда не уехали".
Мия не разделяла этого оптимизма. К чему может привести эта наивная слепота у края бездны? Все почему-то думают, что именно их никто никогда не убьет, они ведь в своей жизни никого не убивали, и более того, они сумели стать такими богатыми, что до сих пор, даже, когда город лежит в руинах, они все еще живут в своих огромных домах в центре, и в них все еще тепло и есть солидные съестные запасы, и даже прислуга все еще моет полы и готовит обед. Как только восстановили движение трамваев, еще больше горожан стали думать так же: смерть их никогда не возьмет, потому что они молоды и умирать им рано.
Но все же небольшая вереница гужевого и автомобильного транспорта с беженцами, начиная с октября, двигалась в сторону Польши, и каждый день она становилась все больше, а к началу нового года превратилась в нескончаемый поток. Некоторые кенигсбержцы, их было не много, отваживались плыть в Германию морем из Пиллау на судах, несмотря на то, что советские и английские подводные лодки часто топили немецкие корабли, и об этом было всем хорошо известно. Но, кроме того, власти требовали от горожан оставаться в городе, чтобы защищать его от врага. Эти требования иногда были угрожающими.
Осенью Мия твердо решила уезжать из Восточной Пруссии, и все ее приготовления по этому поводу к декабрю были закончены. Дом в Георгенсвальде она передала своей доброй знакомой Лизе Будзински, транспортировала часть багажа через работавшие еще фирмы по пересылке. Вместе с Ранит и ее дочерью Зюзанхен она переехала в Кенигсберг к свой знакомой Агнетте*, с ней она часто вспоминала Ли, которая теперь уже была в Чикаго и поговаривают открыла там свое фотоателье.
Поздней осенью и даже в декабре все еще можно было видеть, как две хорошие подруги Мия и Агнетта ведут за руку Зюзанхен, словно и нет никакой войны. Глядя на груды развалин, все сожалеют и о погибших, но еще и о том, что дом на улице Канта, где долгое время, еще до войны, размещалось фотоателье Мии, теперь разрушен и нет не только его очертаний, но и даже какой-то груды мусора или кирпичей, просто - ровная поверхность земли: так аккуратно разобрали горожане завалы в этом месте, хотя еще повсюду было много зданий, в которых не плохо сохранились первые этажи и подвалы, а кое-где были даже вполне приличные дома, куда можно было зайти и посмотреть изнутри на выбитые окна, разломанные двери. В таких домах даже хорошо сохранилась мебель. Жильцы оставили эти здания, не только из-за опасности их обрушения, но, прежде всего, потому что в них было холодно. Закрыв свою квартиру, многие надеялись, что никто ничего не тронет и все, и даже утварь, сохранятся в первозданном виде. Конечно, это было ошибочное представление о городе, где три столетия назад уже изжили нищету, потому что в военное время города живут по своим законам, отличающимся от тех, которые установлены до войн. Кто-то топил буржуйки раритетной мебелью, но она быстро сгорала, оставляя лишь холод в душе, и не давая никакой надежды на светлое будущее.
Пустели не только многоэтажные дома, все чаще по вечерам не горел свет в особняках, где также все двери были закрыты или даже забиты, в надежде, что это поможет сохранить имущество. Люди переезжали в сельскую местность, опасаясь новых налетов, поближе к местам эвакуации, обстраиваясь даже в сараях хуторов, и с тревогой прислушиваясь к фронтовым сводкам, которые не могли умолчать о сокрушительном успехе советских войск, выдаваемом пропагандой за временное отступление немецкой армии.
Мия, Агнетта и Ранит купили на главном железнодорожном вокзале билеты в Германию, отстояв длинную очередь. К счастью, были билеты и до Берлина и до Констанцы, куда Мия хотела добраться, надяясь на помощь живущих там родственников. Билеты до Констанцы стоили чуть дороже, но Мия купила их, не предполагая, что в день отъезда Зюзанхен вдруг заболеет, у нее резко поднимется температура.
В день отъезда девочка лежала в постели, а Ранит клала ей на лобик влажное полотенце.
"Милая, ты должна ехать. Как только Зюзанхен станет лучше, мы отправим ее сами, - говорила Агнетта. - Через неделю она уже будет на ногах, и я помогу ей и Ранит уехать в Берлин. В таком состоянии она может не перенести дороги, могут быть любые осложнения... Ведь мы же едим позже, заберем ее с собой. А ты езжай. Тебя ждет Герман".
"Нет, - возразила Мия, - не может быть никаких разговоров, я никуда не поеду. Это не обсуждается".
Три дня женщины выхаживали Зюзанхен, дежуря у ее постели, поили ее микстурой из ложечки, выжимали в чай дольки лимона. Еще через три дня Мия вторично отправилась на вокзал и купила(на последние деньги) билеты до Франкфурта-на-Одере. До Берлина поезда уже не ходили, ввиду того, что советские войска вели бои в Помирании, постепенно выводя из строя транспортные коммуникации противника. Но и Франкфурт устраивал, потому что здесь можно было пересесть на поезд до Штутгарта. Предложения плыть в Германию кораблем, Мия напрочь отвергала.
Сутки ожидания поезда оказались для нее не просто волнительными, а драматичными. Она ждала завтрашнего вечера с испугом. Накануне ей приснилась ее дочь Траут, погибшая во время бомбежки союзническими войсками германского города Крефельда. Во сне они ходили по черной жижи разрушенного парка, в больших резиновых сапогах, и вдруг Мия заметила, что на Траут нет обуви. Она месит грязь своими тонкими ножками, обтянутыми хлопчатыми колготками...Проснувшись, Мия не могла вспомнить концовку сна, но говорила, что она чувствует, что ее и Ранит ждут неприятности. Агнетта слушала сон подруги и успокаивала ее, говорила, что это только сон, а, когда Зюзанхен вошла в кухню, Ранит обняла дочь и разревелась.
После обеда, когда до поезда оставалось еще три часа, Зюзанхен попросилась на улицу. Мия, не понимая своих жестов, вдруг встала на проходе, и крикнула, что никуда ее не пустит, но, обмякнув, села на диван, уловив удивленный взгляд Агнетты, понимая как нелепо ее поведение. Одевая девочку на улицу, Ранит просила, чтобы та была аккуратной и внимательной.
Недельное нахождение в домашних условиях из-за простудного заболевания было настоящим заключением для Зюзанхен, и, выйдя на улицу, где детвора, не обращая внимания на руины, резвилась на снежной горке, бросаясь друг в друга снежками, почувствовала легкость. Кто-то крикнул, что в соседнем дворе горка лучше, детвора гурьбой помчалась туда, Зюзанхен оставшись одна, решила обойти двор, и вдруг заметила, что дома на углу, который еще неделю назад маячил своим оставшимся после бомбежки гнилыми зубами фасада, уже нет. Горожане разобрали его, расчистив территорию для игровой площадки. Зюзанхен было грустно, потому что город все больше начинал напоминать пустырь, и потому что она была вынуждена в одиночестве брести по полупустой улицы. Все казалось девочке неузнаваемым. Так часто бывает после болезни, когда человек выходит на улицу, и ему все кажется не то чтобы другим, но не таким как еще несколько дней назад - каким-то чужим, застывшим. Идя по улице, в одном из подвальных окон, Зюзанхен заметила куклу. Девочка подошла поближе, поняла, что в этом подвале никого нет. Куклу бросила хозяйка, и детское сердечко екнуло от обиды на какую-то чужую девочку, которая посмела так поступить. Зюзанхен обошла полуразрушенный дом, спустилась в подвал, пытаясь различить в темноте проходы, но, как только она сделала несколько шагов, за спиной послышался грохот. Обрушилось перекрытие, закрыв Зюзанхен выход наружу. Девочка оказалась в западне. Впереди была глухая стена, за спиной - груда камней и досок. Какое счастье, что ее не придавило, а то мама бы ее обязательно отругала. Зюзанхен села на цементный пол, и стала дожидаться, когда за ней придут - ведь не может такого быть, что девочку одну оставят в каком-то темном подвале, тем более в такой важный день, когда они с мамой уезжают. Темнота и слабость детского организма, едва-едва перенесшего болезнь, сделали свое пагубное дело - в холоде и сырости Зюзанхен уснула.
Ранит сидела в кресле и штопала прохудившиеся чулки. Она думала, что делает это искусно, и шептала, что война научила ее спокойнее относиться к материальным трудностям, но вдруг она вскочила, уколов палец, и сердце ее стало учащенно биться.
"Зюзанхен, где она? - Выбежав в кухню, крикнула Ранит. - Сколько времени?"
"Ранит, ну, что ты, успокойся, - сказала Агнетта. Она выглянула в форточку и позвала девочку. - Ну, не переживай, еще есть время. Через час будем собираться. Я пойду поищу Зюзанхен, она, наверное, в соседнем дворе".
Когда Агнетта вернулась, вся взъерошенная, запыхавшаяся, в расстегнутом пальто, Ранит не могла сконцентрировать взгляд, пытаясь понять что это все значит, и, услышав, что Зюзанхен нигде нет, рухнула на стул. Ах, какой-то мальчишка видел, как девочка шла вроде бы в направлении парка. Еще кто-то сказал, что она пошла с Эльзой к ней домой. Ранит и Мия побежали туда. Вернувшись, женщины едва стояли на ногах, - так они были сломлены.
"Возьмите себя в руки, - уверенным голосом говорила Агнетта, - с девочкой ничего не может случиться. Она зашла к какой-то своей подруге и там заигралась".
"Заигралась? Я ей заиграюсь, у нас - поезд, нам надо выходить. Я всегда ее за это ругала. Почему она у меня такая рассеянная? - Ранит ходила по комнатам в верхней обуви и постоянно извинялась за то, что сейчас натопчет здесь. - Ну, что мне делать? Ну, ведь все - опять никуда не поедим".
"Она может быть у Хох. Там всегда много детворы. Я должна сходить туда. Она там. Конечно, там. - Агнетта быстро набросила пальто. - Собирайтесь, берем чемоданы и к Хох. Она - там".
Хох жили рядом с Главным вокзалом. Из окон их большой квартиры была видна привокзальная площадь, трамвайное кольцо и здание вокзала из красного кирпича.
Как всегда у Хох все перепутали, потому что там, действительно, было много детей. Сказали, что Зюзанхен пошла на вокзал кого-то провожать или встречать, так как за ней зашел старший брат. Пропустив мимо ушей сведения о неком старшем брате, Ранит, Мия и Агнетта из последних сил бросились к выходу.
"Неужели это была Мия Брахерт? - Спросила госпожа Хох прислугу, - господи, как же люди стареют во время войны. - Хох стала пристально разглядывать себя в огромное зеркало , висевшее в прихожей. - Это потому что она очень похудела. А кого она искала? Зюзанхен? Кто это?"
Мия и Ранит бегали по перрону, выискивая потерявшуюся Зюзанхен, сталкивалась с полицейскими и военными, ходила по вагонам, хватая за руки незнакомых девочек. Агнетта делала тоже самое в другом конце поезда. Но они были на ложном пути, так как Зюзанхен, испугавшись темноты, заснула под завалами, и ее, конечно, на вокзале не было. Ранит и Мия поняли это, когда поезд тронулся, и они, бросив чемоданы, попытались выйти из вагона, но большая группа беженцев с Эйдкунена с баулами и сумками не дали ей этого сделать. Агнетта кричала Мии в открытое окно, что она найдет девочку и в ближайшее же время отправит с Кэт(ее ученицей) в Штутгарт. В суматохе, в пугающих выхлопах паровоза, набирающего скорость, Агнетта уже не различала крики Ранит - ее просьбу остановить поезд.
Утром Зюзанхен нашел учитель физики Януш Полински. Он проходил мимо дома, где зажатая завалами, как в тесках, плакала и звала на помощь, окоченевшая от холода, Зюзанхен. Януш привел полицейских и те быстро, орудуя кирками, проделали проход и достали девочку.
Агнетта бежала в полицейский участок, задыхаясь от ветра. Ей только что сообщили, что Зюзанхен нашлась и что с ней все в порядке, и что ее отпаивают горячим чаем. Подруга Мии вошла в комнату ожидания, где сидела девочка, заключила ее в свои объятья, и, укутывая ее в легкое одеяло, сказала, что теперь все будет хорошо.
Если бы не этот грустный эпизод, не известно уехала бы вообще из Кенигсберга Мия, еще летом давшая обещание господину бургомистру, что она вывезет его пятерых детей в Германию. С одной стороны она не понимала бургомистра и его жену, оттягивающих время отъезда детей, держа их при себе в то время, когда Тильзит и Инстербург уже были захвачены советскими войсками. Несмотря на действующий запрет покидать Восточную Пруссию, Фегеле спокойно могли получить разрешение на выезд. Но с другой стороны, боль потери ее Траут, которая еще летом уехала в Германию, но, увы, не нашла и там спокойствия, во время налета авиации в Крефельде она погибла от разорвавшейся в нескольких метрах от нее авиабомбы, обрекала Мию на гнетущее чувство вины. Фегеле не уезжали, надеясь, что советские войска не одолеют частокол заграждений Кенигсберга, и не случайно отъезд Мии возмутил их.
"Русская госпожа нимфа бежит от своих холопов, как волчица от взбесившихся детенышей, - Фегеле был не просто зол, узнав, что Брахерт уехала, теперь он пылал к ней ненавистью арийца. Он с особым пафосом, пропитанным духом ложного патриотизма, смотрел на своих детей, поглаживая их по голове, и говорил, что каждый получает то, что заслуживает. - Их Траут погибла, потому что ее знаменитый отец прятался по подвалам и каменоломням, боясь оказаться на фронте. Мы здесь - рядом с фронтом, защищаем свой город, каждый, кто как может".
2.
Имея определенный интерес к жизни кенигсбержцев военных лет, долго работая над макетом Кнайпхофа, изучая историю Кенигсберга, его архитектуру, читая письма и дневниковые записи Брахертов, постоянно задавал себе вопрос - как далеко меня может это завести. Особенно важно было получить ответит сейчас, после смерти отца, потому что я стал чувствовать себя по-другому. Более цельно, более естественно, не претендуя на право жизни в Кенигсберге, как это было раньше, а, просто живя в нем. Нет, конечно, не смогу выучить немецкий язык, потому что не смогу найти применения этим знаниям на практике. Но познать немецкую литературу, историю, культуру мне показалось важным. Эта мысль пришла в голову, когда, сидя в Интернете, искал "Траекторию краба" Гюнтера Грасса, заодно почерпнул там биографию Грасса и Вильгельма Густлова, интервью с дочерью Александра Маринеско Леонорой. Это была одна из самых ценных находок, потому что передо мной открылся герой Александр Маринеско сравнимый, наверное, с Ахиллесом времен Троянской войны. Как играючи он воевал в своем подводном мире, где кроме тьмы, может показаться нет ровным счетом ничего. Но там, где есть человек, - есть много света.
Гюнтер Грасс однажды принял участие в открытие памятного камня Томасу Ману в Раушене. Было это несколько лет назад. Приезд человека такой величины вызвал волну интереса самых разных людей. Видел по телевизору, как какой-то журналист нахраписто втирал мозги писателю, обвиняя его чуть ли не в военных преступлениях. Прошло, наверное, лет семь-восемь. Грасс заинтересовал меня только сейчас, когда в моей жизни случились серьезные изменения, как материального, так и внутреннего характера.
Был вынужден искать "Траекторию краба", потому что знал, что дети Фегеле погибли на лайнере "Вильгельм Густлов". Нашел и прочел, получив представление о том, что происходило в те дни в Данцигской бухте, но не получив ответы на свои вопросы, и поэтому мне нужно было заново восстановить картину гибели лайнера, на борту которого, как пишет Грасс, находилось почти 10 тысяч человек.
Но вместе с этим, случайно мне попалась одна газета с литературной страницей, на которой размещалась поэма "Атака века" некого поэта Оплевухина. За громким названием не было ничего кроме перечисления действий совестких подводников(в представлении самого автора), умело пустивших на дно "Вильгельм Густлов". Поэма была написана в духе Твардовского, с теми же игривыми оборотами, одно смущало - речь шла об уничтожении мирного населения, а не о веселом солдате Теркине. Однако, Оплевухин представил картину как атаку на корабль, забитый до отказа экипажами немецких подводников, о гражданском населении не было сказано ни одного слова. Это была типичная ложь, ставшая основанием для всей, так называемой, поэмы. У Оплевухина на борт лайнера "тек поток подводников", и звучало это в его поэме так: "...и вот на борт по трапам узким, поток подводников потек, команда "Густлова" кончала, смывать с надстроек камуфляж, а чрево судна поглошало за экипажем экипаж", ну, и так далее. Итогом Оплевухинской поэмы стали данные об успешном уничтожении фашистов и финальные слова: "мы подвиг этот чтим всем миром. Он в нашей памяти живет".
Когда дочитал эту безумную и лживую поэму, написанную, кстати, не сродни Твардовскому , - достаточно блекло и уныло, несмотря на невероятный сюжет атаки века, у меня было ощущение, что Великая Отечественная война закончилась вчера. Кроме того, многие образы поэмы вызывали у меня сомнения: "а даль пустынною была". Мне показалось это штамповкой. Нерифмующиеся " банка Штольпе" и "в его простреленной утробе", примитивное "бесноватый фюрер" и безмятежный диалог Маринеско с замполитом, старпомом и штурманом, словно диалог не с людьми, а с должностями, резали ухо и вызывали чувство досады, литературные изъяны были отровенно видны. Ну, да, ладно. О поэтическом даровании Оплевухина много не скажешь. Может быть, отсюда и его лживая натура. Тем не менее, газета эта была не за 1945 год, а совершенно свежая, не отправленная еще в архивы. Вот это и возмущало и удивляло. Да, конечно, еще бы пол года назад даже бы не обратил внимание на эту белиберду, но смерть отца наложила на меня некую отвественность, и многое теперь воспринималось мною иначе. Я хотел видеть правду!
Румынские корни Маринеско питали его жизнь своенравием, особым южным темпераментом, он уходил в загул с головой, и уж, конечно, в тот роковой день 30 января 1945 года, когда в пучинах штормовой Балтики, был пущен на дно огромный лайнер "Вильгельм Густлов", думал о многом - как разобраться в своих чувствах к жене, помутненных новогодней ночью, которую он провел в небольшом финском городке Турку в обнимку с хозяйкой небольшого отеля. В разгар войны Ахиллес Маринеско кутил с женщинами, наплевав на военно-политическую мораль, на принятые стандарты советской пропаганды. Он, понимая, что завтра может быть убит или заживо погребен на дне моря, хотел насладиться каждой минутой жизни. Ему было все равно кто и что о нем скажет. Сладость женского тела манила, и заменить это Маринеско могла разве что водка. Он чередовал их по мере возможностей. Пил и гулял и раньше, и уже тем более в новогоднюю ночь, а, когда утром 1 января 1945 года командира подводной лодки С-13 не оказалось на боевом посту, его начали разыскивать люди из НКВД, и потом дали знать, что он проштрафился, и ему может грозить военный трибунал. Ахиллес Маринеско прямым путем шел к тому, что его вызовут на ковер начальника для того, чтобы оттуда отправить в карцер. Вот всего этого не было в поэме Оплевухина.
Тормозной путь был долгим, и закончился он грустно. Ахиллес Второй Мировой войны умер от рака горла практически сразу после того, как ему вернули его воинское звание, отнятое после окончания войны без учета его прежних военных заслуг. В мае 1945 года капитан 3 ранга Маринеско был разжалован до лейтенантских звездочек, а в сентябре выведен в отставку. В мирной жизни герой войны стал обычной деталью огромного механизма тоталитарного государства, которое, руководствуясь своими законами, перетащило эту деталь в тюремный лагерь. Обвиненного в краже шести брикетов для топки и разбитой кровати с металлической сеткой, его отправили в Сибирь, где Маринеско сильно подорвал и так свое не очень-то крепкое от разгульной жизни здоровье.
Но Ахиллес Маринеско поплатился еще и за те тысячи душ, которые благодаря его лихой, удалой доблестной стати советского подводника, проведшего свою легендарную атаку века практически безукоризненно, были отправлены на дно Балтийского моря, и многие тысячи этих душ были абсолютно безвинны.
Нет и не может быть оправдания слепому уничтожению людей, потому что, когда какой-то изверг издевается над человеком, отдавая отчет в своих действиях, никто не сомневается, что он заслуживает адекватного наказания, но тот, кто убивает ни в чем не повинных людей вслепую, опасен вдвойне, потому что нет видимой нити его преступления. Слышу возражения, мол, тогда была война, но и я могу возразить, что за каждую войну должен отвечать тот, кто ее разжег. И, что касается Великой Отечественной войны, то, например, один мой московский друг считает, что в разжигании ее виновен Сталин, и его доводы весьма убедительны. Но, и это даже не главное, а главное то, что 30 января 1945 года – это фактически концовка Великой Отечественной войны. Ну, по крайне мере ее финальная часть. Это время эшелонированного бегства немцев из своих восточных земель, в первую очередь из Восточной Пруссии. Речь идет о гражданском населении, а вовсе не о военных, потому что, даже те, кто был призывного возраста, уходили на фронт. Оставлять восточные земли мужскому населению было запрещено. Разве проштрафившийся подводник этого не знал? Знал. Более того, он был достаточно хорошо осведомлен в том, каким путем происходила эвакуацию людей и имущества, но, в силу своего интеллекта, герой действовал по наитию и в ущерб своей совести.
Теперь, что касается потомленного лайнера, даже мотивировка, что на "Вильгельме Густлове" были немецкие военные, не дает поблажек. Ну и что, что наш Маринеско ничего не знал о транспорте, который он топит, кроме, разве что его приличного водоизмещения, и той положительной реакции, которая поступит от его командования, и от НКВД. Рядом были небольшие военные корабли - стреляй по ним, но Маринеско нужен был итог, и он его получил, отправив на дно Балтики тысячи человеческих душ. Подобной катастрофы никогда не было в истории человечества. Ахиллес Маринеско удобно выждал момент, поднапрягся всей лодкой, зашел с берега и даже просемафорил на лайнер, успокоив смотрящих на лайнере: если семафорит, значит - свой. Как ребенок бьет по мячу, С-13 выпустила торпеды в сторону огромной посудины, и легко попала в цель, но потом на лодке увидели красные кресты на трубах "Вильгельма Густлова", и, ужаснувшись, подводники ушли восвояси. Играючи, Маринеско совершил преступление, которое было списано на войну, за которое никто никогда не понесет никакого наказания! Этой мысли не обнаружил у Грасса - выдающегося писателя, получившего столь высокую оценку своему труду во всем мире. Почему он, будучи личностью, имеющей все основания для подобных выводов, не называет героя Маринеско опасным человеком, который ни разу не усомнился в своих действиях? Ну, да, он не обязан, стиль написания его книги, суха, информативна, и в силу профессии главного героя, скупа на выводы. А мне нужны такие выводы. Война делает всех тех, кто воюет, заложниками собственных судеб. В этом ее трагизм.
Все приказы командира С-13 в момент атаки были продиктованы одним - результатом, который бы позволил избежать трибунала, а даже не местью за погибших друзей или за разоренную страну. У Ахиллеса Маринеско, как отмечает его дочь, не было настоящих друзей, а были лишь конкуренты в любовных вопросах. У него не было и Родины. Румынская кровь подталкивала его к пиршествам, наслаждениям прелестями жизни в дни войны. Но все же он - герой, который, конечно, достоин памяти народной, вопрос в другом - для чего стоит хранить о нем память? Это следует сделать в назидание потомкам: мы есть слепки того общества, в котором живем. Вот такие мысли меня одолевали, как человека пытливого и искреннего, каковым, наверное, является любой человек, не желающий никому зла. Многих в этой жизни недолюбливаю, но зла не желаю никому.
3.
Мадам Коплыжкина давно не беспокоила меня, но, когда после недавних дождей решил не обращаться в наш ЖЭК, в виду его атрофии, она все-таки позвонила, что меня несколько развеселило, потому что работница ЖЭКа сама рассказала по телефону мне о народной нелюбви к ЖЭКовским работникам. Волну негодования на этот раз вызвал бывший вокалист филармонии, а ныне уже человек преклонного возраста Геннадий Сикора.
"Он, знаете, нахал, - говорила Коплыжкина, четко произнося каждое слово, потому что все телефонные разговоры в ЖЭКах, по требованию властей, записываются на магнитную пленку, с тем, чтобы их можно было потом прослушать. Коплыжкина, рассказывая мне о Сикоре, знала, что ее запись будет прослушана, умышленно говорила медленно, чтобы каждое ее слово можно было хорошо разобрать. Таким образом она хотела вступиться за свою коллегу из другого ЖЭКа, которой грозило увольнение за бездеятельность в вопросе с Сикорой. - Он срезал батареи в кухне. Делал там, видите ли, очень, ну, очень дорогой ремонт. По оценкам, на 200 тысяч. Какой, извините, бедный человек этот Сикора. Хам. Грубит. Матом кроет наших сотрудников... У вас-то ничего не течет? - Мои ответы были, как всегда кратки. Сказал, что у меня в квартире, конечно, течет, а после дождей особенно, но вас это не должно волновать. - Ну, что вы! - Лицемерно произносила Коплыжкина. - Вы нам напишите что и как и мы обязательно отреагируем. Ведь и на обращение Сикоры тоже отреагировали. Моя хорошая знакомая ходила к нему домой. Говорю не понаслышке. У него везде картины висят, ковры по 30 тысяч, дорогущая кожаная мебель, люстры из хрусталя. А он еще прибедняется. Холодно, видите ли, ему. Ну, нахал, ведь! Моей знакомой нахамил. Ее матом послал, и потом телевидение вызвал. Сейчас ее хотят уволить. А они там и насос поставили, и вентиля поменяли, и прокачку два раза делали. Ну, как заколдованный у них этот дом. Нет тепла и все".
"А наш дом - тоже заколдованный? - Возмутился я. - Вы мне эту ересь не говорите. Сколько денег вы потратили на наш дом в этом году! А сколько заработали. И опять у вас тарифы поднимаются. Это вы обнаглели, а не Сикора. Сейчас везде, повсеместно холодно, потому что вы экономите на топливе, а плату с людей берете по полной программе".
"Ну, нет же.. этого я не знаю.. - Коплыжкина заикалась, думая, как ей продолжить разговор про богатую квартиру Сикоры. - Мы не живем в мраморе. А у этого певца, знаете, туалет из золота. Вот вы себе представляете - из чистого золота. Видите, как он свое дерьмо ценит".
"А что он должен ваше дерьмо ценить?" - Этой фразой закончил разговор с работником ЖЭКа, так как я положил трубку.
Не прошло и минуты, в дверь позвонили. Пришла соседка по дому. Раньше никогда не замечал эту невысокую не молодую уже женщину с колким, изворотливым взглядом. Когда вышел на порог, она, представившись тихим голосом, как Ниночка, словно боясь, что кто-то подслушает, начала:
"Мне сказали, что это вы выгнали этих бездельниц из своей квартиры. Ну, я про наш ЖЭК говорю. Ведь это вы ставили здесь домофон? Так, вот, у меня лично, я в этом вопросе являюсь первой, поэтому.. как бы лидер всего процесса, к вам предложение. - Ниночка постоянно поправляла свое цветастый платок, поблескивая глазами, как на званом ужине, предвкушая развитие событий вокруг застолья. - Мы создаем инициативную группу по организации товарищества собственников жилья. У новых русских это уже давно все есть, а мы вот только сейчас. Ну, ТэСэЖэ, сокращенно. Я буду председателем этого товарищества, а вы мне давайте помогайте. Ведь вы, это все говорят, толковый человек, не глупый, знаете где что сказать, куда что написать и как кого послать(а это тоже важно в наше время)".
Вечером пошел на так называемое собрание жильцов, которое должна была провести Ниночка, как будущий председатель ТэСэЖэ. На входе в ее подъезд никого не было. Покрутившись в темноте на сломанных ступеньках, вернулся домой, и, как только вошел в прихожую, раздался телефонный звонок.
"Ну, что же вы, мы все собрались у меня. Срочно приходите", - прошептала Ниночка, назвав номер своей квартиры. Пришел, и там, естественно, никого не было, кроме самой хозяйки, которая провела меня на кухню, налила холодного чая из какого-то сомнительного пакета.
"Раньше здесь был сок, - пояснила соседка, кокетничая, - в нем я свой чаек настаиваю. У него особый вкус. Не переживайте, пейте. Чем пахнет? Нет, наверное, содой. Нет, там соды никакой нет. Это такой чай".
Ниночкин чай пить отказался, и женщина изменила тактику общения, все чаще вставляя в мой адрес колкие слова.
"Записалась на финтес, знаете, сейчас модно. - Начала Ниночка, бегая из кухни в комнату. - Мне там и сказали: а почему тебе не создать у себя ТэСэЖэ. Вот у меня есть бумаги. Здесь все расписано, что надо делать. Вы, давайте, завтра поедим в управляющую компанию, они там нас зафиксируют, и будут помогать. Им потом за это деньги перечислят. Не нужно иметь высшего образования, чтобы все хорошенько посчитать. У нас в доме 209 квартир. Одна квартира - лифтерная. Есть и еще одна - не учтенная. Так что вот так вот, и ее-то главный инженер ЖЭКа сдает, и деньги за нее получает. Это я вам говорю, потому что знаю. Ежемесячные отчисления составляют 50 тысяч долларов. В год - 600 тысяч. Что они сделали за год? Ничего. А деньги куда ушли. Вот вам пристройка - магазин хозтоваров. Частный! На какие шиши? Вот на эти - наши. Зять главного инженера ЖЭКа построил. На нашей земле. У нас есть свой землеотвод. Мы им и будем распоряжаться, что и как строить. А нам что сделали? Ничего. А мы ведь можем, создать ТэСэЖэ, открыть штаты - получать приличную зарплату, по 1,5-2 тысячи долларов, и еще и дом содержать.
Я сама ремонт сделала в подъезде. Что мне все это стоило! Лампочки на всех этажах вкрутила. У нас сейчас светло, а в вашем, извините сарае, испачкаться можно. Ну, что вы чай мой не пьете! Брезгуете? Вы по профессии кто? Архитектор? А я почему-то думала, что прокурор. Не ерзайте вы на стуле. Читайте, что там в бумагах написано. Видите? Берите! Хватит вам листами шуршать! Пейте!
Вы же понимаете, что инициатором инициативной группы являюсь я, поэтому я и буду председателем общества. То есть сама буду нанимать людей. Ведь что главное в этом доме - поставить общий счетчик на воду, чтобы платить меньше за водоснабжение. Где он находится, я уже узнала, сама лазила в подвал, смотрела с Петровичем. Он будет у меня завхозом. Больше, наверное, штаты раздувать не стоит. Вот два человека. Че вы крутите эти бумаги? Дайте!".
Когда Ниночка вышла из кухни, перевел дыхание, рассматривая ее кухню, где весели какие-то веники, были разложены всякие примочки, припарки.
"Я готовлю обеды и развожу их по фирмам, - продолжила хозяйка квартиры, вбежав в кухню, словно у нее подгорала сковорода, - ну, имею, конечно, от этого. А как в наше время жить? На мою маленькую пенсию не разживешься. Вот укладываю картошку, салаты вот сюда в сумку и по фирмам. Иногда попадаются вполне приличные мужчины, как вы, очень импозантные, не высокие, коренастые, крепкие, ухватистые. Я вы знаете вдова, муж у меня умер, теперь сама кручусь, как могу".
Только сейчас понял, что Ниночке уже далеко за шестьдесят, хотя, с первых минут общения трудно определить ее возраст, потому что она молодится, красит волосы, одевается в яркое, носит цветастые платки, и говорит так, словно вчера окончила среднюю школу - быстро и немного взвизгивая. Но за плечами этой пронырливой женщины много запутанные историй, и вот одна из этих историй развивается при моем непосредственном участии, от чего всячески хотел откреститься. Ниночка в приказном тоне попросила меня явиться завтра в семь к ее подъезду, чтобы отправиться в управляющую компанию. Удивленный энергии этой женщины, хотел встать, чтобы пойти домой, как Ниночка сама подхватила меня под локти и вывела в общий коридор, где на площадке перед ее дверью стояла пара - мужчина и женщина, которых, оказывается хозяйка ждала больше других.
Утром я, конечно, проспал. В три минуты восьмого позвонила Ниночка и, крича в трубку, и обзывая меня недотепой, лежебокой, неповоротливым медведем, почему-то много ойкала, словно ее кто-то щипал.
"Если вы будете и дальше себя так вести, забудете, ой, о любом моем предложении, - женщина не просто говорила, чтобы досадить, она хамила из своих каких-то мелких тщедушных целей. - Вы должны, ой, были стоять в семь у подъезда".
"Слушайте, не надо хамить, - ответил я, - вы - кто, вообще? Вождь революции? Я еще в постели... И не надо мне больше звонить". Так закончилось наше общение. С тех пор прошло много времени. Ниночка так и не создала никакого ТэСэЖэ. Более того, за эти годы ее квартиру дважды обворовывали, и один раз там произошел пожар, сгорело практически все в кухне и прихожей. Теперь, возвращаясь домой, часто мысленно отсчитываю этаж Ниночки, смотрю на темные окна и думаю, какое счастье, что нас ничего не связывает.
4.
Господин бургомистр Фегеле так плохо отозвавшийся о Мии, когда узнал, что она покинула Кенигсберг, на самом деле был человеком порядочным и дисциплинированным. Такого мнения, по крайне мере, о нем была сама Мия. Для меня же, понятно, это была и остается всего лишь одна из персон времен военного Кенигсберга, и поэтому, говоря о нем, опираюсь полностью на оценку Мии Брахерт.
Как члену социал-демократической партии, а, значит, как стороннику существовавшего режима, ему приходилось исполнять волю высшей власти, и это, конечно, накладывало отпечаток на его образ мыслей. Никто не должен был покидать Восточной Пруссии под мечом смерти. Это была строжайшая установка, и каждый день Додо Фегеле приходилось отказывать людям, обращающимся к нему с просьбой выехать из Восточной Пруссии в Германию или Австрию. Совесть не позволяла этому человеку отправить своих детей в более безопасное место. Вечером, садясь за обеденный стол, за которым собиралась вся семья, он долго смотрел на столовые приборы, чувствуя пристальные взгляды своих отпрысков, ждущих что отцовская решимость пересилит партийную совесть, задавленного режимом человека, и он скажет, что завтра за ними заедет машина, которая отвезет их на вокзал. Больше всего этого ждала его жена, но понимая щекотливость ситуации, она чувствовала свое бессилие, и от этого часто болела. Когда после ночной бомбежки Кенигсберга в августе, она вышла из бомбоубежища на улицу и увидела страшную картину развалин и пожара, то в итоге она оказалась на больничной койне с болезнью сердца.
После авианалета на Кенигсберг, Мия могла бы уехать, потому что быстро нашла преемницу для своего дома в Георгиенсвальде, но ее держали, как обязательства данные Фегеле, так и сын Томас. По своему возрасту он не подходил, чтобы сражаться на фронтах Второй Мировой войны, кроме того, он учился в школе искусств, и никак не был связан с армией, но и его привлекали на потребу времени. Он ездил по городам, работая с пленными, но был обеспокоен лишь одним: как помочь своей матери покинуть Кенигсберг. Когда сложились благоприятные обстоятельства, он и сам выехал вглубь Германии, имя специальное разрешение, добытое огромным трудом Мией. Брахерты покинули Пруссию. Новый 1945 год они отмечали на юге. Сделав бы это до войны, они бы спасли жизнь Траут.
В январе жители Кенигсберга оказались полностью отрезанными от основных частей немецкой армии частями Третьего Белорусского фронта, которым командовал маршал Черняховский. Советское командование не стало с ходу брать город, боясь его крепкой обороны, занявшись ликвидацией немецких войск в Польше, и концентрируя силы в направлении города. Оказавшись на осадном положении, многие жители Кенигсберга стали испытывать тревогу, требуя от властей начать эвакуацию, и когда Первая пехотная дивизия немецких войск захватила в пригороде поселок Метгетен и соединилась с наступающими немецкими частями, сосредоточенными в Самландии, удалось наладить сообщение с Пиллау, открыв путь для беженцев севернее залива Фришгаф. Тысячи жителей Кенигсберга шли пешком, ехали на телегах и автомобилях, чтобы сесть в Пиллау на корабли и отправиться в Германию. Колонна беженцев растянулась на несколько километров. Превозмогая усталость и трескучие морозы, пришедшие с началом нового года, тысячи кенигсбержцев устремились к морю, где формировались транспорта для эвакуации мирных граждан.
В Метгетене немецкие военные обнаружили трупы убитых мирных граждан. Вступив на немецкую землю советский солдат мстил - за своих убитых родных и близких, за свою поруганную землю, сгоревшие дотла города и села, в какой-то степени, он превратился в кровожадного зверя, не знающего пощады. Кто мог вернуть мужу замученную в неволе жену, сыну сожженную мать, истерзанных сестер и расстрелянных младших братьев? Так было практически повсеместно.
Черняховский, сконцентрировав силы в Хайлигенбайльском котле дал временную передышку Кенигсбергу, а немецкое командование спешно стало эвакуировать людей из осажденного города. Среди тех, кто покидал Кенигсберг в январе были госпожа Фегеле и ее четверо детей, ее старший сын уже был в Германии. Фегеле на машинах добрались до Пиллау, где должны были сесть на военный корабль. Но на подъезде к городу, им сообщили, что в Данциге, в строжайшей секретности, к переходу Балтикой готовился лайнер "Вильгельм Густлов". Для немецкого народа это был корабль-мечта. Когда-то еще до войны он совершал круизы по Балтийскому и Северному морям, демонстрируя силу и мощь Третьего Рейха. Там, на корабле-легенде, для семей партийных функционеров были готовы апартаменты, и госпожа Фегле, узнав о таких удобствах, быстро согласилась на предложение пересесть в другую машину и отправиться в Данциг.
Когда семя Фегле ранним утром 30 января приехала в Гетенхафен, перед ней открылась довольно неприятная картина. Лайнер, выкрашенный выкрасили в серый цвет зимнего моря, чтобы он был не был белой вороной среди январской морской пелены, стоявший на причале со спущенными трапами, штурмовали тысячи беженцев, пришедших не только из Восточной Пруссии, но и близлежайших окрестностях. Почему-то все были уверены, что именно здесь они найдут спасение от январских морозов. Серой краской замалевали название, и в сводках он проходил, просто как некий объект "Равноправный". О нем так и говорили: "Равноправный" у причала Гетенхафена, это наша надежда на спасение. Но каждый понимал, что под этим названием скрывается громкое имя корабля. Серой краской замазали не только его, но большой Красный крест на трубе лайнера, появившийся там с тех времен, когда корабль служил военным госпиталем. Хотя, сейчас, когда наступление советских войск шло по всему фронту, в принципе, это уже было не важно, потому что, даже будучи гражданским лайнером с великолепной внутренней отделкой, множеством ресторанов, гостиных, банкетных залов, бассейном, "Вильгельм Густлов" был вражеским лайнером для наступающих войск Красной армии, и он был кораблем врага, будь на нем хоть пять Красных крестов.
Круизный лайнер сейчас мало чем напоминал тот корабль, который в конце 30-ых годов катал туристов к Норвежским фьордам. Теперь практически все внутренние помещения были либо перестроены, либо снесены для того, чтобы на борт корабля могло подняться как можно больше беженцев. Однако, каюта Гитлера, напоминавшая президентские апартаменты, оставалась в первозданном виде, и именно сюда поселили семью Фегеле и еще несколько семей высших гражданских чинов, имевших важные должности в партийной обойме.
Понятно, почему немцы решили использовать для эвакуации гражданское судно: оно было самое большое и самое удобное для этих целей, но еще и потому что в декабре 1944 и в начале января 1945 года советские и английские подводные лодки не проявляли заметной активности у берегов Польши и Германии. Появившаяся там 30 января 1945 года С-13 была скорее неожиданностью, чем закономерностью. В зимний период активность подводной борьбы в этом районе стихла. А за Шопельбанкой казалось можно и вовсе было спасть спокойно. Боевой поход С-13 стал смелой вылазкой Александра Маринеско, далеко вглубь фронта сухопутных войск, да и она в общем-то оказалась бы безрезультатной в штормовой Балтике, если бы не приказ, поступивший на лайнер, находящийся в море, включить бортовые огни. Когда огни зажглись, их сразу заметили на С-13 их, а потом увидели и корабли конвоя.
Когда дети Фегели поднималась по трапу на "Равноправный", в это время как раз проверяли бортовое освещение. Несколько ламп на корме не горело и их спешно меняли.
- Господи, я не верю, что нашим страхам приходит конец, - говорила госпожа Фегеле, державшая на руках годовалого ребенка. - Сколько же мы натерпелись! Теперь - мы практически в безопасности. Линия фронта осталась позади. Как там Додо? - Поднявшись на борт лайнера, Фегеле терла рукой грудь, так сильно у нее разболелось сердце. Ее дочь с испугом спрашивала что случилось. - Мне жаль Кенигсберг, - говорила женщина, - мы оставили его на произвол судьбы, теперь от него не останется ничего. Додо. Неужели я его никогда больше не увижу? Ему нужно было уезжать с нами. Зачем мы столько ждали?
На борту лайнера было несколько тысяч беженцев из Восточной Пруссии, и многие из низ - из Кенигсберга. Когда по трапу стали подниматься моряки-подводники, молодые с горящими глазами выпускники учебного подразделения, готовящего военнослужащих для подводного флота, беженцы вставали, вытягивались по струнке, чтобы поприветствовать их. На верхней палубе шло распределение по каютам, но подводников, выстроив на солнечной палубе, поприветствовал капитан Цан, и, когда были сделаны несколько фотографий, моряков провели на нижние палубы, никто не стал считать их количества. По спискам, поступившим на корабль, их было около 2 тысяч, но на самом деле, меньше - не более тысячи, потому что многих бросили на линию фронта, где шли ожесточенные бои, не беря во внимание их навыки подводников. Всего на лайнере к моменту его отплытия было уже почти 9 тысяч человек, хотя по всем нормативам он мог взять на борт в пять раз меньше. Нет, конечно, он бы не затонул с таким количеством людей, но на скорость это, без всякого сомнения повлияло.
В одной из кают этого лайнера плыли также Агнетта и Зюзанхен. Они выехали из Кенигсберга гораздо раньше семьи Фегеле, еще до того, как началось наступление советских войск, но каждый новый день они встречали, продвигаясь все выше на север, и в конце-концов оказались в Данциге. У них не было какой-то тревоги за свою жизнь, хотя фронт был все ближе, и утром в день отплытия они уже могли слышать гул доносящихся взрывов снарядов. Но они ходили по улочкам старого города, и даже рассматривали янтарные безделушки в небольших лавках, без опасения за свою жизнь. Зюзанхен говорила, что похожий янтарный браслет она видела в Раушене летом, когда они вместе с ее мамой гуляли по променаду. Девочка, примеряя янтарные украшения, думала о том, что скоро увидит маму, а Агнетта вспоминала Фридрихсхафен, где жила ее дальняя родственница по отцовской линии. В руках у них были теплые кусочки янтаря с четкими очертаниями искусно сделанных украшений, а в мыслях - смутные представления о своем будущем, страх перед большим количеством народа, ожидающего отплытия в приморском порту Гетенхафен, и переживания, что их могут не пустить на переполненный людьми лайнер.
-Ты боишься, что мы не успеем на корабль? - Спрашивала Агнетта девочку. - У военных все четко, если они сказали, что корабль поплывет вечером, то так оно и будет. Мне хочется немножко погулять по городу. Он такой же красивый, таки же был Кенигсберг. - Агнетта заглянула в сумку и еще раз перечислила то, что в ней находится. - Хлеб, молоко, баночка варенья, две банки свиной тушенки и плитка шоколада. Мы купили все, что нам надо в дорогу... Хотя нам обещали питание по талонам, - Агнетта засунула в карман пальто руку, достав оттуда несколько медных монет, протянула их продавцу. - Дайте этот янтарный браслет.
Купив, она протянула его Зюзанхен, и девочка, обняв Агнетту, тихо произнесла слова благодарности, а потом, спрятав руку за спину женщины, чтобы незаметно надеть янтарное украшение, с нескрываемым восторгом вытянула ее вперед, и, любуясь тонкой ниточкой янтаря, поцеловала в щеку Агнетту.
- Какая красота, - заметил с грустью лавочник.
5.
Долго думал, как и что могло быть на "Вильгельме Густлове" в ту злосчастную ночь 30 января 1945 года, когда Ахиллес Маринеско пустил на дно Балтики тысячи безвинных душ. Могла ли там произойти любовная история. Наверное, могла, но для меня она была не главной, и поэтому осталась без моего внимания. Мысли о преступных мотивах торпедной атаки советского подводника плавно переросли в мои представления о потенциальной реакции пропагандистов атаки века, как назвали в современной историографии Великой Отечественной подвиг А. Маринеско, на мою жесткую позицию в этом вопросе, на фактическую ревизию действий подводников С-13 30 января 1945 года на фронте Второй Мировой войны. О! Это многим сегодня не понравится. Но все же истина дороже.
Воссоздавая картину этой самой масштабной морской катастрофы в истории всех времен и народов, хорошо видел, как на капитанском мостике лайнера находятся четыре капитана. Даже, на какое-то мгновение, мне стало ясно, почему первый капитан "Густлова" гражданский человек господин Фридрих Петерсен, был так сильно ущимлен коллегами в тот момент, когда он беспокоился по поводу работы двигателей, требуя, идти со скоростью 12 узлов. Его никто не поддерживал. Петерсен говорил, что лайнер долго стоял у стенки, и не было уверенности в машинах. К пожилому человеку не особенно-то и прислушивались. Так иногда бывает, когда у людей есть предчувствие серьезной опасности, когда появляется молодой лидер, стремящийся завоевать положение не ценой своего профессионализма, а ценой низвержения мнения конкурента. По решению второго капитана, отвечавшего за людей и лайнер со стороны военно-морского флота, господина Цана, "Густлов" набрал максимальные 15 узлов. Специалисты утверждают, что это был правильный ход, так как обеспечивал некоторую гарантию от подводных лодок. Но лайнер все равно был торпедирован ПЛ. Мне же кажется, что, не столкнись лбами в этом вопросе, капитаны могли бы быть более успешными, и ситуация могла бы развиваться иначе. Цан - представитель не просто военных, а военных, которые фактически проигрывают войну. Здравый рассудок не может это игнорировать, и более того, проигрывают не только войну, но свою Германию, уже идет эвакуация из Восточной Пруссии, и все это понимают, но Цан - главный и его приказы не обсуждаются, он тоже понимает ситуацию и свое истинное, главенствующее положение. Поэтому второе требование Петерсена включить бортовые огни, которые вызывает сначала бурю негодования Цана, сменяются на: делайте что хотите; и Петерсен выполняет требование радиограммы, уверенный, что опасность с проходом Штопельбанки уже позади.
Маринеско заметил немецкий конвой, когда на "Густлове" включили бортовые огни. Он как коршун бросился на добычу, в то время, когда на капитанском мостике лайнера попросту шла перебранка капитанов. Кстати, бортовые огни то включали, то выключали, и Маринеско, иногда терял из виду свою жертву. Три капитана в военной форме Цан, Кеолер и Веллер притихли после бурной речи Петерсена о том, что военные проиграли войну и что именно их вина в том, что на лайнере тысячи беженцев, потерявших свой кров, родных и близких. Он говорил так: "если бы знал фюрер, как выполняются его приказы, то он расстреливал таких, еще до отправки на фронт". Но Цан с опытом военного, волевой, сильный, идет на уступку Петерсену лишь потому, что не достаточно хорошо знает лайнер, на борту которого слишком много людей, и случись что, командующий адмирал Дейниц спросит с него с первого. Цан не только волевой, а, может быть даже жестокий человек. Гюнтер Грасс пишет о том, что рядом с ним постоянно находится овчарка - лучший, преданный друг, способный выполнить любую волю хозяина, даже загрызть насмерть неугодного. Цана нельзя идеализировать, это именно тот тип людей на фронтах Второй Мировой войны, по приказу которых уничтожали миллионы безвинных людей. И вот теперь такой капитан руководит эвакуацией на "Вильгельме Густлове".
Корабль на переходе в Киль. Смеркается. Черная зимняя Балтика - шторма, порывистые завывающие ветры, двадцатиградусный мороз превратили лайнер, как и все другие корабли, в огромные куски льда: дрейфующие айсберги посреди черной мглы. Молодые капитаны Коелер и Веллер еще так молоды, что их мнение, которое то на стороне Цана, то на стороне Петерсена, никто не воспринимает всерьез. Седовласый старик говорит о разрушенном Кенигсберге, который был одним из красивейших городов Европы.
"Почему фюрер не разрушил Ленинград? Потому что он понимал, что этот город - архитектурная ценность Европы, - говорит первый капитан, совладав со своими эмоциями, проглотив таблетку валидола и запив ее холодным чаем с молоком. Его седые волосы взлохмачены, он поправляет их тонкой расческой. - Почему англичане превратили в руины Кенигсберг, Кельберг, Лейпциг, Дрезден, Киль - куда мы идем всем миром? Разве они плохи в архитектуре и не имеют ценности? Нет. Потому что они убеждены, что советы приберут все это к рукам, как и многие десятки городов, которые попадутся им на пути. И потом они мстят за свои разрушенные города...Германия стала заложницей своей воинственности. Вы думаете, я сболтнул лишнего. Мне ничего уже не страшно. В моей жизни все уже рухнуло, остались лишь одни воспоминания".
Такие мысли переводят на сторону их автора молодых капитанов, и они поддерживают Петерсена, громко дублируя сведения о курсе лайнера, поданные вахтенной службой. Они не высказывают своего мнения относительно разоренных городов и гибели людей, но они сопереживающее думают об этом. Цан требует от Петерсена прекратить, как он выражается, антифюрерские высказывание, угрожая подать рапорт на человека, убеленного сединой. Петерсен замолкает, и корветтенкапитан Вильгельм Цан цинично отдает приказ о том, чтобы начали транслировать по громкоговорителям речь фюрера к своему народу, в котором тот напоминает, что ровно двенадцать лет назад, 30 января 1933 года, в этот поистине исторический день провидение вверило в его руки судьбу немецкого народа. Под эту пафосную речь лайнер, а вместе с ним и тысячи беженцев, и затонул.
Семья Фегеле, слушавшая речь вождя в большой уютной каюте, отделанной под орех, по соседству с апартаментами, некогда предназначавшимися для высших чинов, вместе с другими беженцами, пила чай из больших крепких стаканов, и госпожа Фегеле, переставляя на столике баночки с лекарствами, переспрашивала детей, хочет ли кто-то бутерброды с ливерной колбасой. Повезло ли им больше, чем подавляющему большинству беженцев из Восточной Пруссии, занявших места на нижних палубах, в залах для концертов и выступлений, в бассейне, кафель которого во время взрыва одной из торпед, выпущенных с С-13, превратившись в шрапнель, разорвет на кусочки девушек вспомогательного флота? Единицы, как пишет Грасс, останутся там, в пустой чаше бассейна, в живых, остальные будут превращены в месиво. Страшное зрелище - изуродованные и обезображенные лица красивых немецких девушек, испытавших на себе первыми на этом лайнере кошмар войны. Нет сомнения в том, что эти девушки бросились бы в бой за свою Германию, убивая и уничтожая врага, и их совесть была бы чиста, потому что ведомые ошибочными идеями собственного превосходства над всеми нациями, оказавшись бы на передовой, они безукоризненно исполняли свою роль юных ариек, слепо следовавших за обезумевшим вождем. Но сейчас здесь, на "Густлове", они безобидные, вызывающие к себе жалость, существа. Их распущенные волосы разбросаны по плечам, глаза закрыты, тонкие губы замерли в ожидании завтрашнего дня, у многих в руках зажаты пилотки. Они спят, прижавшись друг к другу, отдыхая от длительного перехода в Гетенхафен. Их тела, уснувшие в глубокой чаше бассейна, под тихое гудение машин, разорвет мозаичная шрапнель фронтона, и холодная соленая вода Балтики сотрет их алую кровь с белоснежного кафеля высоких колонн бассейна. Девушки будут уже мертвы, когда вторая торпеда взорвется где-то рядом с родильным отделением. Грохнет так, что лайнер от взрыва изогнется, как огромная змея, очнувшаяся под панцирем льда. Те, кто погибнут в первые секунды взрыва, окажутся вне мучительных вопросов о том, что происходит, вне страшного гула машин, паники, охватившей тысячи беженцев, ринувшихся из кают на выход, ведущий на солнечную палубу. Третья торпеда станет началом настоящей катастрофы, давки и нечеловеческого сумасшествия, потому что куда бы не побежал тот, кто кинулся, чтобы спастись, везде будет жестокая мысль о безысходности, которая всегда присутствует при страшном пожарище апокалипсиса.
Лайнер не просто пылал, и огонь, охвативший корабль, стремительно вырывался наружу, растапливая замерзшую верхнюю палубу, после того, как погасло электричество, он стал единственным источником света на те двадцать шесть минут, которые были отпущены кораблю, чтобы, накренившись на борт, затонуть в черной бездне моря. Огромный, величиной с десятиэтажный дом, набитый до отказа беженцами, военными - выпускниками курсов подводников, представительницами вспомогательного флота, "Вильгельм Густлов" уходил на дно, оставляя за собой широченную лунку в заиндевевшей Балтике, словно инопланетный корабль, скрывший свои ослепительные огни под мутной водой зимнего моря, пожар на лайнере еще несколько минут освещал черную бездну, откуда на поверхность медленного движения волн выныривали люди, превращаясь в одно мгновение в белые трупы, добавляя к безрадостной картине замерзших в холодной воде тысяч пытавшихся спастись, все больше и больше отчуждения и ужаса. Среди этих тысяч замерзших насмерть в ледяной Балтике людей, были и дети Фегеле, чьи мать и отец верой и правдой служили государству, уничтожившему их право на счастливую жизнь.
Какое счастье, что Агнетта и Зюзанхен не успели к отплытию корабля, покинувшего порт не вечером, как говорили военные, а в полдень, в тот самый момент, когда Агнетта подарила Зюзанхен янтарный браслет. Говорят, что янтарь приносит счастье.
6.
Мировой финансовый кризис внес свои коррективы в работу нашей конторы, которая должна была быть приватизирована и стать акционерным обществом, но процесс приватизации решили притормозить, ввиду того, что многие архитектурные бюро и конторы, из-за отсутствия заказов на какие-нибудь мало-мальски прибыльные проекты, разорялись, закрываясь одна за одной. Оказались замороженными крупные стройки, приостанавливались национальные программы, в сумки складывали эффектные прожекты.
Только за одну зиму на улице без работы оказалось около пяти тысяч человек, еще стольким же грозило увольнение весной, а к концу года безработных должно было стать двадцать тысяч. Вакансий на бирже труда становилось все меньше, многие шли на низкооплачиваемые должности, лишь бы прокормиться. Тем не менее, цены в супермаркетах остались достаточно высокими, вместе с этим продолжился рост тарифов на коммунальные услуги. На треть девальвировалась национальная валюта. Жизнь дорожала и обесценивалась. Многие, имеющие серьезные сбережения, паниковали. Но был ли это экономический кризис, или это были лишь последствия неких спекуляций с финансами, нефтью и фондами?
Несмотря на то, что приватизация нашего проектного института была приостановлена, сокращение штатов не минуло. Количество персонала должно было уменьшиться. Каждый из нас начал вспоминать былые заслуги. Генеральный вызвал меня вместе с Муриковым, чтобы письменно уведомить о возможном сокращении. При этом нам было недвусмысленно сказано, что один из нас будет уволен. Подписав бумаги, генеральный попросил меня задержаться, и, когда Муриков вышел, сказал, что меня он оставит на работе, ввиду того, что я числюсь на хорошем счету. Как выяснилось, многоэтажка по проекту Мурикова, сданная в прошлом году, и где он, кстати, купил квартиру, по всему фасаду дала огромную трещину. В некоторых квартирах в нее можно было просунуть зажигалку. Виной стала высотность и неправильное расположение объекта, возведенного на, так называемом, плавуне. Что такое плавуны мне хорошо известно, потому что знаю, что Кенигсберг, построенный в устье реки, имеет достаточно разнородный почвенный слой, здесь есть не только устойчивые каменистые образования, но и множество заболоченных территорий. Моя пылкая стать к городу, но и ее быстрое охлаждение выточили из меня не плохого специалиста в области архитектурной геологии.
Проявив скептический интерес к треснутому пополам дому Мурикова, выяснил, что люди, купившие там квартиры, выходили на пикет, требуя возврата вложенных денег, а теперь, учитывая мировой финансовый кризис, им грозило полное фиаско, даже посочувствовал жильцам дома. Но никому от этого сочувствия легче не стало. Генеральный, которому теперь предстояло разбираться в допущенных ошибках, был, как мне показалось, несколько подавлен. Тем не менее, он сообщил мне, что контора победила в каком-то архитектурном конкурсе малых форм за лучший проект по развитию инфраструктуры курортных городов. Награду должны были вручить мне: какой-то ценный подарок, как лучшему архитектору, разработавшему новую систему пешеходных зон и тротуаров.
Сидел в своем кабинете, примеряя, где лучше будет смотреться сертификат победителя, его обычно вручают за такие скромные заслуги, в этот момент зашел Муриков. На его лице была такое выражение, что мне показалось, что его опять кто-то облил дерьмом. Даже кинулся открывать окно.
- Мне теперь полный каюк, - начал Муриков, - эти, блин, придурки, требуют отдать под суд всю архитектурную группу. А нас-то всего было двое: я, и покойный Чимкаридзе. Ну, кто знал, что у него приступ случится. Сейчас за все придется отдуваться мне... Могут взыскать стоимость всей моей зарплаты за два года строительства. И квартиру я купил там тоже.
- Это ерунда. - Ответил, не зная почему пожалев Мурикова, к которому относился без особой симпатии даже не потому, что его когда-то обдали дерьмом, а потому что я - физиономист, и мне не нравилось его плоское лицо с низко опущенными веками(все-таки события в жизни людей накладывают на них отпечатки), его короткий опущенный вниз нос(нос у мужчины, по моему убеждению, должен быть мясистым и вздернутым, так как, мне кажется, что нос как бы предопределяет мужскую силу в любовных делах с противоположным полом). Во внешности Мурикова все было устремлено вниз. Это мне не нравилось. - Никто у тебя твою зарплату не отберет, даже, если ты копил ее два года. Можешь спокойно покупать машину или плазменный телевизор. Тебя могут отстранить от твоих профессиональных занятий и все. Расходы, связанные с возмещением ущерба владельцам квартир, должны понести те, кто их продавал, а не архитектурная группа. Не надо иметь юридического образования, чтобы это понимать. Вопрос в другом. А что нельзя было геологию провести, как следует? Там можно строить только пять этажей кирпичной кладкой. А вы что наляпали, очередной небоскреб?
- Так, хватит меня учить, - взорвался Муриков, с обидой воспринявший мое слово "наляпали". - Что теперь твою бредятину карликовую везде туркать. Кенигсберг хренов!
Муриков вышел и хлопнул дверью.
Ближе к вечеру, решил спуститься к генеральному, чтобы уточнить детали по поводу вручения ценного подарка, но столкнулся в коридоре с Зурабом Симония. Это была бы неожиданной встреча, если бы не его странное поведение, которое насторожило меня. Он прошел мимо, не просто не поздоровавшись, но столкнувшись в коридоре лоб в лоб(этой встречи он, как мне показалось, не планировал), произнес свое кавказское: "пилятьсу", состоявшее из двух русских слов "блядь" и "сука", и обозначающее лишь то, что он не очень доволен встречей. Слова, повадки и жесты выдают истинные мысли людей. Мне тоже была не приятна не только эта встреча, но и то, что, чтобы разойтись, нам пришлось протискиваться между столами. В наших коридорах всегда много всякого хлама. Почему-то там годами стоят какая-то разломанная мебель, какие-то коробки с бумагами, валяется мусор. Пройти широким шагом в этих коридорах просто не возможно. Тем не менее, Симония, как только мог, удлинил шаг и скрылся на лестничной площадке.
Глаза у генерального горели, как две включенные лампочки. Увидев меня в двери, он опустил взгляд. На его столе лежала папка с помятым титулом, на котором красовалась алыми буквами надпись "25-ти этажный дом на ул. Челначкова". Генеральный ходил по кабинету, как гусь - важный и напыщенный, и все пытался ужалить: то ему не нравился мой заношенный светер, то отсутствие у меня текущей работы. Даже забыл зачем спустился к нему, но, когда вспомнил, то уточнять детали вручения ценного подарка перехотелось. Он, кстати, об этом уже не вспоминал.
- Вот, - гордо показав на мятый титул папки, произнес генеральный, - новый крупный проект. Это солидно. Нам доверяют серьезную работу. Начало строительства - 2012 год. Наверное, Мурикову дам. Пусть тянет на себе эту ношу, раз уж один дом развалил. Пусть учится.
Извинился и вышел. На следующий день меня сократили.
7.
Не люблю герпес. На губе у меня иногда появляется эта болячка. Английские ученые нашли взаимосвязь между герпесом и болезнью Альцгеймера. Кому-то достается это наследство в преклонном возрасте. Не хочу ничем болеть в старости, и вообще, намериваюсь прожить до ста лет.
Когда дал объявление о сдаче комнаты, мать сломала ногу. Пришел домой, чтобы, как обычно, приготовить ей покушать, и вдург увидел ее лежащую на кухне, и читающую молитвы. Она попыталась что-то достать из подвесного ящика, и упала, потеряв сознание. Возможно, произошел спазм сосудов головного мозга. Когда волок ее на одеяле в детскую, думал о том, что старым человек становится тогда, когда его скелет начинает дряхлеть. Ничего не смущало меня, ни рассыпавшийся сахарный песок, ни разбитая посуда на кухне, ни, естественно, вид моей испуганной матери, лежавшей на ковре в детской комнате, куда ее перетащил, в ожидании участкового врача. Скорая помощь, почему-то отказалась выезжать по моему звонку, сославшись на нехватку машин.
Участковый врач пришла через час. Она напомнила мне мадам Коплыжкину - такая же вальяжная, видавшая виды, женщина, одетая почти в такое же длинное кожаное пальто с мехом на воротнике. Она, не подходя к лежащей на полу больной, отодвинув небрежно ногой угол ковра, взяла медицинский полис, и выяснив, что он просрочен, стала лихорадочно набирать номер своего мобильного.
- Ну, ты че-е, Галь? Ну, ты че не видишь, у них полиса нет, - говорила она, обращаясь к диспетчеру поликлиники, и поправляя большую шевелюру волос. - Не буду я их обслуживать, мне за это никто не заплатит...У вас там в компьютере есть все данные. Пока полиса не будет, не буду.
Участковый врач не спросила, что случилось с моей матерью, но все же предположила, что у нее, видимо, инсульт. Бросив брезгливый взгляд на пол, где лежала мать, она положила мобильный в сумку и направилась к выходу, пояснив, что врача можно вызывать после того, как полис будет заменен. Во мне кипела злость.
- Вас мы вызывать больше не будем, - ответил я . - Потому что от вас толку - лишь головная боль.
Врачиха ехидно посмотрела на меня, словно пытаясь во мне что-то угадать, как в детской загадке, но, не разгадав, и сделала мину, как при плохой игре, ушла. Сказать, что она вызвала во мне бурую негодования, это тоже самое, что ничего не сказать.
Почему я исправно плачу налоги, а никто, ни одна, извините, сволочь, в этой стране не делает то, что полагается ей - почему мне не латают дыры в фасаде, почему не оказывают первую помощь моей матери, почему, почему, почему? Проще, чтобы дом рухнул, а пациенты умерли? Тогда и меня от налогов избавьте. Все это вылил диспетчеру скорой помощи, после того, как безрезультатно попытавшись поднять мать на кровать, и выбившись из сил, потому что ей было больно, позвонил повторно.
Скорая все-таки приехала, ее погрузили на носилки, и, когда мать привезли в центральную городскую больницу, и сделали ей рентген, оказалось, что у нее переломана шейка бедра и вывихнута рука. Ее положили в больницу.
Идя по ночному городу, едва волоча ноги, думал, что если не доберусь до своей кровати, то рухну от усталости прямо на дороге. Мне казалось, что у меня больше никогда не будет сил начать новый день, чтобы жить дальше - был не просто обессилен, а, обескровлен. В этот вечер, едва добравшись до постели, осознал этот новый термин в моей жизни. Это не кажущаяся эфемерная пустота, это довлеющая действительность, состоящая из всеобщего равнодушия к тебе как к личности, и реального отсутствия душевных сил в твоем организме. Физически, конечно, был достаточно крепок, и требовалось лишь выспаться, чтобы обрести новый импульс движения, но духовно... и сна было мало: сильно щемило в груди от страшной безысходности, от всего того, что меня окружало.
Меня спасала молитва, которую когда-то, еще, будучи жизнерадостной женщиной, дала мне моя мать, чтобы я, студент горнодобывающего университета, по специальности архитектура, в трудную минуту доставал из кармана лист бумаги с псалмом, и читал. За эти годы практически выучил ее наизусть, и, лежа перед сном, воспоминая ее слова, уснул.
«Суди, Господи, обидящыя мя, побори борющыя мя. Прими оружие и щит, и востани в помощь мою. Исуни мечь, и заключи сопротив гонящих мя. Рцы души моей: спасение твое есмь Аз. Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящи ми злая. Да будут яко прах перед лицом ветра, и Ангел Господень оскорбляя их. Да будет путь их тма и ползок, и Ангел Господень погоняя их: яко туне скрыша ми пагубу сети своея, всуе поносиша души моей. Да приидет ему сеть, юже не всеть, и ловитва, южи скры, да объимет и, и в сеть да впадет в ню. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляй нища из руки крепльших его, и нища, и убога от расхищающих его. Воставше на мя свидетеле неправеднии, яже не ведех, вопрошаху мя. Воздаша ми лукавая воз благая, и безчадие души моей. Аз же, внегда они стужаху ми, облачахся во вретище, и смирях постом дущу мою, и молитва моя в недро мое возвратится. Яко ближнему, яко брату нашему, тако угождах, яко плача и сетуя, тако смиряхся. И на мя возвеселишася и собрашася: собрашася на мя раны, и не познах, разделишася, и не умилишася. Искусиша мя подражнища мя подражнением, поскрежеташа на мя зубы своими. Господи, когда узриши? Устрой душу мою от злодейства их, от лев единородную мою. Исповемся тебе в церкви мнозе, и в людех тяжцех восхвалю Тя. Да не возрадуются о мне враждующии ми неправедно, ненавидящи мя туне и помизающии очима. Яко мне убо мирная глаголаху и на гнев лести помышляху. Разшириша на мя уста своея, реша: благоже, благоже, видеша очи наши. Видел еси, Господи, да не премолчиши. Господи, не отступи от мене. Востани, Господи, и вонми суду моему, Боже мой и Господи мой, на прю мою. Суди ми, Господи, по правде Твоей, Господи Боже мой, и да не возрадуются о мне. Да не рекут в сердцах своих: благоже, благоже души нашей, ниже да рекут: пожрохом его. Да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в студ и срам велеречущии на мя, и да рекут выну: да возвеличится Господь, хотящии мира рабу Его. И язык мой поучится правде Твоей. Весь день Хвале Твоей». 34-ый Псалом Давиду.
Эта молитва против порабощения человека человеком, за его свободу и равноправие, - так говорила мне моя мать, когда она была здоровой, крепкой и сильной женщиной, пребывающей в здравом рассудке и светлой памяти. Каждый из нас несет ответственность за свои поступки, и каждый волен просить бога о помощи, будучи уверенным что она придет. Мне сейчас легко представить этот мой бездонный сон в пустой одинокой квартире. Спал на спине, придерживая пятерью своих пальцев густую шевелюру волос, раскрыв свой большой лоб, которого всегда смущался и прятал его под челкой от окружающих, льющемуся из окна лунному свету.
*с Ранит и ее дочерью Зюзанхен она переехала в Кенигсберг к свой знакомой Агнетте(Ранит, Зюзанхен и Агнетта - вымышленные персонажи, которые, по моему предположению, могли быть рядом с Мией Брахерт в последние дни жизни в Восточной Пруссии)
Глава VII
Ощущение себя
Ты - земля, где совсем не стыдно страдать,
где не откажут в склянке горькой жидкости,
на дне которой осела горечь веков.
В твой разодранный вечер мокрых листьев,
над водами, в которых плывёт доныне
ржавь оружия павших центурионов,
у подножья полуразрушенных башен,
в тени пролётов, похожих на тень акведуков,
под балдахином спокойно простёртых совиных крыльев,
красный мак срезан инеем слёз.
(Чеслав Милош)
1.
Штурм Кенигсберга
В январе 1945 года войска Красной армии, перейдя границы Восточной Пруссии, где у Ширвиндта и Эдкунена артиллерия вхолостую бомбила пустые траншеи, так как немцы отступили, подошли к Тапиау, как вдруг солдаты, шедшие в лесах по припорошенным снегом полям, начали замечать резкое подтопление почвы. Холодная темная вода, сочившаяся, словно из-под земли, казалось, в одно мгновение затапливала солдат по сапоги, и уставшие от безрадостной картины заснеженного леса, бойцы бросались назад, полагая, что оказались в болоте. Командиры и комиссары не понимая, что творится с ландшафтом, который по всем картам, должен иметь твердый грунт, достаточно быстро выяснили, что происходит разлив Деймы, отделяющей наступающую Красную армию от немецких укрепленных районов. Немецкое командование отдало приказ взорвать дамбу Деймы, чтобы разлившаяся река приостановила наступление. Тем не менее, советские командиры, подкованные политагитацией комсомольских работников, действовали решительно, приказав солдатам не останавливаться и идя по щиколотку в воде, продолжать атаковать. Стрелять в таком незавидном положении, боясь утонуть, было сложно, и сотни карсноармейцев попросту не могли дать отпор немецким пулеметчикам, занявшим оборону в хорошо защищенных бетонных дотах на другой стороне реки. Патроны у немцев часто заканчивались, наступало временное затишье, и бойцы Красной армии вновь бросались в атаку, хлюпая по грязной жижи разлившейся Деймы. Советские танки и пехота, казалось, успешно громили врага на той стороне реки, продвигаясь все дальше вглубь затопленной территории, как вдруг сотни, а может быть и тысячи человек, а вместе с ними и техника, в одночасье провалились под взорванный лед, скрываемый разлившейся рекой. Наступление стало походить на жестокое месиво, сопровождаемое непрерывным огнем немецких пулеметов, когда каждый, кто пытался спастись в ледяной воде, поворачивал назад, в панике, ища ногами твердую землю, погибал в пучине разлившейся Деймы, а те, кто отважился плыть на другой берег, были повержены немецкими пулеметчиками. Много советских солдат погибли, оказавшись в ледяной ловушке. Отступив на кромку воды, советские войска заняли оборону. Немцы же, бросив доты и подбитую технику, в том числе и танки, ушли в Кенигсберг с малыми потерями, успев забрать с собой раненных.
Получив сведения о гибели солдат Черняховский, командовавший фронтом, приказал остановить наступление на Кенигсберг, с тем, чтобы завершить операцию по захвату Хайленгенбайля, южнее Кенигсберга, и затем, сосредоточив все силы у "стен" города, провести его штурм.
О массовой гибели солдат на линии Деймы мне рассказал один ветеран, недавно умерший в преклонном возрасте. Причем, этот рассказ не был как-то эмоционально окрашен, а даже, наоборот, был до удивления банален. Ветеран, фамилию которого, конечно, не записал, так как разговаривал с ним, сидя за большим длинным праздничным столом в спорткомплексе, где прошел вечер в честь Дня Победы, организованный правительством. Позже узнал, что об этом эпизоде войны даже был снят фильм, но по каким-то причинам его запретили к выходу в прокат. Недавно, читая в Интернете про штурм Кенигсберга, отыскал книгу, в которой также упоминалось о линии Деймы, как о воротах в Кенигсберг. Правда, о массовой гибели солдат в этой книге, изданной в советское время, нет ни слова.
Вообще, что касается штурма Кенигсберга, мною прочитано достаточное количество литературы, в том числе, и той, что написана немецкими авторами. Многие эпизоды штурма и последовавшее затем установление новой власти, вызывает во мне внутренний протест. Это, наверное, естественно после смерти моего отца, когда открылись важные для меня документы, касающиеся моей родословной. Тем не менее, воссоздавая картину штурма Кенигсберга, четко иду по следам простого советского солдата, которого мне искренне жаль, видя, как жестоко и часто бездумно распоряжаются его жизнью советские командиры. Ведь и мой дед Иван погиб на этой войне. Но, предвижу, какой может быть реакция со стороны наших ветеранов, свыкшихся с мыслью, что победа досталась высокой ценой, на те выводы, к которым пришел, исходя из логики цифр, голой статистики, скрываемой многие годы. Но истина - дороже. Так же как и с гибелью "Вильгельма Густлова", случившейся в период широкомасштабного наступления Красной армии, названной Восточно-Прусской стратегической операцией, мне сегодня важно понять логику действий сторон, чтобы оценить те устоявшиеся стереотипы, которые так сильно засели в нашем сознание и, которые, на мой взгляд, оказывают негативное воздействие на ход современной истории.
Восточно-Прусская операция была одна из самых длительных, продолжительностью 103 дня, с 13 января по 26 апреля 1945 года, и самых массовых стратегических операций Красной Армии в годы второй мировой войны. Со стороны Советского Союза в ней задействовалось 133 дивизии, 8 отдельных корпусов, 10 бригад и 4 укрепленных района, почти 1 миллион 700 тысяч военнослужащих, или более четверти всей действующей Красной армии. Для участия в операции предназначалось 3859 танков и 3097 самолетов. Оборонявшая Восточную Пруссию немецкая группа армий "Центр" имела около 700 танков и 515 самолетов, и насчитывала 41 дивизию и 1 бригаду, и всего примерно 800 тысяч военнослужащих, в том числе, 200 тысяч подростков и стариков фольксштурма. То есть Германия уступала СССР примерно в два раза в живой силе и в 5-6 раз в технике и боеприпасах. Тем не менее, в Восточно-Прусской стратегической операции погибло 150 тысяч советских солдат. В Кенигсберге, который был одним из узлов баталии, считавшийся ввиду широкой пропаганды, непреступной крепостью, а оказавшийся на деле, городом без обороны, погибло пять тысяч немецких военнослужащих. Немецкие командиры могли потирать руки, когда им приносили данные о потерях с двух сторон, но они проиграли главное - свою честь.
Не понимаю, каким образом разрозненные форты с солдатами могли противостоять нападающей Красной армии, тем более имеющей значительное численное превосходство: такое - что на расстоянии каждых чуть ли не полста метров находилась артбатарея. Разговоры о том, что Красной армии противостояла огромная группировка немцев, не верны. Оборона города, хоть и эшелонированная, была не способна отражать массивный удар. Форты Кенигсберга были годны лишь для первой мировой, и то - так сяк. Кроме того, внутренне немецкий солдат, которому вся эта война уже до чертиков надоела, склонялся к тому, чтобы сдаться. Он не мог этого сделать, так как был запуган, ведь дезертиров убивали, подвешивая их вверх ногами на виду у горожан и прикрепляя на убитых таблички "трус", а вот теперь, когда Красная армия крушила все подряд, немцу бороться насмерть уже было не нужно, Фюрера никто не защищал. Люди хотели просто остаться в живых.
В начале февраля Кенигсберг был окружен советскими войсками с трех сторон, но наступление было остановлено. Ночью 18 февраля Красная армия захватила небольшой город Мельзак, куда поспешил прибыть генерал армии Черняховский. Однако, от немецкого снаряда командующий был смертельно ранен и умер, не приходя в сознание, на руках своих товарищей, через несколько минут после взрыва. Смерть Черняховского еще раз отодвинула сроки атаки города-крепости.
В марте командовать третьим Белорусским фронтом был назначен маршал Василевский. Это предрешило многое, и самое главное - Кенигсберг не рассматривали более, как город с европейскими ценностями(большинство городов Восточной Пруссии, в том числе, и город Инстербург, не были так сильно разрушены, как Кенигсберг, и поэтому сохранили свое европейское лицо, благодаря Черняховскому), в сознании нового командования он стал городом, который нужно было стереть с лица земли, как цитадель зла. Операция должна была быть проведена с использованием всех самых передовых достижений того времени. Василевский отдал распоряжение детально подготовиться к штурму.
В Лабиау, расположенном севернее Кенигсберга, рядом с Куршским заливом, в одном из захваченных советскими войсками, домов, был создан примитивный макет центральной части города-крепости. Причем, как рассказывали очевидцы, этот макет, возводимый в течении марта и апреля, даже после штурма города, дорабатывался, правда, был сожжен, к счастью, не полностью, не то как акт возмездия, не то по халатности, в хмельном пылу, солдатом, которого оставили охранять важные вещи и документы. Над макетом трудилось более 100 человек, и он размещался на площади в 36 кв.м., то есть был больше моего макета Кнайпхофа в три раза. Мое самолюбие, конечно, было ущемлено, когда узнал, что советские солдаты когда-то занимались тем же чем и я, так как, признаюсь, хотел иметь эксклюзивное право на этот продукт, хоть и уничтоженный мною ввиду отсутствия общественного признания. Осознав свою вину, взялся за написание этой книги, подумав: пусть хотя бы в памяти останется то, что многих людей, по разным причинам, волновало, каким был Кенигсберг.
На невысоких холмах лабиауского макета располагались сады и дома, церкви и магазины, заводы и памятники, сооруженные из картона, дощечек, деревянных брусков, мастики. Выкрашено все это было в коричнево-зеленый цвет. Кое-где были расставлены баррикады, минные поля, а красного цвета форты, были отмечены черными флажками, как места сосредоточения немецких войск. Советские войска, в отличие от английской и американской авиации, бомбившей Кенигсберг в августе 1945 года, действовали более продумано, чем союзники, совершившие скорее террористический акт, чем уничтожение войск и военной техники вражеской стороны. Русские генералы, понимая, что участь Кенигсберга фактически предрешена, делали акцент на уничтожении военной группировки, надеясь с помощью более детального изучения обстановки в городе, получить приличные трофеи. Никто не думал, что этот город им достанется в качестве контрибуции, и подспудно прорабатывалась операция по полному уничтожению столицы Восточной Пруссии. Но видимость была другой. Не случайно, офицерский коллектив, работавший над созданием макета Кенигсберга, используя данные аэрофотосъемки, целенаправленно проводимой разведывательной авиацией Красной армии, соорудил все значимое - мосты Кнайпхофа, каждый, правда, был чуть больше спичечного коробка, башни разрушенного Королевского замка, Кафедральный собор, биржу. Эти объекты были обведены мелом. Предполагалось, что здесь сосредоточены культурные ценности Пруссии - те самые приличные трофеи, мосты же были важны, как коммуникационные составляющие.
Кто-то принес кенигсбергские открытки, и их воткнули в места нахождения объектов - зоопарка, гостиницы "Берлин", стадиона, кирхи королевы Луизы. Кстати, эта часть города во время штурма пострадала меньше всего. Каждый день, даже после штурма Кенигсберга, вносились какие-то коррективы, - так рассказывают ветераны, но один из солдат в пьяном угаре, оказавшись в отрыве от наступающих войск, заглушив свои амбиции спиртом, уснул под треск камина, и проснулся лишь тогда, когда макет Кенигсберга горел. От выпавшего из камина уголька, вспыхнул ковер, и огонь быстро охватил комнату. Было это уже после штурма города, завершившегося в три дня, хотя ожидали длительную оборону немцев, и поэтому виновника даже не наказали. А кто-то из генералов даже сказал, что русский солдат способен один уничтожить непреступную крепость. Макет потом частично восстановили и выставили в музее, теперь "Кенигсберг" был еще более эффектным, так как отражал реальную картину уничтоженного города.
В конце марта 1945 года вокруг столицы Восточной Пруссии стояло так много войск, что наступление напоминало столпотворение. Огромное количество техники, высвободившейся после захвата Хайлегенбайля, а там, был настоящий мертвецкий котел, и погибло больше всего солдат, также направили к Кенигсбергу.
Начавшийся в начале апреля штурм города, к счастью, не был столь кровопролитным, как предполагали, потому что многие форты стали сдаваться, как только войска Красной армии, предприняли попытку их захвата.
Утром 6 апреля пять тысяч орудий открыли огонь по оборонительным сооружениям города, но немецкие войска могли спокойно укрыться, ввиду того, что форты имели высокие земляные насыпи, пробить которые не мог не один снаряд. Два часа не прекращался огневой налет на немецкие позиции, многометровая земляная насыпь поредела, но устояла.
Советская пехота, ринувшаяся в атаку, после того, как отгремели орудия артустановок, сравнительно быстро овладела оборонительными сооружениями. Форт "Кайзер Фридрих" был захвачен в течении двадцати минут. Самым большим был форт "Кайзер Фридрих Вильгельм Второй", имевший более двух десятков орудий, с десяток пулеметов, собственную электростанцию, госпиталь, большое количество боеприпасов, снаряжения и продовольствия. Он не сдавался два дня. Но советские войска нашли способ разбить форт не с воздуха, а с земли. Под покровом ночи солдаты Красной армии переправились через ров, заполненный водой, к полутораметровым стенам форта, и подорвали их. Треснув, стены обрушились, открыв брешь в мощной кирпичной конструкции.
7 апреля оборонительной системы Кенигсберга уже не существовало. Ее уничтожили. Последними сдались форты "Канитц" и "Лендорф". Немецкие солдаты выходили на улицу, с поднятыми вверх руками, но на их лицах не было ненависти, а был лишь испуг. Они щурили глаза от солнечного света. Нельзя было не испугаться страшного рева самолетов, сплошной волной надвигающихся на город. Утром 7 апреля почти полторы тысячи бомбардировщиков наносили бомбовые удары по Кенигсбергу, довершая то, что в августе 1944 года не доделали англичане. Почти час советские летчики бомбили город, превращая его в облако серой пыли, в котором кружили куски железа, кирпичей и бетона. 8 и 9 апреля стало успешным продвижением войск Красной армии с севера и с запада. Первые советские солдаты, наступавшие с севера, появились в центре в районе Кенигсбергского зоопарка.
В Русской киноэпопеи о Великой Отечественной войне есть яркий эпизод, когда советский танкист, заехав на танке в зоопарк, и увидев в триплекс фламинго, выглянул, чтобы полюбоваться красотой птицы, но немецкий снайпер убил солдата, выстрелом в лоб. Снят этот эпизод в Кенигсбергском зоопарке после войны. Грустно об этом думать, гуляя по одному из прекраснейших уголков города, сохранившего свой кенигсбергский дух и по сей день, но у войны нет справедливости, она тщедушна и коварна, жестока и безнравственна по сути, она перечеркивает красоту, как явление жизни. Утром 9 апреля полк подполковника Иванникова овладел кенигсбергским Кафедральным Собором, а к середине дня советские солдаты вышли на площадь, с одной стороны которой возвышалась разбитая глыба Королевского замка.
Увы, власти Восточной Пруссии, расквартированные в Кенигсберге, проявили себя с самой плохой стороны. Гауляйтер Эрих Кох сбежал в конце января в Нойтиф на Фришской косе, и оттуда имитировал по радио, что он находится в Кенигсберге. Все предыдущие месяцы он препятствовал вывозу из города людей и ценностей, называя это пораженческими настроениями. В Кенигсберге в конце января находилось свыше 100 тысяч гражданских лиц и около 15 тысяч иностранных рабочих и военнопленных. Хотя некоторые низовые чиновники, как господин Фегеле, были достойны уважения, занимаясь поддержанием порядка в городе вплоть до капитуляции.
Если быть более точным, Кенигсберг защищали 35 тысяч немецких солдат, тогда как наступавших было 250 тысяч. Поэтому, конечно, никто никаких иллюзий не строил. Военный комендант генерал Отто Ляш сдал город вопреки воле Гитлера, чтобы спасти жизнь 30 тысячам, оставшихся в живых солдатам, и 100 тысячам гражданского населения. За это фюрер приговорил его к смертной казни. Ляш капитулировал на так называемых почетных условиях, практически ни одно из них не было выполнено. Защитники лелеяли надежду, что все они смогут беспрепятственно покинуть город. Но их отправили в страшный плен.
Днем 9 апреля в штаб Ляша, расположенный в блиндаже на глубине нескольких метров в самом центре города, стали прибывать партийные функционеры, подталкивая военного коменданта к заключению с русскими временного перемирия. Но ближе к вечеру стало ясно, что Красная армия захватила город. Везде советские танки и пехота, уничтожающие любой дом, любое здание, где идет перестрелка.
Генералы и старшие офицеры штаба Ляша, сидя на высоких резных стульях черного цвета за длинным, покрытым белоснежной скатертью, столом, на котором от взрывов снарядов, рвущихся наверху, пошатывались стаканы с горячим чаем, приняли не простое для себя решение о капитуляции. Когда полковник Кервин встал, чтобы попросить сидящих в кабинете Ляша офицеров, убрать стаканы с чаем и карты, чтобы взять скатерть и разорвать ее для создания флага, погасло аварийное освещение, и вспыхнули зеленые фосфорные метки на стенах. Практически во тьме, немецкие генералы убирали стаканы, но многие все-таки разбились, когда скатерть стали тянуть на себя, и генерал Ляш подумал, что кто-то из обслуживающего персонала, застилая большой стол, наверное, предчувствовал развитие событий, так как принес белую скатерть вместо зеленой.
Подполковники Хефен и Кервин вышли с белым флагом капитуляции на улицу после долгой работы в бункере, и, были поражены видами практически стертого с лица земли города. Они шли по руинам, и их ноги подкашивались, но не от усталости, а от страха за сделанное. Им казалось, что тысячи штыков устремлены в их сторону, и эти штыки держут не советские солдаты, а те жители Кенигсберга, которые, прячась по подвалам, зажимая от испуга свои рты грязными от пыли руками, когда-то оставшись со своей немецкой армией, как верные городу защитники, теперь, выглядывая из бомбоубежищ и подвалов разрушенных зданий, видят, как немецкие офицеры несут белую тряпку, желают им только одного - смерти. Но по их щекам текли слезы. Все можно было бы восстановить, даже уничтоженный в огне город, но можно ли восстановить честь, поруганную позором капитуляции?
Идя по узкой бетонной лестнице блиндажа Ляша, кажется, что словно вчера сюда спустились советские парламентарии... В длинном темном коридоре, где вновь стало работать аварийное освящение, теснятся испуганные штабные офицеры, в кабинете военного коменданта, на высоком кресле сидит среднего роста человек, его бледное лицо не скрывает его возраст - молодого генерала. При появлении советских солдат, он встает, и, склонив голову, чтобы не было видно, как его сердце словно разрывается на куски, внимательно слушает переводчика, который называет кажущиеся приемлемыми условия сдачи оружия. Во время подписания акта не произносится ни слова. Война проиграна. Точка. Так думает генерал, надеющийся на то, что раненые получат медицинскую помощь, а гражданское население необходимое питание.
Он надевает шинель, берет фуражку и в сопровождении штабных генералов выходит из блиндажа навстречу советским командирам, расправляя на ходу кожаные перчатки. Теперь его лицо спокойно, и даже полуразрушенный город, не вызывает в нем внутреннего протеста, кажется, что он словно заискивает перед советскими парламентариями, надеясь дополнить условия капитуляции новыми пунктами. Он хочет, чтобы в город вернулись те, кто покинул свое жилище и скитается по окрестным фермам. Советские командиры принимают эту просьбу, им надо, чтобы после сдачи города, кто-то занялся приведением его в порядок. Но...
В течение последующего года в Кенигсберге от нищеты, голода и болезней умрет 85 тысяч человек немецкого населения. Никто из советских властей не окажет этим людям, бросив их на произвол судьбы, никакой помощи. Спасутся лишь те, кто, склонив головы, сумеют подчиниться советскому командованию, чтобы затем уехать навсегда в Западную Германию.
2.
После смерти отца, мне многое удалось исправить в квартире моих родителей, и перед приходом нотариуса для выдачи свидетельства на право собственности жилья, мне хотелось, чтобы квартира выглядела не такой уж грязной. Еще перед тем, как моя мать попала в больницу, поменял окно в зале, установив пятикамерный стелокпакет. В одно мгновенье в комнате изменился микроклимат, потому что дверь на балкон теперь была стеклянная и давала много света, побелил потолок, обрамив его багетом, поклеил новые обои с элементами шелкографии, постелил ламинат. Теперь здесь не было забитой нищетой и болезнями обстановки, и даже однажды, придя на обед, чтобы покормить мать, вдруг, сев в шезлонг, на мгновенье задремав, понял, что в этой квартире можно жить. Но, перелом ноги у матери, и последующая ее госпитализация, забрали у меня последние силы, и уже не мог даже представить, что перед приходом нотариуса, выдержу еще и генеральную уборку, которая была здесь просто необходима. Поэтому решил пригласить уборочную фирму.
Ходил по дому в обычной робе, испачканной краской и штукатуркой, и, когда от уборочной фирмы с ведром и тряпками пришла сотрудница, подвинув меня слегка в прихожей своей шваброй, и спросив, когда тут будет хозяин, сказала, что сначала берет деньги, а потом принимается за уборку. Она приняла меня за рабочего - такого же как она сама, и даже, когда достал из кармана денежные купюры и протянул их уборщице, то она ни на мгновенье не задумалась кто я есть.
"Это хорошо, что здесь тут вы, - стала говорить уборщица, и вдруг заметил, что у нее красивые круглые груди, и очень стройная фигура. Наверное, потому что у нее такая профессия, требующая хорошей физической формы: постоянно в движении. Сейчас - большая редкость, чтобы женщина в таком уже возрасте имела столь аккуратные очертания. - А то придет завтра, и жди от них обещанных денег. Я люблю так - отработала и заработала. Вот и все. Разговор короткий. Здесь, кстати, у них еще более менее. Хоть ремонтик какой-никакой, и полы чистые. Иные пригласят после вечеринки - одни стеклянные столики и полочки, и все залапано, и окурков - гора, и блевотина, извините уж, по бутылкам. А пьют знаете что - виски и коньяк по полторы тысячи. Всех тех, кто следит за домом, наизусть знаю, потому что таких вообще мало. Нас же вызывают в основном холостые. Вы не знаете, хозяин-то холостой или у него есть какая бабенка?"
Признаться, не ожидал такого поворота, хотя, ситуация неопределенности мне лично очень нравилась, и поэтому прекратив обдирать старые обои в спальне, расселся в шезлонге и стал внимательно наблюдать, как женщина моет грязное окно. Оно, действительно, было грязным, хотя, мне казалось вполне чистеньким.
"И что этот перец, - так она назвала хозяина квартиры, те есть меня, - не смог заработать даже на простенький диванчик? - В зале не было мебели - ничего кроме шезлонги и телевизора. - Хотя, наверное, подыскивает себе что-то в стиле ми-ни-ма-лизма. Сейчас все кинулись покупать в стиле ми-ни...мализма, потому что финансовый кризис. Думают, сами себя обманут. Мало купят, мало потратят. А убираться-то все равно надо".
Слово "минимализм" уборщица, которую, как выяснилось, звали, как я и думал, Клавой, произносила почти по слогам, потому что выговорить это слово целиком ей было не под силу, но меня она не стеснялась и продолжала уверенно городить галематью, выуживая из меня сведения о хозяине квартиры, который, как она думала, раз вызывает уборочную компанию за тысячу рублей, наверняка, обеспеченный перец. Решил приврать.
"У него несколько квартир. Приобрел их еще до кризиса, и вот теперь приводит все в божеский вид, - говорил, рассматривая как уборщица, расстелив под батареей поролон, и накрыв его влажной толстой тряпкой, чтобы она впитывала нечаянно упавшие на ламинат капли воды, искусно моет подоконник. - Он имеет доходы в пяти банках и живет на проценты. Рантье".
"Что?" - Переспросила уборщица, пытаясь вникнуть в суть разговора.
"Богатый бездельник, - уточнил значение французского слова, надеясь, что это ее заинтересует. Но женщина брезгливо поморщилась и закинув свисающий на плечо локон , ответила, что она не любит бездельников в любом виде, даже богатых. По ее мнению, мужчина должен работать, и чем дольше его рабочий день, тем больше у нее к нему женского интереса.
"Мой мужик должен работать по ночам, а я должна приносить ему горячие котлеты, - она отвернула взгляд, но ее эмоции переполняли комнату, и их не возможно было скрыть. В этот миг как-то вдруг иначе, чем раньше, ощутил самого себя, словно в одну минуту во мне открыли кран и соки всей жизни, что есть на свете, хлынули потоком прямо к моему сердцу, потому что понял, что пришло мое время владеть женщиной. - Ну, или оладья. Я готовлю вкусно". - Как-то очень спокойной теперь отнесся к тому, что меня может захотеть, как мужчину, обычная сотрудница уборочной компании. Раньше, непременно хотел, чтобы об этом думали только особы высокого полета. Сейчас мерилом всего стала даже не женская привлекательность, а позыв женщины, как живого существа. И от этого мне стало как-то очень просто думать о своем будущем и предполагать интимную близость с женским полом. На какое-то мгновенье подумал, что это похоже на деградацию меня, как личности, но быстро отогнал от себя эти мысли, подчинившись мужскому инстинкту.
Раздалась мелодия домофона, и когда, взяв трубку спросил "кто", выдал себя, сказав, что не вызывал вторую уборочную компанию, но, к счастью, никто ничего не понял, и, открыв дверь молоденькой девушке, которая, как выяснилось, была дочерью Клавдии, все в том же амплуа отдыхающего рабочего, занял свое прежнее место в шезлонге.
Девочка пришла помочь своей матери, и ее присутствие, изменило тон нашего разговора.
"Я бы вот тоже хотела лежать и ничего не делать, - говорила Клава. - Но приходится пахать с утра до вечера, чтобы всю эту ораву прокормить". Женщина кивнула на свою дочь, намекая, что у нее есть еще несколько детей.
"Почему это вы решили, что он лежит и нечего не делает? - Спросил, имея ввиду того самого хозяина, о котором сказал, что он рантье. - Нет, он не такой уж бездельник, как может показаться. У него много других забот, и потом, знаете, сколько времени уходит на содержание его квартир и банковских счетов. Вот если бы у него был помощник, тогда да, он бы лежал и ничего не делал. Но вот возьмите сегодняшний кризис. Девальвация, это значит, нужно разобраться какую игру ведет государство и , в частности, правительство и Центральный банк, который подконтролен этому правительству, в каких активах лучше хранить имеющиеся деньги, и какие счета и под какие проценты держать. Это целая наука, если ваши средства обслуживают много банков. Вы же знаете, что в одной корзине яйца не хранят. Ну, и потом вот эти квартиры, они же стоят не малых средств в поддержании в них порядка - чтобы был свет, вода, тепло, и чтобы они еще приносили какие-то доходы. - Заметив, что Клава стоит с тряпкой в руках и пристально смотрит на меня, снизил высоту фраз. - Ну, он так говорит всегда".
"Ишь, ты, какой грамотный рабоничек тут мне мозги поласкает, - произнесла уборщица, цепанув меня мокрой ладонью, - а мне понятно лишь про корзины, и да про эти еще - яйца". Женщина раздалась таким звонким смехом, что мне стало не ловко, вышел из комнаты, кинув беглый взгляд на дочку уборщицы, которая, никак не отреагировав на живописный разговор, продолжала усиленно мыть плинтуса.
"А что были какие-то особые задания?" - Крикнула Клава из зала, чтобы выяснить что ей делать дальше.
"Да, нет, просто, сказал убраться и все, - закладывая белье в стиральную машинку, ответил громко через длинный коридор. - Там, на балконе - мусор в коробках..."
"Нет, балконы мы не моем, а мусор вообще выносим только в наших пакетах и не дальше, чем ихней мусоропровод, - отвечала громко Клавдия, - все, что из мусора больше одного метра, считается негабаритным строительным хламом и вызывается другой бригадой - мужской. Мы только пеной и мочалками делаем. Даже ковры - за дополнительную плату... Ты же тоже не будешь батареи срезать, чтобы сены клеить. Один режет, другой клеит".
Обращение ко мне на "ты" мне очень не понравилось. Не знаю потому ли что оно было произнесено громко, из другой комнаты, или потому что отсекало меня от дальнейшего развития личностных отношений с этими, занимающими достаточно не высокое социальное положение, женщинами(почему-то Клавина дочка показалась мне в одну минуту взрослой женщиной). Не знаю почему, решил помыться, привести себя в порядок, и раскрыть свое истинное положение. Но, даже, приведя себя в божеский вид, одев дорогую рубашку из китайского шелка и модные тертые джинсы, и войдя в зал, где трудились мать и дочь, не смог изменить уже сложившегося к мне отношения.
"Ну, ты уже пошел?" - Спросила Клава.
"Да", - ответил, словно это была моя давняя близкая знакомая.
3.
Когда советские войска заняли Кенигсберг, началась настоящая лихорадка в поисках культурных ценностей, оставшихся в городе. Их было не мало. Практически все, что удалось спасти, разместив в погребах и по окрестным поместьям, пропало с приходом советской армии: музейные сокровища, архивы, библиотеки. Немцам удалось забрать с собой лишь самую ценную часть государственного архива.
Конечно, наибольший интерес у новых поселенцев был проявлен к знаменитой Янтарной комнате, вывезенной из Царского села немецкой армией накануне блокады Ленинграда. Это произведение искусства, подаренное прусским королем Фридрих-Вильгельмом Первым русскому царю Петру Первому в знак особого уважения, и в обмен на гренадеров, обладавших выдающимися физическими данными, а также в надежде быть вечными союзниками, было выставлено в Кенигсбергском Королевском замке, и хранилось там до начала Восточно-Прусской операции. Во время наступления Красной армии в 1945 году, немцам удалось демонтировать Янтарную комнату. Но пути ее затерялись. Где она находится, не известно и по сей день.
Вообще история Янтарной комнаты или Янтарного кабинета, как ее часто называют сами немцы, хорошо характеризует взаимоотношения двух народов. Кабинет был подарен прусским королем русскому монарху при весьма необычных обстоятельствах. Кабинет, предназначенный для берлинского дворца Литценбурга супруги предыдущего прусского короля Фридриха III Софии Шарлоты, не был завершен, в виду того, что королева умерла. Да, над созданием кабинета трудились лучшие мастера янтарных дел: Неринг, Грюнберг, Бодт, Кайяр, Шлютер, Эльтестер, Эозандер, Герлах. Из Копенгагена пригласили придворного мастера Готфрида Вольфрама. Не случайно убранство кабинета было столь изысканным, хотя, повторюсь, и не завершенным. В 1716 году в Гавельберге Янтарный кабинет увидел Петр Первый. Женоподобный Фридрих-Вильгельм, не ровно дышавший к русскому царю, обмолвился, что готов подарить ему это чудо света, и хваткий Петр быстро зацепился за слова, пообещав прислать Фридриху-Вильгельму своих лучших гренадеров. Русский царь получил кабинет, а также еще и богато отделанную яхту «Либурника», в ответ в 1717 году он прислал в Пруссию 55 солдат Фридриху-Вильгельму для его полка великанов, и вдобавок костяной кубок, сделанный своими руками. Гренадеры были каждый выше двух метров роста, имели особые важные детали своей физиологии, скрытые в штанах от любопытных взглядов немецких женщин.
Петр Первый оказался не только умным и хватким, но и хитрым правителем, убрав подальше привезенные в 1717 году в Санкт-Петербург графом Головиным восемнадцать ящиков с прусским Янтарным кабинетом. Сначала он хранился в Зимнем Дворце, но предстал в лучшем виде лишь через двадцать пять лет, уже после смерти Петра Первого, причем, в новых геополитических условиях. До ума его довела дочь царя Елизавета. Из Зимнего дворца Санкт-Петербурга ящики с янтарными панно бережно перенесли на руках в Царское село холопы, которых погоняли прутьями, и за любую провинность наказывали. Проект же Янтарной комнаты предложили выполнить Растрелли. Учитывая площади Царскосельского дворца, и отсутствие в нем в анфиладной части комнат меньше 50 квадратных метров, на которых ранее должно было располагаться янтарное убранство, итальянский мастер вынужден был использовать множество зеркальных пилястр, чтобы заполнить огромную комнату площадью почти в 100 квадратов. Зеркала лишь украсили солнечное чудо. В 1755 году проект Растрелли был готов. Архитектор сумел объединить прусский дух с декором, характерным для русского барокко. В 1758 году, когда Кенигсберг вошел в состав Российской империи, из Пруссии в Царское Село привезли мастера янтарных дел Фридриха Роггенбука, чтобы тот стал смотрителем теперь уже открывшейся для всех Янтарной комнаты. Делал он это по долгу совести. Янтарная комната обязана ему тем, что многие годы вперед к ней сохранялось бережное и рачительное отношение.
Немцы не смогли простить Фридриху-Вильгельму Первому его поступка с Янтарным кабинетом. Ими созданное чудо, правда, доведенное до совершенства все-таки русской короной, по мнению многих немецких руководителей, должно было вернуться в Пруссию, в Кенигсберг, туда, где это чудо и было создано, - так думали и те, кто пришел к власти в 30-ых годах 20 века.
Не понятно почему в годы Второй мировой войны, Янтарная комната, выставленная в Царском Селе, не была демонтирована советскими музейщиками и вывезена куда-нибудь в Сибирь. Опасаясь бомбардировок, комната была законсервирована – янтарные панно оклеили бумагой, поверх нее поклеили марлю и затем вату, а окна в комнате забили досками и засыпали песком. Зато другие сокровища дворца были эвакуированы.
17 сентября 1941 года немецкие войска вошли в Царское Село, и в течение тридцати шести часов демонтировали янтарный шедевр и отправили его в Кенигсберг.
В 1945 году Янтарная комната, выставленная в Королевском замке, пропала, и до сих пор никто не может четко сказать, где она находится. Журналисты германского журнала "Шпигель" озаботились этим вопросом, предположив, что Янтарная комната осталась в погребах разрушенного замка, и в этой связи уже в середине 90-ых прошлого века была развернута крупномасштабная акция по раскопке погребов, завершившаяся естественно ничем, как и десятки, а может и сотни поисковых операций этой, ставшей уже неким фантомом, комнаты.
Захватив Кенигсберг в апреле 1945 года, советских генералов интересовала не только мифическая Янтарная комната. Если бы она обнаружилась, вся целиком она бы перешла государству. Их интересовало, конечно, все - плавучие доки, самолеты, машины, - но в большей степени, и это естественно, культурные ценности, способные составить личную коллекцию, обогатить их, поэтому из домов и с улиц города пропадало все, что можно было погрузить на машину и увезти.
В 50-ой армии был создан трофейный отдел, сотрудники которого занимались поиском культурных ценностей, золота, серебра и иностранной валюты. Несмотря на то, что советская пропаганда продолжала рисовать Кенигсберг как бывшее логово зверя, все-таки это был крупный финансовый центр, где были сосредоточены огромные денежные ресурсы. Здесь располагалось большое количество банков, таких как Торговый банк, Банк ремесленников и домовладельцев, Банк сбережений, Сельский банк, Государственный банк, филиал Дрезденского банка. Сотрудники 5-го отделения трофейного отдела специализировались на взрывах банковских сейфов, пользуясь и взрывчаткой и автогеном. За один только день работы в Банке ремесленников и довомладельцев было "добыто" с помощью взрывчатки килограмм золотых украшений, 80 килограммов серебра в пасуде и столовых приборах, а точнее: кулон платиновый, 14 золотых цепочек, 17 золотых колец, 14 медальонов, 532 чайные серебряные ложки, 7 серебряных подносов, 240 закусочных вилок, 353 столовых ложек, 62 ложки для торта (все серебро и золото).
Многое, минуя трофейный отдел, попадало в руки предприимчивых солдат, которые самовольно проникали в банки и музеи и выносили оттуда все, что им было с руки. Так пропала дорогая сервизная посуда, медный музейный кувшин с чекаными фигурками и бронзовая японская статуэтка из филиала Дрезденского банка. Подобных примеров можно было бы назвать сотни, и даже можно было бы найти оправдание всей этой разнузданности, ведь из СССР немцами было также вывезено не мало культурных ценностей. Мородерство, вседозволенность, издевательства над мирным населением, увы, были нормой жизни в Кенигсберге в первые месяцы после окончания войны.
Для поиска перемещенных ценностей в мае 1945 года сюда приехала комиссия во главе с прфессором Брюсовым. Он искал Янтарную комнату, но не только ее. В результате его работы было собрано 60 ящиков ценностей, которые передали под расписку в Кенигсбергский архив для отсылки в Москву. Например, в руинах Королевского замка Кенигсберга Брюсовым было найдено свыше тысячи музейных экспонатов различных эпох. Среди них картина Циганелли, серебряная церковная утварь XVII-XVIII веков, издалия из китайского, берлинского, майсенского фарфора XVII века, дереваная и мраморная скульптура и многое другое. Но профессор Брюсов, будучи прекрасным знатоком живописи, обладающим глубокими искуствоведчискими знаниями, был уже достатосно стар, чтобы успешно организовать сложные поисковые операции. Его старость усугублялась повсеместной забывчивостью и неумением выстроить отношения с людьми, особенно с военными. Отправив такого человека в Кенигсберг, и дав ему даже на время командировки звание подполковника, московский комитет по делам кульпросветучреждений все-таки ошибся, - это отмечали многие, как в те годы, так и в наше время, ставя в вину нерасторопности комиссии личностные качества Брюсова.
Янтарную комнату, понятное дело, не нашли, а 60 ящиков, собранных профессором, так и не дошли до Москвы, и были расхищены еще в Кенигсберге в августе 1945 года.
Ценителем прекрасного был генерал Соммер, именем которого названа одна из улиц сегодняшнего города. Это был человек незаурядный, и по всем критериям уважаемый и достойный и как личность и как высокий военный чин.
Мне довелось видеться с потомками генерала, когда, по просьбе других ценителей прекрасного, представлявших сегодняшную власть, будучи каким-никаким, но специалистом в области архитектуры и скульптуры, и, естественно, не плохо разбирающимся в том, что является действительно ценным, а что нет, вошел в группу общественности, которая намеривалась забрать у потомков Соммера знаменитую скульптуру "Играющие собаки" немецкого скульптора Эриха Шмидта Кестнера. Говорят, что скульптор называл свое творение, как "Русские борзые", но подтверждений этому нет, и сейчас в искусствоведческих кругах скульптура называется "Играющие собаки".
Немецкий скульптор родился в 1877 году в Берлине. Являясь родственником директора Кенигсбергской художественной школы Эдмунда Мау, в 1926 году он приехал в Кенигсберг, где получил место руководителя скульптурного класса при художественно-промышленной школе. С приходом к власти фашистов, он, как и Герман Брахерт, покинул город. "Играющие собаки" были выполнены в 30-ых годах и подарены городу для украшения скверов. Это была общеевропейская тенденция развития идеи архитектурных ансамблей.
Творение Кестнера родственники генерала Соммера хотели продать в Литве, где предлагали высокую цену. Выполненная в бронзе, скульптура была достаточно громоздкой и тяжелой, чтобы ее можно было как-то перенести или где-то поставить в качестве украшения. Об архитектурных же ансамблях тогда, как, впрочем, и сейчас никто не говорил. Это понятие в Кенигсберге с приходом после войны новой власти как-то ушло из жизни города, лишив его европейского облика.
Архитектурные ансамбли(то есть логическое сосуществование жилых, административных зданий с объектами малых форм - скверами, фонтанами, цветниками, а также городских магистралей, предполагающих широкие пешеходные зоны, зоны массового шопинга, рекреационные зоны(например, пляжи и парки в центральном городском кольце на берегах реки, а вовсе не променад для офисных зданий), создают европейский колорит. Это настоящее мастерство, - умело увидеть все соседствующие зоны. Своего рода - народный талант. Российские города, за исключением разве что Санкт-Петербурга, архитекторами которого были представители европейской архитектурной школы, увы, другие. Они построены незамысловато: широкие проспекты, по обе стороны которых дома, большие скучные парки, узкие голые набережные, одетые в бетон, везде поток машин, которые, ввиду отсутствия нужного количество переходов, не дают возможности пешеходам перейти дорогу. Российские города подавляют человека своей безмерной пустотой, длинными расстояниями и холодной агрессией не только водителей за рулем авто, но и самих зданий. Они утомляют человека, которому негде присесть, негде помыть руки(это вообще не реально), и порой некуда выбросить этикету от только что купленных джинсов, так как - мало мусорных контейнеров, а с точки зрения экологии, российские города и вовсе представляют серьезную угрозу для здоровья человека, потому что в центре города и в жилых массивах - множество вредных производств, что просто не допустимо. Вот именно таким агрессивным городам должен был быть противопоставлен кенигсбергский проект, который предусматривал создание комфортного невысокого жилья, встроенного в архитектурные ансамбли с массой бульваров, парков, скверов, а также выведение всех вредных производств за городскую черту.
Не случайно, элементы архитектурных ансамблей, такие как скульптура, в том числе, и конкретная скульптура "Играющих собак" практически исчезли из современной жизни, за редким исключением. В каталоге Кенигсбергской скульптуры, выпущенной в Германии в 1970 году, о работе Эриха Кестнера было написано, что ее судьба неизвестна.
В то время, когда занимался "Играющими собаками" в нашем институте еще не было кенигсбергского проекта, и у меня было много времени, чтобы решать дела, имеющие, как полагал, общественную значимость. Не дожидаясь решений и постановлений, побывал в гостях у родственников прославленного генерала Соммера, в том самом особняке, где когда-то он жил, и, когда, спросил правда ли, что знаменитые "Собаки" когда-то были доставлены солдатами Красной армии в качестве военного трофея вот в этот дом, не молодая уже женщина, но, как мне показалось, состарившаяся раньше времени ввиду ее пристрастия к алкоголю, повела меня, взяв за руку, как своего брата, к сараю, во двор дома. Распахнув дверь курятника, увидел тех самых бронзовых "Собак". Они стояли под толстым слоем куриного помета. Спросил, почему их не поставят где-нибудь в доме.
"Там сейчас уже негде. Места не хватает... Не могу я "Блютнер" вытащить в курятник, а их поставить, - ответила женщина, имея ввиду старый немецкий рояль, занимавший большую часть ее комнаты. - Он сгниет здесь за одну зиму. А собаки - бронза, с ними ничего не случится".
Эта женщина была, возможно, вдовой генерала Корнелией Даниловной, которая после давления общественности, поднятой в прессе, сама позвонила в музей и предложила купить у нее скульптуру. Это было понятно, ведь в отличие от знаменитого генерала, она уже не являлась полновластной хозяйкой особняка, где можно было спокойно хранить скульптуры и другие ценные вещи трофейной коллекции. Она разделила его во время, так называемой, политики уплотнения, с другими хозяевами, когда в период заселения Восточной Пруссии выходцами из центральных регионов России и других советских республик, был установлен новый размер социальной нормы жилья. Она жила в одной комнате на первом этаже, в которой кроме пианино "Блютнер" стаял большой круглый стол со стульями, у окна была большая кровать, на ней небрежно лежал скомканный плед, а с другой стороны, за столом - красовался буфет с посудой и открытками. Вся утварь была немецкой, оставшейся от прежних хозяев, живших здесь еще до войны, и поэтому эти вещи представляли собой некую антикварную ценность. Скульптура же, обнаруженная мною, о чем затем рассказал в докладе, представляла собой ценность, как произведение искусства.
Когда же широкое применение получила политика гласности, экспонаты трофейных коллекций стали превращаться в общенародные ценности. "Играющие собаки" тому яркое подтверждение. Вообще, таких скульптур, как мне сказала женщина, показавщая "Собак", было три(Кестнер создал их очень похожими друг на друга, они отличались лишь незначительно положением фиугр). Одна из них украшала кенигсбергский зоопарк (это удалось подтвердить с помощью фотографий, сделанных дочерьми директора Кенигсбергского зоопарка еще до войны, на которых были изображены "Играющие собаки", стоящие в сквере), и, соответственно, они являлись городской ценностью, принадлежащей народу. Но две других были уничтожены во время штурма, и с грудой мусора затем, вероятно, вывезены на свалку. Сохранившиеся в единственном экземпляре, благодаря генералу Соммеру, "Собаки" выкупила все-таки местная галерея, которой, кстати, теперь руководила мадам Рыкина. Тогда ее и в помине здесь не было.
Сегодня можно лишь представить, как разворовывался один из красивейших городов Европы после штурма. Это воровство носило узаконенный характер. Например, красный кирпич Королевского замка, представляющий собой ценность, как образец строительного материала Средневековья, взорванного как немецкое бельмо в глазах советского народа, был отправлен в Ленинград на восстановление разрушенных там домов в рабочих кварталах. Картины и дорогие сервизы из фарфора и серебра, ковры, постельное белье и мелкие предметы, спрятанные во дворах, драгоценности, обнажившиеся с приходом оттепели, все, все - увозилось с собой в Москву и Ленинград, а здесь оставалась лишь нищета и убогость пустыря, созданного после расчистки города от руин.
4.
Придя домой из больницы, где лежала моя мать, был раздосадован тем, что в коридоре наткнулся на ведро со швабрами, забытое сотрудниками уборочной компании. Признаюсь, что их уборка не была идеальной, было еще много ненужного хлама, пыли, и как-то от того, что вызвал домой уборщиц, не стало легче. Утром позвонил в уборочную фирму и высказал свое разочарование тем, как плохо убрано в квартире.
В обед вновь пришли уборщица Клава и ее дочь, завершать недоделанное. Они толкались и ругались друг с другом, постоянно подначивая словами: "вот придет хозяин, он тебе покажет", не выдержал:
"Хозяин - это я, - произнес громко и внятно, чтобы не делать это повторно. Произошла немая сцена. Мать и дочь испуганно замерли в тех позах, в которых были - мать - на коленях, моющая пол, а дочь, промывающая люстру, стоя на табурете. Но все же произнес повторно, что являюсь хозяином этой квартиры, и в комнате стало удивительно тихо. Никаких вопросов, только - плеск воды и кряхтение женщин, усиленно выполняющих свое дело. - Ну, вот так лучше".
Мое заявление о статусе, изменило поведение женщин. Клавдия стала часто ходить мимо меня, заискивающе улыбаясь и пристально заглядывая мне в глаза, а ее дочь, как-то успокоившись, стала размеренно выполнять свою работу, повернувшись ко мне спиной.
Когда все было завершено, Клава решила заставить меня заплатить ей, как за еще один день работы, потому что, как она выразилась, квартира была большой, и в ней было много мусора. Не задумываясь ответил, что квартира - самая обыкновенная, и что вчера за все заплатил, и, когда женщины уходили, одеваясь, дочка произнесла "жмот" - в мой адрес.
"Почему это жмот, - не меняя тона, продолжил, показывая, что не только все вижу, но еще и все слышу. - Насколько понимаю, чаевые здесь не предусмотрены. А то, что вы сделали, можно было бы сделать и за один день, и вы бы имели хороший заработок. Это ваша вина, что было много недоделок".
"Ну, вы нас извините", - ответила Клава автоматически, ничего не вкладывая в свои слова, потому что думала она, конечно, иначе.
"Может быть, вы оставите свой телефон... и будете прибирать здесь у меня, минуя фирму, - из жалости предложил, надеясь этим еще и заинтересовать женщин, - тогда вы больше заработаете. У вас же бывают свободные дни?"
Клава поставила на пол свои причиндалы, и взволнованно стала поправлять платок и куртку:
"Ну, как... нам нельзя так. Вы ведь можете... опять... позвонить".
"Не бойтесь".
Клава с дочерью стали приходить ко мне по моей просьбе, чтобы убраться в квартире моих родителей, и каждый раз открывал что-то новое в этих женщинах. Они были католиками, и это не только не оттолкнуло меня от них, но и наоборот, привлекло. Больше меня интересовала дочь Клавдии Наташа, потому что она была очень красивой. Никак не мог определить ее возраст. Иногда мне казалось, что ей уже больше двадцати лет, и тогда начинал разговор с ней, но ее детское лицо (она не пользовалась косметикой) словно опровергало это утверждение, и мне казалось, что ей нет и четырнадцати. Заинтересовываться детьми - не мое амплуа, и это меня сдерживало в развитии отношений, так как Клава, конечно, меня не интересовала не потому что была уже не молодой, а потому что была замужней, а беспорядочных отношений не приемлю.
Наташа была дочкой от первого брака. Ее отец - военный, погибший в Афганистане, и она говорила о нем, как о самом лучшем человеке на свете, признаюсь, разделял ее гордость за предка, потому что вообще ценю уважительное отношение к родителям, но понимал, что тягаться с ним мне не под силу, что навсегда он останется главным мужчиной в ее жизни. В какой-то момент мне казалось, что этот светлый недосягаемый идеал ее отца - путеводная звезда, освещающая путь ее жизни, и мне даже нравилось так думать, так как на этом светлом пути сейчас был я, хоть и в качестве работодателя. Но именно это обстоятельство меня и обнадеживало, так как Наташа, живущая под звездой своего предка, на самом деле, будет долго искать счастья, но это счастье должно найти ее саму. Молодые люди, как правило, не задумываются над этим, уверенные в своей мужской силе, и желающие, чтобы девушки бегали за ними по пятам. Таким когда-то был и я, и позже вырос в эгоистичного человека, убежденного в том, что мою жизнь может украсить только "женщина на миллион". Теперь, после смерти отца, иначе смотрел и на себя и на окружающих, найдя в себе то естество, которое было заложено природой.
Приходя домой, и, ощущая запах этих женщин, которых перестал рассматривать, как сотрудниц уборочной фирмы, - чистый, свежий, легкий, с примесью лаванды и вот даже так - поджаренного лука, мне становилось хорошо. Они дарили мне уверенность в завтрашнем дне, и втайне стал даже ждать их прихода, но где-то подспудно ловил себя на мысли, что мне просто не хватает того семейного счастья, которое есть у миллионов людей, когда сидя за рождественской уткой, они обмениваются подарками.
Разгуливая по комнате, придумывал что подарить этим женщинам, подчеркнув мое к ним хорошее расположение, так как скоро должно было быть православное Рождество. Несмотря на то, что после смерти моего отца, во мне произошли внутренние перемены, они все же не были такими уж глубинным, чтобы могли заставить меня отмечать не православное, а католическое Рождество, тем самым сменив веру. Хотя часто стал задумываться над тем, для чего существует эта нелепая разница между православными и католиками, которые верят в одного Бога. Думаю, что должна быть проведена церковная реформа, чтобы разные ответвления Христианства хотя бы имели общий церковный праздник Рождества, потому что не может человек, пусть даже такой как Христос, в котором воплотился Бог, родиться дважды(в этом нет смысла) - в декабре, а затем еще и в январе. Значит, чья-то церковь лжет, и мне не хочется думать, что это делает ни та церковь, куда хожу причащаться, ни та, где это делают другие. Даже, что касается Пасхи, могу предположить что со временем здесь возникла какая-то путаница, и Бог мог действительно воскреснуть в любое время - и в мае и в апреле, и дважды и трижды, потому что это уже не есть суть, а есть лишь детали, которые подчеркивают весь идеализм человеческой жизни, совершенствующейся благодаря собственному сознанию. Но Рождество Иисуса Христа должно быть доказано учеными и занять в Христианстве единое место.
5.
Я вернулся домой около десяти, после унизительного нахождения в больнице, куда положили мою мать с переломом ноги, и был поражен, как чисто и тихо в квартире. Даже, не включив еще свет, почувствовал какие грандиозные перемены произошли в квартире в то время, пока, бегая за санитарками и прося их убрать за матерью, а также помочь мне поменять памперс, сражался с холодной отчужденностью нашей забитой медицины. Теперь в чистом зале было не просто уютно, здесь висела белоснежная тюль, которую Клава и ее дочь постирали и выгладили, пахло ландышем от благоухающего в розетке, принесенного ими же, освежителя воздуха. Кафель на кухне и в ванной сверкал, а каждая ложка и вилка столовых приборов были вымыты и аккуратно разложены в новом пластиковом ящике, который, видимо, был куплен специально для моей кухни. Можно долго перечислять то, что было выполнено, при этом, отметив творческий подход, венцом которого была ваза с цветами в пустой спальне, но нельзя не сказать, что испытал, достав наконец-то из кладовой, где также был идеальный порядок, большой китайский шерстяной ковер, который купил пол года назад, но ввиду захламленности квартиры, не осмеливался его стелить.
Лежал на ковре, счастливый от того, что смог все-таки превратить убогую, разбитую квартиру моих родителей, в место, где может быть все - и даже счастливая жизнь, и смотрел в стеклянную балконную дверь, туда, где еще год назад был ненужный хлам, а теперь стояли горшки с кустами самшита, а сквозь узкую щель балкона был виден светящийся в ночи Кафедральный Собор Кенигсберга, и думал, что созданный нами мир - есть наша суть, каковы мы, таковы дома в которых мы живем, музеи, в которые мы ходим, школы, в которых мы учимся, больницы, где приходится нам лечиться. Квартира моих родителей, увы, теперь имела преимущества перед тем, с чем приходилось мне сталкиваться.
Ходил в больницу к матери. Она лежала в хирургическом отделении, в котором из родственников выуживали деньги, а сама обстановка ввергала в уныние, так как здесь были пошарканные стены, оголившаяся электропроводка, разорванный и задранный во многих местах линолеум, стояли тележки с грязным бельем и мешками с мусором, дурно пахло, а, чтобы сходить в туалет, нужно было брать с собой газету, чтобы прикрываться от посторонних глаз, так как унитаз был виден из окон туалета, через перегородку которого, кстати, было еще и слышно, как санитарка моет ведро в соседней комнате. Все видеть это было странно, потому что знал, что на медицину выделялись огромные деньги, но она влачила нищенское существование. Не случайно мою мать не стали держать в больнице больше двух недель, и выписали, пригрозив мне вызовом милиции в случае, если откажусь. Эта угроза меня не просто озадачила, мне стало стыдно за тех людей, которые вынуждали врачей вести себя таким позорным образом.
Привез мать в квартиру, где все теперь было иначе, и мое ощущение счастья стало еще большим, потому что мать, хоть и лишенная здравого рассудка, сказала, что ей все очень нравится, особенно, белые потолки, которые просто не могут быть потолками в той квартире, где она прожила всю жизнь. Но человек быстро привыкает к хорошему, и, лежа в кровати в детской, где когда-то умер мой отец, она иногда спрашивала, какого цвета обои в зале или кто готовит на кухне, потому что пахнет очень вкусно.
В один из дней на мой домашний телефон позвонила Вайле, что меня удивило, так как не предполагал, что она не только может знать этот номер, но и позвонить. Она набрала номер телефона, потому что накануне Нового Года отправил на ее мобильный SMS с поздравлением. Отправил это сообщение, сидя на стуле в хирургическом отделении городской больницы, где нужно было вместо санитарок, присматривать за матерью. Вайле, наверное, прочла его в каком-нибудь московском клубе. Она трудилась в эти дни, делая там свои шоу, и , естественно ей было не до меня. Но, когда праздничный ажиотаж спал, она вспоминала обо мне, и ей захотелось себя немного повеселить. Вайле тихим голосом, тон которого говорил о ее успешных заработках в новогодние праздники, жаловалась на усталость, на одиночество, которое ее донимает, так как рядом с ней нет понимающего сердца, интересовалась не планирую ли я приехать в Москву...на какой-нибудь симпозиум или конференцию. Скрыл о том, что ушел с работы. Взволнованно отвечал на ее вопросы, стыдясь, что иногда заикаюсь, говорю невпопад и не то, что надо, но, когда она стала хвалиться, что купила себе новый просторный дом с видом на океан, как-то запросто произнес, что у нас ведь нет нигде океанов, только - моря, похожие на бульон в тарелке. Как точно угадал - таким жиденьким бульончиком была наша странная платоническая любовь, напоминающая не понятно что, - некий поединок между мужчиной и женщиной. Телефонный звонок - которого ждал, казалось, целую вечность, мне теперь был не интересен и обременителен. Даже звезды гаснут в нашем сознании, если они лишены жизни.
"Нет не планирую, не знаю, когда вообще буду теперь в Москве", - мой ответ ни сколько не расстроил Вайле. Это чувствовалось по ее интонации. Она звонила в провинцию, дабы просто потешить себя, и, видимо, искренне радовалась, когда, заикаясь ей говорили что-то невпопад. Разговор не получился еще и потому, что солгал, что встретил другую женщину. Почему-то перед глазами мелькнул образ Наташи.
Сразу после праздников направился в социальную службу. Несмотря на то, что у меня были сбережения, считал необходимым оформлять субсидии на родительское жилье. Деньги эти были не большие, но тем не менее давали хоть какую-то гарантию при оплате коммунальных услуг в период финансового кризиса.
В социальной службе не было очереди, что меня немного подбодрило. Сотрудница этого заведения, взявшая документы для оформления субсидии, была на редкость вежлива. Это была женщина пятидесяти лет, в теплом шерстяном костюме бежевого цвета и такой же светло-бежевой блузке. На ее груди красовался бейджик с именем Алла Николаевна. Ее полные проворные пальцы быстро пересчитывали, необходимые для оформления, документы. Ввиду того, что в помещении было пусто, она, делая пометки в компьютере, откровенно рассказывала о том, что ее брат находится под следствием из-за смерти семидесятипятилетней матери, в чем его обвиняют следственные органы, так как на теле старушки были обнаружены синяки и ссадины, а также гематомы на голове. Ее брату Алексею грозило 15 лет тюрьмы, потому что следственные органы, которые представляла помощник прокурора района, государственный обвинитель некая Ольга Руднева, посчитали, что пожилая женщина не могла сама нанести себе такие травмы.
Слушая рассказ представителя социальной службы, изучал ее уставшее, немного испуганное лицо, понимая эмоции, которые испытывала эта женщина, так как моя мать совсем недавно сломала себе ногу, и когда она упала, она еще вывихнула себе плечо, а также ударилась головой о плитку на полу в кухне, и вот, если ссадина на голове у нее появилась сразу, то синяки на теле четь ли не через неделю. Причем, синяков было достаточно много. Но, я-то хорошо знаю, что не то что не толкал мать, и уже тем более не бил, а даже пальцем ее не трогал, так как в это время был в Сбербанке. Сотрудница социальной службы сетовала на то, что следственные органы обвиняют ее брата Алексея в преднамеренном убийстве. Чужая история была изложена в газете, вырезку из которой мне показала Алла Николаевна. Прочитав статью, написанную мало кому известной журналисткой с многоговорящей фамилией Заливалова, возмутился не тем, что чьего-то брата обвиняют в убийстве матери, что это делается без доказательно, с подачи органов прокуратуры, фигурирующих лишь показаниями соседей, что-то слышавших за стенкой чужой квартиры, а тем, что делается все это до суда, а, значит, с целью - повлиять на представителей Фемиды. Вторая сторона никак не была представлена. Ни заявления адвоката, ни мнения родственников, ну, и, конечно, - никаких журналистских выводов: голая позиция прокуратуры.
"Вы знаете, не берусь судить вашего брата, потому что - не суди, да не судим будешь - знаете такую поговорку, но у меня ситуация такая же как у вас - моя мать стара, и может быть она уже никогда не встанет на ноги из-за того, что она очень слаба. Правда, она жива, и слава Богу! Но меня лично вот эта статья в газете взволновала больше чем ваш рассказ, потому что у вас есть шанс нанять хорошего адваката и вы, конечно, выиграете дело, - сказал без ложного кокетства. - А что делать вот таким людям, как я? Прочитав эту статью, извините, мне страшно домой возвращаться. Вдруг моя мать встанет с кровати, упадет, ударится обо что-то и, не дай Бог, умрет, меня, что за это должны будут посадить в тюрьму? А ведь я всячески забочусь о ней - исправно оплачиваю ее квартиру, каждый день(каждый Божий день) на протяжении многих лет хожу на обед, чтобы покормить ее, сам не обедая при этом, убирая за ней, простите уж, дерьмо, обстирывая и обслуживая ее, как малого ребенка, и при этом, напрочь забыв про свою личную жизнь. Наверное, уже смирился с этим".
Переведя дыхание, и сняв пуховик, продолжил, увидев искренней интерес со стороны сотрудницы социальной службы Аллы Николаевны к моему мнению.
"Я бы спросил эту журналистку, что делать нам, сотням, а может быть тысячам людей, которые вынуждены ухаживать за пожилыми родителями? Бросить их на произвол судьбы, как это сделала моя сестра, которая устранилась от ухода за отцом и за матерью, обвинив меня в том, что я украл деньги отца, и сейчас обвиняя меня в том, что я, не предоставив ей ключей, не пускаю ее в дом к матери. При этом, она ни разу не появилась на пороге этого дома! Вы уж извините, не имею ввиду вас лично, но у меня вот такая ситуация, и получается, что, случись что с моей матерью, еще буду во всем и виноват. Вот, что делать таким как я?".
"Ну, вы же пускаете свою сестру?" - Отложив мои бумаги в сторону, спросила сотрудница социальной службы.
"Готов это сделать незамедлительно, только вот никто не приходит. Мне жаль мать. Взвалил на себя ношу, продолжаю уход за ней. Только теперь мне стало еще сложнее, так как она слегла, сломав ногу, и честно, боюсь, что, когда она поднимется, то может вновь где-то упасть и еще раз разбить себе все. Ведь у вас - тоже самое?... А что потом? Когда ее переодеваю, меняю грязные простыни, ну, и так далее, она визжит, как поросенок. Наверное, соседи все это слышат, и думают обо мне ужасное, но вот вы придите и посмотрите: я забочусь о матери всей душой, потому что она не способна ни накормить себя, ни сходить в туалет. Мою ее пальцы, стригу ногти, протираю спину водкой от пролежней. Это тяжелый труд, о котором в нашей стране никто ничего не желает знать. А думают лишь так: ухаживает ряди квартиры".
"Мне искренне жаль вас, - ответила сотрудница социальной службы. - У всех людей похожие проблемы. Я оформила вам субсидии как и раньше. Извините уж и вы меня, что свои проблемы тут вам навязала. Желаю вам всего самого хорошего".
По дороге домой еще раз вспомнил газетную статью с обвинениями следственных органов в адрес некого Данилкина(фамилия, конечно, была изменена). Он, как утверждала журналистка, принес домой бильярдный стол, чтобы играть в бильярд. Эта деталь ставилась в вину Данилкину, потому что - раз бильярд - значит разврат. Ну, как в поговорке: "сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст". Это было еще не самая крутая фишка гневного обличения. Заливалова была возмущена еще и тем, что к Данилкину приходили дружки(так было написано в газете - "дружки"). Мне лично всегда хотелось поиграть в бильярд, но как-то вот не довелось. Фамильярная Заливалова была возмущена и зла, а мне становилось весело от того, что банальные вещи кого-то могут злить. Назови "дружков" другим словом "гости", и вся картина будет выглядеть иначе. Разве к Заливаловой не приходят гости, или, простите, выражаясь ее языком - дружки? Ну, да, ладно. Смешно было не это, а то, что, сообщив, что Алексей, уйдя с работы, чтобы ухаживать за матерью, был вынужден жить на военную пенсию и пенсию матери. В статье все это было изложено с долей сарказма. Слово "жил" там была заменено на "шиковал", а слово "ухаживал" на "паразитировал". То есть звучало все примерно так - "Алексей, уйдя с работы, паразитировал за счет своей матери, шикуя на ее пенсию". Пенсия моей матери - 2 тысячи 600 рублей(это теперь уже меньше 100 долларов), наверное, такая же пенсия и у матери того самого Данилкина, которого хотели посадить на 15 лет. У военных пенсии тоже маленькие - что-то около 4-5 тысяч рублей. Коммунальные услуги за оплату жилья составляют сейчас примерно 3 тысячи рублей, а прожиточный минимум двух взрослых людей(то есть то, что нужно купить, что бы не умереть с голоду) - где-то 12 тысяч рублей в месяц. Вот такая арифметика про страну с 60-процентами сырьевых ресурсов мира. Можно ли было шиковать на те деньги, которые платило государство этим несчастным людям?
Когда я зашел к себе домой, и, по просьбе матери принес ей стакан воды, вспомнив обличительное "шиковал не ее пенсию", вдруг громко рассмеялся и моя мать, как-то пристально посмотрела на меня - словно она была в полном здравии и светлой памяти. Ходил по квартире и истерично смеялся, повторяя "шиковал на ее пенсию". Но этот приступ смеха быстро прошел, потому что на самом деле - все это было бы смешно, если б не было так грустно.
6.
Рано утром пришла Наташа. Ее мать отправила ко мне, потому что их семье понадобились деньги, и девушка попросила у меня убраться, на что ответил ей согласием, хотя в квартире было чисто. Моя мать спала, было необычно тихо.
"Я в кровати еще, ничего? - Сказал, зевая, поправляя пижаму и разглаживая волосы. - Там, на кухне, посуда - в раковине. Захотите кофе, в нижнем ящике. А я посплю, ладно? И да, еще - на телефонные звонки не отвечайте... и не убирайте в детской. Да... в спальне засохшие цветы в вазе... Вы мне не помешаете, если выбросите их".
Наташа очень обрадовалась тому, что ее пустили в столь ранний час, потому что, видимо, не рассчитывала на это, и как только вошла и разделась, сразу же принялась что-то мыть и чистить, хотя, минут через десять сквозь некрепкий сон почувствовал запах кофе. Крутясь в постели, пытаясь заснуть, думал о том, как отреагирует Наташа на вопросы моей матери, которая, скоро проснется и, конечно, начинает донимать ее. Девушка же, ничего не знающая о том, что в доме появился еще один человек, выпив чашку кофе, принялась мыть посуду. Она старалась делать это тихо, чтобы не мешать, но у нее часто что-то падало из рук, и она, когда на пол падала ложка, попросту замирала в ожидании, боясь недовольства хозяина. Мне же было интересно чувствовать легкое волнение Наташи, думающей, что она находится в квартире с мужчиной, который может быть не безразличен к ней, и при этом она была, наверняка, озабочена одним - как выбросить засохшие цветы из вазы, стоящей в спальне. Войти в комнату, где спит одинокий мужчина, было для нее, и это чувствовалось по ее крадущимся передвижениям по квартире, верхом неприличия, но она это сделала.
Тихо приоткрыв дверь, она медленно осмотрела комнату, затем, увидев мои закрытые глаза, которые быстро зажмурил, сделав вид, что сплю, на цыпочках пробралась к окну, где на комоде стояла ваза. Наташа взяла ее, но не рассчитав вес, уронила на ковер и ойкнув, стала резкими движениями собирать разлившуюся воду. Мне было не ловко, но все же открыл глаза.
"Вот, вазу уронила, - тихо сказала Наташа, подняв ее вверх, и увидев трещину, произнесла почти плача. - Извините, пожалуйста".
"Ну, что вы такая неряшливая! - Крикнул с досадой. - Руки забыли себе приставить...к своим тонким плечам. - Намек на женскую фигуру вверг меня же самого в некое замешательство и крикнул еще громче, чтобы здесь все убрали и шли на кухню. Но Наташа, увидев порез на своем пальце, потеряла сознание. Есть тип людей, которые теряют сознание от вида собственной крови. Такой была Наташа. Несколько раз щелкнул ей по щекам ладонью, привел в чувства, и переложил на кровать. Расхаживая по комнате в поисках веника и тряпки, думал, что произошла нелепая ситуация, которая меня все же веселила. Пока Наташа отлеживалась в спальне, сидел на кухне, потягивая кофе, и думал, что жизнь непредсказуема и полна сюрпризов.
Когда девушке стало легче, она пришла извиняться.
"Я не переношу вида крови, теряю от этого сознание, - говорила она, моргая длинными ресницами. - Извините, что разбила вазу. Я все верну, не думайте".
Мои мысли никак не касались разбитой вазы. Почему-то показалось, что Наташа может быть мне хорошей женой. Тем более, что в моей мужской холостой постели, да еще в квартире моих родителей, которую невероятными усилиями превратил в нормальное жилье, никогда не было ни одной женщины.
"Сколько вам лет, Наташа? - Сидя на кухне, размышлял о своем будущем, и, когда девушка сказала, что ей - девятнадцать, облегченно вздохнул. - Я думал, что вам нет еще и пятнадцати. Хотя иногда вы казались мне гораздо старше. - Сделал паузу, словно знал, что скажу именно эти слова. Меня внимательно слушали, потому что ждали от меня благосклонности в отношении разбитой вазы и, конечно, зарплаты за уборку. - Будьте моей женой... - Сказал, стыдливо опустив взгляд. - Это - предложение руки и сердца".
Наташа сначала не поняла о чем ей говорят, предположив, что кто-то хочет стать чьей-то женой, но медленно стала догадываться, что эту фразу сказали, обращаясь именно к ней.
"Я? - Прошептала она, полагая, что ей надо лечь со мной в постель, чтобы загладить вину за разбитую вазу, и от этого кровь начинала в ней бурлить, потому что она считала себя честной девушкой. - Нет, не могу, не буду".
Ее отказ стал для меня ударом ниже пояса, лишь позже понял причину. Протянув тысячу рублей, опустил голову, скрывая набухшие на глазах слезы. Наташа болезненно восприняла предложение, расценив его лишь как призыв к сексу. Наверное, если бы ей предложили секс, она была бы более податливой, и может быть даже, мотивируя себя чем-то(болезнью матери, скудностью средств, отсутствием хорошей одежды, ну, чем угодно), легла бы в постель. Но мне это было не нужно. Мне нужна была любовь, на которую втайне рассчитывал. Получив отказ, возненавидел себя.
Погорельские(фамилия семьи Клавы во втором браке) приехали из Саратова, потому что там, как говорила Клава, не было ни одного католического прихода. Понятно, то Наташа искала для себя мужчину своего круга. Но ведь ее отец, погибший в Афганистане, не был католиком, западного христианства придерживался ее отчим, о котором, кстати, я не знал ровным счетом ничего. Погорельские соблюдали все католические посты, ходили в церковь по многим праздникам, в том числе, и в Пепельную среду, и в страстную пятницу, часто ездили в Оливы(тот самый городок в Польше, где когда-то мне посчастливилось слушать орган в местном костеле). Вели подвижный образ жизни. Так же, как когда-то моя мать.
Понимая некоторые различия между мной и Наташей, Клава, однако, и это чувствовалось, подталкивала свою дочь к тому, чтобы наши отношения перешагнули за рамки обязательств, рассчитывая на некоторые вознаграждения в процессе этих отношений, и отчасти, поэтому она сама перестала ходить ко мне убираться. Я же для Наташи в качестве мужа был бы не достаточно подходящей кандидатурой, потому что она мечтала о гурьбе детишек и жизни вокруг церкви, мне детей не очень-то и хотелось(ну, разве что одного, чтобы было кому оставить наследство, ну, и на старости лет порадоваться счастью продолжения жнизни в потомках ), а о церковной жизни, тем более католической, просто не могло быть и речи, потому что не собирался, и не собираюсь, даже, несмотря на ортодоксальность православия, менять веру. В качестве любовника, наоборот, был бы для нее слишком хорош, так как имел неплохие доходы, был в отличной физической форме, и живя на банковские проценты, располагал массой свободного времени, и ко всему прочему не был никем обременен. Мою же больную мать, о которой Наташа пока ничего не знала, она бы рассматривала, как промысел божий, как некий крест, который нужно достойно пронести на каком-то участке жизни. Ей не приходилось бы думать, что, вступая со мной в интимные отношения, она бы кого-то обманывала, ведь, будучи незамужней женщиной, она могла бы в мыслях планировать семейные отношений со мной, и тогда никакого бы греха в ее сознании не возникало. Тем более больная мать, нуждающаяся в уходе, могла бы усилить ее значимость и снизить позыв к тому, чтобы винить себя за некую греховность. Но такого счастья, наверное, не бывает ввиду особенности человеческой натуры, стремящейся к тому, чтобы всецело владеть своим партнером. Поэтому есть институт брака, и это - самая удобная форма существования вместе мужчины и женщины.
Наташа пришла ко мне убираться через две недели после того, как разбила вазу, день в день, когда ко мне приехала Вайле.
Телефонный звонок раздался где-то около двенадцати дня. Вайле летела на гастроли во Францию из Екатеринбурга, и, делала пересадку в нашем аэропорту. У нее было свободное время, которое она решила использовать в утеху своего ущемленного самолюбия, отправившись вопреки желанию ее свиты, навестить архитектора, - у которого она, об этом знали все, хотела заказать проект бунгало( ей хотелось иметь небольшой домик для переодевания на пляже) - то есть - у меня.
Это было настоящее светопреставление. Вайле вошла в квартиру, сморщив нос и попросив открыть в комнатах окна. От этого проснулась моя мать. Неуклюжая попытка прикрыть дверь в ее комнату вызвала в ней гнев, и она стала злобно кричать, обзывая меня и всех тех, кто ходит по квартире, "содомскими проститутками". Звезда эстрады, купившая для появления в моем доме дорогой черный плащ с большими бронзовыми фибулами, расхаживала по комнатам, цокала, искоса поглядывая на меня, и прислушиваясь к тому, что выкрикивает мать, лежа на кровати в своей комнате.
"Нет, этого кошмара не выдержит ни одна женщина. - Вайле была невозмутима и холодна. - Ты соврал мне, жалкий негодник. Зачем? Хотел просто обидеть? - Вайле притворно заплакала, как вдруг в прихожей появилась Наташа. Она вошла, открыв входную дверь запасным ключом, и немного растерялась. - Это - она!? - Вайле не просто произнесла "это - она", она, встав в боксерскую стойку, выкрикнула эту фразу, словно пыталась прокукарекать, и, когда, встревоженный шокирующим поведением моей матери, сказал, соврав, "да", Вайле, размякла и присела на стул. - В твоей квартире - сущий ад, а не райская тишина... Скажи же ей, чтобы она заткнулась. Проститутки тут у нее все. Затропездник он и есть Затропездник! - Так знаменитая певица называла не мой дом и не меня, это было бы слишком мелко для нее, так она высказалась о всем городе, который ей показался слишком "провинциальным, малюсеньким и засранным". - Господи, зачем мне все это нужно было? Ах, да. Я хотела заказать у тебя проект бунгало. Но, судя по твоему уютному маленькому гнезду, и опшипанным птицам, которые в нем водятс, ты ничуть не нуждаешься в мое внимании. И так перебьешься".
Стоял, молчал, стараясь не слушать того, что кричала моя мать, требуя, чтобы открыли дверь в ее комнату.
"Что с тобой будет? - Вдруг тихо спросила Вайле. - Через пять или десять лет. В кого ты превратишься, мой милый друг? В горного козлика с бородкой на шее? Твоя жизнь - каторга. Ты не видишь этого, потому что живешь, как муравей, в большой куче дерьма, борясь с нищетой и бесправием, и ко всему, вынужденный еще выслушивать безумные песни своей умалишенной матери. Что ты будешь из себя представлять через десять лет? Раздавленное мелкой жизнью существо? Вот это - она?...- Вайле произнесла это с выражением брезгливости на лице. - У нее же ведро с тряпками в руках! И ты думаешь, что она подарит тебе счастье?"
Наташа, уловив из ванной, куда она зашла набрать воду, что Вайле говорит о ней, и постепенно догадавшись, что это - женщина, знаменитая на всю страну певица, долго не решалась выйти, но, когда услышала, что, мол, она всего боится, потому что, как когда-то говорил Достоевский(и Вайле произнесла это особенно громко), "тварь дрожащая", не просто вышла, а с грохотом вывалилась из ванной, бросив ведро с тряпками к ногам знаменитой артистки.
"Я - дрожащая? - Крикнула Наташа, встав в позу, - Это я - тварь? Ты обо мне, гадина? - Не мог даже предположить, что она бросится драться и схватит Вайле за волосы, чтобы свалить со стула. - Ну, щас, я тебя, щас".
Ее оттянули, и, она взъерошенная и раскрасневшаяся, посмотрела на меня.
"Если я тут полы мою, то это еще не значит, что меня можно тварью называть! - Сказала она грозно, не уловив нотки сарказма в голосе знаменитости, и поэтому принявшей все за чистую монету. - Мне нет ни какого дела до этой кикиморы".
Кто-то в Вайлиной свите стал свистеть, выражая свое недовольство даже не тем, что на певицу набросилась уборщица, а тем, что это произошло в моей квартире. Ждать развития ситуации в этом ключе не мог, и поэтому достаточно грубо сказал Наташе, чтобы она вышла вон, указав на дверь рукой. Тем самым нанес жестокую обиду девушке, которая, по своей сути, являясь человеком сильным, имела чистое и незапятнанное сердце.
"Да, вот это - кошка! - Встав, произнесла Вайле, когда Наташа, накинув на себя куртку, со слезами на глазах выбежала из квартиры. - Драная. - Добавила, чтобы не дарить яркие эпитеты кому попало(в ее понимании). Было видно, как пульсируют вены на ее тонкой коже, как ее сердце, которое мне показалось невероятно огромным, словно мог видеть его сквозь одежду и кожу, прыгает вверх- вниз, ища место для того, чтобы улечься поудобнее. - Ну, я , конечно...безумно рада...что навестила вас, - Вайле смотрела на меня полными кровью и злости глазами, - господин архитектор! У вас все хорошо... И слава Богу....- Она говорила задыхаясь, и казалось, что она сейчас схватится рукой за грудь и упадет от бессилия, но она продолжала и продолжала. - И, слава Богу! И матушка ваша очень добрая...Дай Бог ей здоровья... И квартира - какой великолепный вид из окна. Прямо - столица, да и только... Ну, ладно...погостили здесь у вас... Прием был теплый и дружеский, а особенно - чистый. Теперь мы поехали...Ладно? Нам тут надо кое-куда съездить...Так, в сраненький поселочек - Париж называется. Все, Фунтик! Ауфидерзейн!"
Вайле вышла из квартиры на лестничную площадку, на которой толпились соседи, желающие взять у звезды автограф, она стала их небрежно расталкивать. С лестницы, ведущей на чердак, спрыгнул фотограф и, когда он начал фотографировать, певица закричала на всех, употребляя крепкие словечки, требуя прекратить издевательство над бедной маленькой женщиной. Папарацци часто преследуют звезд в их провинциальных поездках, но не знал, что теперь, какое-то время, они будут преследовать и меня, и что через несколько дней мои фото - в незнающим ремонта подъезде дома,или же в очереди злых пенсионеров в одном из филиалов Сбербанка, или же на крыльце здания с надписью "соцзащита", или же в магазине дешевых товаров, или в переполненном городском транспорте, ну и так далее, будут время от времени украшать обложки желтой прессы, показывая и рассказывая, что бывший любовник знаменитой Вайле(кем я никогда не был) опустился ниже плинтуса, а мою легкую небритость журналисты выдадут за развитие алкоголизма(хотя, никогда не злоупотреблял алкоголем, потому что он вызывает у меня аллергию). Зато Вайле звездила где только могла, в окружении известных и знаменитых, в ослепительных вечерних туалетах, усыпанная бриллиантами, с букетами цветов - непревзойденная и действительно очень красивая. Женщина-звезда, сияние которой особенно заметно на темном фоне одиноких мужчин.
Наташа, принеся ключ и бросив его в почтовый ящик, не стала подниматься в мою квартиру, не захотела не слышать, не видеть ни мое разочарование, ни мое оправдание, ничего. Стоя у окна в зале, и рассматривая Кафедральный Собор, затыкал уши, чтобы, как Наташа, не слышать, как моя мать, лишенная рассудка, клеймила весь мир, то спрашивая про отца, когда он придет, то уточняя, кем для нее являюсь я. На какое-то мгновенье мне показалось, что мать - в полном здравии, просто у нее сломана нога и это требует от нее лежачего образа жизни, но, скоро она поправится и встанет.
Рассматривая Собор, думал, что встретив Наташу, нашел женщину, которая может изменить мою жизнь, придав ей импульс развития, потому что, конечно, моя мать, которую, не мог бросить на произвол судьбы, для нее не будет обузой, но... Женщины - создания иного мира, чем мужчины, со своей тонкой духовной жизнью, не подвластной ни одному мужчине, со своей особенной организацией внутреннего мира, более тонкого, чем у мужчины. Они словно с другой планеты. Так когда-то считала моя мать, и будучи в здравом уме, часто повторяла это, и кажется, убедила меня до такой степени, что сейчас, будучи взрослым и независимым человеком, думаю так, а не иначе, и это значит, что плыву по течению, как лист, упавший с дерева. Но думал еще и о том, что не будь в моей жизни Вайле, все было бы пресно и скучно, по крайне мере, эта женщина подарила мне ощущение избранности(невероятные ощущения для любого мужчины), богемности, поднимающей над толпой, и в купе с теми жизненными реалиями, которые открылись для меня со смертью отца, стал больше ценить себя и вместе с собой тот мир, который меня окружает. Правда, это ощущение избранности иллюзорно и быстро исчезает, как утренний туман, ни оставляя ровным счетом ничего, кроме ощущения самообмана. А остается только суть - память об отце, уважение к моей матери, любовь к родному городу. Конечно, только ты сам являешься причиной эфемерных вещей, и, значит, тебе самому следует распутывать нити хитросплетений. Невозможно даже предположить, сколько на это уйдет времени, может быть, вся жизнь, но можно уверенно сказать, что в итоге путь к самому себе - самый верный путь в жизни.
03.03.2009 г. Калининград.
Голосование:
Суммарный балл: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
Нет отзывов
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
 Трибуна сайта
Трибуна сайта Наш рупор
Наш рупор Радио & Чат
Радио & Чат



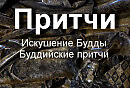





 Категории
Категории Работы на продажу
Работы на продажу