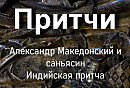-- : --
Зарегистрировано — 123 552Зрителей: 66 617
Авторов: 56 935
On-line — 23 242Зрителей: 4596
Авторов: 18646
Загружено работ — 2 125 734
«Неизвестный Гений»
Пелагея
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |

Валентина Лескова.
ПЕЛАГЕЯ.
Пелагея Христофоровна старушка светлая, шустрая, говорливая и пошутить сама над собой любит. Слушать её одно удовольствие. А самой-то не меньше сотни лет. Может и больше, кто ж его знает! Она своих годков не считает – считать до стольких не умеет, грамоте не обучена, ни годам, ни деньгам счёта не ведёт. На пальцах, правда, до двадцати счесть сможет, да и то, если разуется. Чего смеётесь? Дальше-то зачем? Только расстраиваться! Вон, соседка, Вербитчиха, бухгалтерша бывшая, извелась вся: «Как жить? Цены растут, лекарства дорожают!». А ты по лавкам не шлындай да по врачам не шастай, вот и будешь жить спокойней!
Спрашивают люди, какой секрет у Пелагеи имеется, что в её-то годы по дому так шустро бегает, да по двору ходко ходит? А с чего ж не ходить, коль ноги носят! Никакого секрета тут нету. Ну, разве что на народ не работала. Шестеро их, сестёр-то было и брат ещё. Она посерёдке родилась. Дружно жили. Но в живых одна уж теперь. В прошлом годе Настасья представилась. Она перед Пелагеей на два годочка поране родилась. Пелагея с Настасьей при мужьях домовничали, ни дня по звонку на работу не бегали. Они и не ведают, кака така "работа" эта. У них всю жизнь по дому забот хватало: поначалу с братиком да сестренками младшенькими нянчиться, потом за своими ребятишками глядеть, а уж после этого внуков да правнуков растить помогать. Ну и хозяйство, конечно, куда ж от него денешься!
Остальные молодыми поумирали: кто на шестом десятке, кто на седьмом. Вот они на народ работали! На разные труды здоровье положили. Прасковья с Натальей доярками в колхозе коров выдаивали, Фёкла всю жизнь в больнице санитаркой чужие горшки выносила, Ульяна, так та вообще на мужицком труде – откатчицей в шахте. А дома-то семьи, там про всё заботится кому? Им же. То-то и оно! Ребятишек у каждой по четверо, по трое, мужья с работы уставшие приходят, кормить надо, обстирывать, угождать. Износились сёстры, ни одна из них до правнуков не дожила. Брат тоже. Выучился, повоевать с немцем успел, раненым вернулся, в больших начальниках при колхозе ходил, нервничал, поди, много и в семьдесят помер. Шибко грамотный был, много курсов разных кончал по молодости. Любили его сёстры. Он и считать Пелагею до двадцати научил.
Раньше-то, бывало, жалела, что неграмотная. А нынче думает – вот и хорошо. Вербитчиха из-за своей грамотности то печень у себя найдёт, то почки, то ещё внутренность какую! Словно у борова, прости Господи, которого на зиму режут! А как найдёт - из больницы не вылазит! Не даром люди говорят: «Кто ищет, тот найдёт!». На свою голову! У Пелагеи этих забот нету. От больниц и магазинов Бог миловал. Много ли мало сто лет, она по цифрам не знает, а в годах - сколько Бог даст, столько и проживёт! Отпустит больше века – поживёт больше. Главное, не обезножить, обузой сыну с невесткой не стать. Он-то ещё ничего, а невестка сама хворает.
Пелагея отродясь болячек не искала, некогда было. А может потому, что поначалу далеко от больниц жила, не привыкла. Ну, а нынче и вовсе неча начинать то, к чему по молодости не приучена! Даже ребятишек дома рожала. Правда, Фёдор, муж, царство ему небесное, фершала привозил в последний раз. Семён, сынок, крупным шёл. Первых троих девок повитуха принимала. А к Семёновым родам эту Мариловчиху черти где-то по гостям носили! Шебутная старуха была, дома ей не сиделось. Фёдор лошадь запряг, поехал за ней в село, а она аж в Усолье гостит! Вот и пришлось ему в Промысел гнать! Целый день проездил зря! Только измотался, сердешный. Они в куржаках морозных на порог, а она уж родила! Благо, свекровь с вечера позвал. А этот фершал после несколько дён медовуху пил, не выгонишь!
Как же прожила, денег не считаючи? Вот так и прожила. В девках ими отец распоряжался. Потом муж. Они ж с Фёдором пол века в пасечниках на заимке прожили. Какие там ей деньги нужны? Федор зимой охотой промышлял, пока пчёлки-то в омшанике спали. По весне шкурки сдаст, по осени мёд со своих уликов продаст в городе, всегда обновку ей и детям привезёт, чего она наказала - наберёт с запасом. Ему в лавках да на базаре сподручнее крутиться. К мужику отношение там уважительней. Ну, а после Федора, сын к себе в посёлок перевёз. Чего ж ей сыновы деньги считать! Он сам купит, коль мать попросит. Да много ль ей надо?!
У них в селе школа-то была, да только Пелагею туда не отправляли. Раньше как рассуждали: мужикам грамота нужна – они добытчики. Им хозяйство вести: строиться, гвозди, скобы подкупать, сбрую для лошадей справлять, скотиной обзаводиться, с властями дела вести. Оно, конечно, можно землю пахать и без грамоты, но с ней надёжи больше, особливо с властями. Опять же за каким товаром в город по лавкам поедешь, деньгам счёт знать надобно. Купец он ушлый!
У баб забота своя – хозяина обихаживать, детей рожать, у печи пироги с хлебами печь да по дому управляться: чистоту в избе блюсти, воды из колодца натаскать, баньку истопить, семью обстирать, поесть наготовить. Ей с утра до вечера за скотиной ходить, корову выдаивать, телёнка выпаивать, свиней с курями кормить, огород полоть, мелочь там всякую садить да поливать, картошку окучивать. Ягод на зиму запасти надо, грибов насушить, на сенокосах сено поворошить, шерсти начесать да зимними вечерами напрясть. Наши зимы долгие, студёные. За них ни одни варежки ребятишки утеряют, а сколько носков изотрут! С петухами встанешь, под храп мужа ляжешь, а забот всё невпроворот!
Только этой заботы бабам и не хватало – деньги считать! Это они нынче повадились у мужиков их отбирать и хвост трубой по магазинам! Оттого в доме ругань: «Куды подевала?». «А никуды! Туды-сюды и нету!». Ну и пыль до потолка. Лаются, как собаки, аж через огород слыхать. А чё лаяться-то, коли уже профуканы? Назад не вернёшь, только распалишься попусту! Неча было волю жёнам отдавать. Благо бы только бабью волюшку-то, а то и свою в придачу! А без воли - это разве мужик? Опёнок! Сядет на стул, как на пень, и канючит: «Как дальше-то жить думашь?! Чё делать-то теперя?». Это он у бабы спрашивает! Тьфу ты, холера!
Через два двора, наискосок, Кузьминишна живёт. Не старая ещё, седьмой десяток, говорит, пошёл. Хоть и в дочери годится, но к Пелагее, как к подружке, забегает. Да лучше б не забегала! Никакой радости от неё, одни жалобы! И всё на внучкиного мужа: «Холодильником хлоп, хлоп, будто что положил туда! Внучка до вечера учительствует, по ночам над тетрадями сидит, а он целыми днями диван пролёживает!». Пелагея смеётся: «Можа, он там гнездо свил? Свои яйца высиживает. А яйца греть, чё не работа? Ишь ты! Как для курицы, так работа, а как для мужика, так безделье! Тебя, небось, на них не усадишь – в тебе ж весу, как в кадушке с водой! Внучку без потомства оставишь!». Глядишь, и развеселилась Кузьминишна.
Ну, а если без смеха, то вон оно как свою волю-то жёнам в кошели класть! С деньгами отданными и силушка уходит. А без силы какая работа? Любая в тягость. Из добытчика в просителя превращается: на надобность в хозяйстве какую, на подарок ребятишкам — всё иди к жене свои кровные выпрашивать, в ножки кланяться! Помается, помается мужик от унижения-то такого, пошлёт всё к такой-то матери и колодой на диван уляжется. Лежит и глядит потом в рот бабе: чего та скажет да в холодильник чего принесёт. Как ребятёнок малый! А бабе невдомёк, что силушку годами у мужа из карманов подчистую выгребала и довыгребалася. Злится, кричит, да всё попусту, а семью-то кормить надобно. Вот и впрягается сама, тащит телегу, деньги зарабатывает, гробится и жалуется, жалуется. А чего жаловаться, коль ума не хватило хозяина хозяином в своём хозяйстве оставлять? Нет, деньги должон мужик зарабатывать и счёт им сам вести. Он от этого крепнет. Бабу деньги портят, особливо когда их много. Она при них командиршей ходит. А какой из бабы командир? Коль и получится из которой путный, так то уже и не баба вовсе, а мужебаба какая-то. От такой в доме ни радости, ни тепла, ну и, понятно, ни силы. Какая сила в бабе? Смех один! Оттого так смешно и живут!
Ясное дело, мужик мужику рознь. Есть и такие, что грех жене у него деньги-то не отобрать, чтоб не пропил иль другие пьяного не обобрали. Ну так такого-то и мужиком грех называть. Пьяница он и есть пьяница — пропащий. Пелагею Бог миловал: в её роду мужики на водку не зарились, разве что по чуть-чуть, по праздникам себе позволяли. Ране-то, вроде, и меньше её, проклятую, глушили иль народ крепче был? Нынче вон говорят, это болезнь у них такая — водку пить. Ишь чего удумали! Оправдывают опёнков. Дорожка-то что к водке, что к чужой молодке одинаково похотью зовётся. Ну, и с каких это пор похоть заместо греха болячкой стала?
А денег за всю жизнь она разных повидала. Отец-то до смуты казначеем в ихней станице был. Вечерами, бывало, мужики придут, решают дела, ну и деньги из сундучка общего, отцом хранимого, вынимают, пересчитывают, на что-то там откладывают. А сёстры с печки глядят и Пелагея, конечно, с ними. Отец-то от ребятишек этот сундучок прятал, от греха подальше, но с печки-то царские деньги разглядывала и хруст слышала. Поиграть ими была охота, чего скрывать. Какие игрушки в то-то время у станичных ребятишек? Куклы самодельные, стёклышки от посуды битой да фантики от конфетки какой, гостями принесённой. А тут картинки! Но чтоб взять и мысли не было. Фёдор-то ничего от неё не скрывал, не прятал. Бумажки советские, тоже раскрашенные, в ящичке буфета держал, бери, коль надобность есть. А какая в лесу надобность? Всё своё. Глянешь на портретик, бывало, коль за чем в ящичек буфетный полезешь, ну и Бог с ними, пущай лежат.
Вообще-то Пелагея думает, что от этих денег и пошла зависть людская. А от зависти, опять же, болезни нападают как на тех, кого завидки берут, так и на тех, кому завидуют. Один на нет исходит: «Вот мне бы таку жисть богату, денежну!». Изведётся весь, иззавидуется заместо работы. А другому, который достатком наружу, люди злобным словом, аль взглядом кинут в спину: «У, кровопийца! На нашем горбу морду отъел!». И оба слегли: кто при кармане с дыркой, кто при злате в кошеле! И оба из-за денег! Один дозавидывался, другой довыпендривался!
Пелагеева прабабка Устинья, царство ей небесное, дольше веку прожила. Тоже годов не считала. Только зубы здоровые пальцами напоследок вытаскивала, как расшатается какой. Но сказывали, сто три года старухе-то было. А после жить, видать, надоело без зубов-то. Утром легла на лавку: «Помирать пора!». И к концу дня её нету! Пелагея это хорошо помнит. Так вот, эта прабабка ей сызмальства говаривала: «Никого не хай, никому не завидуй! Все одинаковыми Богом созданы. Хошь богатый, хошь бедный – всё одно просто человек. Одинаково в холоде мёрзнет, в жаре потеет, по нужде до ветру ходит, в сон кажный день его клонит, а коли голодный - так есть хочет, но боле, чем влезет, не съест ни богатый, ни бедный. А то, чего на него сверху надето да вокруг наверчено, чем пузо набито, так это Бог дал. Он же и спросит. Путь кажному на роду писан. Чего по сторонам-то глазеть, чужой дорожке завидовать? Лучше своей тропочкой неспешно шагать, чем по чужой обочине вприпрыжку скакать!».
Залезет, бывало, Пелагея на печку, где Устинья бока греет, устроится на тулупе и слушает прабабкины наставления заместо сказки: «Легонько, Пелагеюшка, живи, без злобы. Клянёшь жисть свою, аль хаешь чью – это ты Бога за пути им даденные осуждашь! Живёшь радостно, довольная тем, што Бог дал, глядишь, а поверх рубахи уже и тулупчик греет! А петухом по деревне кто пройдётся: «Глядите, мол, чё есь-то у меня!», ну за углом-то и раздели догола! Коль не разденут, так от сглазу пластом сляжет. Иной тройкой в богатой шубе проскачет и здоров! Так, значитца, он в голове похвальбы не держал, не за што его наказывать. Не для завидков ехал, а по делу своему. И народу от тройки с бубенцами весело, не завидно. От него же показом-то не повеяло! А который похваляться-то любит, штоб другие слюни пораспускали, тот из-за порток своих новых, али шапки заячьей, не ровён час, помереть может! Похвальбу-то за версту видать, её и сглазить легко. От неё ангелы разлетаются, брезгуют. Живи, Пелагеюшка, без похвальбы да без зависти. Всё твоё при тебе. Малому радуйся, к нему и прибудет! На чужое неча зариться! Чужое – чужому дадено, с него и спроситца!».
Пелагея свою жизнь так и прожила – ни похвальбы, ни зависти в душе не держала. Устиньину правоту частенько примечала. Вот, к примеру, два мужика строятся. Один семье на радость дом ставит - про людей не думает, чего там они скажут. Его ж семье жить! Наличники весёлые режет, деревянным кружевом крышу да высокое крылечко оплетёт, штоб жене да ребятишкам глаз ласкало. Мимо идёшь и любуешься: эко хорошо в доме этом людям живётся! А другой обзарится да и выхвалится: «Ишо красивше построю, перещеголяю соседа!». Работников наймёт, хоромы отгрохает: «Глядите, мол, у меня-то эвон какой домина! Полутче ваших будет!». Пройдёшь мимо, а радости-то в доме нету. Не веет. Глядишь, то помер в нём кто нежданно иль обезножил, то уродец какой уродился, то девка в подоле принесла, а то и пожар приключился. Аль сами домочадцы по недогляду спалят, аль люди помогут. К похвальбе-то окромя зависти да ненависти ничегошеньки не придёт!
От этой похвальбы да зависти все смуты на Руси! А с чего ж ещё-то? Одни выпендрились, другие обзавидовались! И понеслось! Это ж, прости Господи, черти придумали присказку: «На зависть людям»! Вот и началось: «Живём на зависть соседям!», «Хлеба уродились на зависть!», «Завидный жених!». Чуть у кого чего получше вышло, так сразу: «На зависть!». Ну, зависть и накаркивают. Накаркать-то чего хорошего можно? Только беду. Господь иначе учит: «Не возжелай!».
Испокон веку возжелают. Кто жену чужую, кто добра всякого, кто власти царской. Забайкалье – земля ссыльная. Народу много перебывало. Любил царь-батюшка им тут за провинности сопли морозить! Какие мужики после ссылки на поселении оставались, так разные россказни сказывали, за что их сюда пригнали. Особливо, которые за политику. Пелагея, ещё девчонкой, краем уха слыхала россказни эти. Какие бы умные слова они отцу не говаривали, а всё одно ей на печке понятно было: у одних есть, у других нету. У которых есть – надо поотобрать и отдать тем, у которых нету! Вот и вся политика. На зависти устроена.
Большаки царя-то за што скинули? На власть царскую обзарились! Разбойничать им по малому на большаках надоело! Зять приезжает, начинает доказывать Пелагее, что были это вовсе и не разбойники с большой дороги! Истории ребятишек учит, а не понимает - недаром же большаками-то назвались! Не за своим добром с кистенём пошли! Народ смутили, за собой кликнули поразбойничать. На мужицкой зависти сыграли. А наш мужик покуражится любит, токмо позови! Кто карманы набить захотел, кто земельки урвать поболе, кто от работы привычной отдых получить, кто от нищеты бежал, а кто и за властью. Двинулись скопом богатеев трясти!
Оно, конешно, не все дурны-то были. В Забайкалье, к примеру, в ихней казацкой станице, больше мужиков поначалу по домам сидело: чем богаты, тем и рады. Но зависть – штука злая. Она токмо колесо толкнула и завертелась мельница! Все туды попали: и завистливые, и праведные. Всю Рассею перемололо!
Нашим-то чего не жилось? Пелагея ещё при царе родилась. Потому и помнит. Когда смута-то началась, она уже шустрой девчонкой по селу бегала. Стояло оно тогда на берегу речки: большое, красивое, богатое. Хозяйства у мужиков ладные были. Скотиной дворы полны, дома высокие да амбары длинные. Забайкальские казаки крепко жили. Рожь хорошо родилась. Про картошку с репой и говорить неча! Земля – по колено копай, а до глины иль камня не докопаешься! Местами, конечно. Но на таких местах и селились.
Кто ж его разберёт, может только детским глазам такая красота виделась. Нонче бы глянуть, но заместо того села - ямы от подполов да бугры от завалинок. Сын сказывал: с сопки хорошо видать где дворы стояли, по буграм-то этим, крапивой заросшим. Цельное поле ямок да бугорков от сопки до речки. Как кладбище. Только посерёдке церковь маленько выпячивается стенами, какие сокрушить да растащить не смогли. Церковь-то из кирпича крепко клалась. А про казаков нынче и вовсе не слыхать. Вот она зависть-то как мельницу раскрутила!
Этим бы большакам каждому по своей прабабке Устинье на печку! Она б им с пелёнок внушила: «Хошь своё менять – меняй, но чужого не возжелай!». Тогда, может, всё и по-другому бы повернулось. Но кто ж его знает? Наверное, и у большаков прабабки-то на печах лежали, да только сами большаки на эти печки не лазали.
Но Пелагея жизнь прожитую не хает. Это мужикам неймётся – они вокруг дома бегают: то воевать убегут, то поля пахать – целину подымать, то промеж собой толковать по думам разным. А баба в доме, за стенами. Они ей и помогают. За ними, слава Богу, Пелагея не бедствовала. Три дома и сменила-то в жизни: из родительского замуж вышла, в мужнем больше полвека прожила, да после в сынов переехала. Ни в одном доме худого слова не слышала, бита не была, горе не мыкала. Повезло ей с мужиками. И родителя, и мужа, и сына Бог дал крепких, здоровых да весёлых, не матерных. Вон, люди говорят: «За ним, как за каменной стеной», а Пелагея за деревянными стенами счастливой была. За каменной-то стеной, может, и спокойней, но и холодней.
При всех пожить успела. И при царе успела, и при большаках, и при советской власти, и нынче, при демух… Тьфу ты, холера, не выговоришь! Ну, в общем, и нынче живёт, не жалуется. Зять-то, как гостит, всё её с толку сбивает. Говорит: «Большевики и советская власть – одно и тоже!». Ага, счас! А то она смуту от мира не отличит! При большаках-то мужики не один год куражились. Тогда и хозяйства порушили, поубивали, повыкосили друг дружку, больше, чем германец в ту войну. После большаковского-то месива мало какая забайкальская станица поднялась.
А при совецкой-то власти тихо стало. Собрались в кучу мужики, которых не постреляли, да которые на заработки по приискам не разбрелись. Сеяться начали, порушенное поправлять, колхозничать. Оно, конешно, житьё победнее и поскучнее началось - заместо станиц деревеньки остались, да и то не везде. Дома хозяев, которых в смуту побили, раскатали кто куда. Покрепче брёвнами – на прииски свезли, там поставили старателям на жильё, а домишки похуже – на дрова. Не один год Забайкалье станицами-то топилось. Успокоилась округа. Грех жаловаться, опять ладно зажили, не христарадничали, слава Богу.
Может и поправились бы получше, до прежнего, да тут другая напасть – немец. Вот, опять же, зять талдычит: «Немец и германец – одна нация!». По его книжкам может и одна, а по Пелагеиным думкам – разная. Германец-то в перву мирову зачем на Русь пошёл? Цари промеж собой испокон веку за землю дрались. Откуда знает бабка тёмная? Так старики в станице сказывали. От них и слыхала, что германец шел без лютости. Послал его ихний царь у нашего царя земельки урвать, а куда мужику-германцу подневольному деться? Не царь у них был? А всё одно! Власть-то царская аль нет – она как лом для всех мужиков, а супротив лома нету приёма. Доля такая мужицкая. Кажный за свою семью боится: и русский, и германец. Хоть и ничего хорошего им от драки ждать не приходится, но куды денешься?! Бьют друг дружку по необходимости.
А немец лютовал! Злобился да зверства всякие учинял. Шибко он Рассею ненавидел. Мужики, которым Бог дал с энтой-то, второй мировой, возвернуться, таких страстей понарассказывали! Да и Фёдор, царство небесное, своё отвоевал. Добровольцем ушёл, как только прознал про немца-то. Не захотел на заимке отсиживаться, а уж в ту пору и седина кой-где просвечивала. Хоть и не любил он про те времена вспоминать, а нет-нет да и обмолвится. А зять: «Одна нация!». Нация-то одна, да души разные.
Пелагея над мужем всю войну венец обережный держала, молитвою да верой своею берегла. Не убили, не поранили, хоть и пешим ходом по войне шёл. Оно может и к лучшему, что пешим: заберись Фёдор под железо и слетел бы венец. Кто ж его знает, хватило б силы у молитвы Пелагеиной сквозь железяки-то пробиться? Её ж немногим молитвам матушка обучила. Когда ей было учить поклоны-то бить? Полон двор детей, хозяйство, а потом разруха. Но веры крепкой покойница была – иконы при большаках из красного угла не убирала. «Тёмной» её называли. Это матушку-то! Да она до смерти добротой светилася! Матушкина вера до сих пор живёт, а где большаковская-то нынче? Сгинула вместе с большаками! Вот и рассуди, кто «тёмный» был?
Пелагея всю жизнь сама молитвы складывает. Сядет, поговорит с Богом как умеет. Душа-то знает слова божьи, чего ж их наизусть заучивать? Они в ней живут. Как Пелагея себе Бога представляет? А чего ж его представлять-то, когда всё вокруг он и есть! Словами Господа не опишешь, а куда ни глянешь, в любом творении мудрость его великую узришь. Душе слов не надобно – она сама их найдёт, радостью наполнится и возликует.
Пелагея по пустякам-то никогда Бога не беспокоила, со своими «дай, дай» не лезла. Он и так каждому даёт столько, сколько по силам вынести. И радости, и горя да и чего другого - всего по силам. А уж от людей самих зависит кто как этим распорядится. Один поблагодарит, другой возропщет. Пелагея сверху даденного ничего не просила и на дарованное не роптала. Зачем Бога гневить? Ему сверху виднее, чего ей тут внизу надобно. Ой, нет, соврала, прости Господи! Запамятовала. Просила. Помощи-то на фронте мужу и за ребятишек, коль болели когда, ну и так, изредка, по молодости, если уж самой невмоготу справиться. Но чтоб сверху своего добра выпрашивать иль наказания для кого-то — это никогда. Упаси Господи! Он сам знает кого карать, а кого чем одаривать, неча старухе неграмотной в его дела со своими подсказками лезть.
Зря большаки церкви-то порушили. Мешали они им разбойничать. Это, поди, чтоб супротив их в набат не ударили! Бог их и наказал — постреляли по лагерям друг дружку сказывают. Иль кто другой пострелял? Вона оно как! Выходит всё одно - друг дружку изничтожали. Но хорошо бы только сами себя, а то невинных заодно. Опять же подумаешь и выходит, что без наказания-то никак нельзя было. Это ж какое терпение надо Господу иметь, чтоб не карать народ не крещёный, не венчанный, не отпетым отходящий?! Сколько же после смерти по Руси грешных душ из-за большаков где-то маются?! Подумать страшно.
Пелагея-то с Фёдором успели обвенчаться до того как в станице батюшку арестовали. Ребятишки тоже крещёные, но как вспомнишь, сколько помаялись с этим крещением! В ихней церкви двери уж крест накрест досками заколочены были, когда девка-то первая родилась, Полинка. Благо лето, съездили за сорок верст в Усолье. С остальными девчонками ещё хуже. Покуда проведаешь, где церковь живая, покуда в дорогу соберёшься, подводу снарядишь, аль про оказию в те места узнаешь, глядишь, подросло дитя-то, под стол само пешком ходит. А Семёна, последыша, так и вовсе сестра Фёдорова аж на паровозе в большой город крестить возила вместе со своими ребятишками. Ему уж шестой годок шёл. Но хоть и помаялись, а свой долг исполнили, всех под защиту Господу отдали. Молитвам, правда, не обучили, ну да они сами потихоньку обучались, когда припирало. А нонче с молитвами-то, слава Богу, благодать. Внучка вон целую книжку матери привезла. Невестка читает, хоть и учительша бывшая, в неверующих хаживала, а состарилась и поверила.
Пелагею Бог миловал, она почти всё безверие лютое на заимке пережила, шибко про него и не слыхала даже, ну, окромя того, что окрестить негде было. Сёстры приедут проведать, понарассказывают страстей про то как Бога люди хают. Они же среди народа трутся, им про это ведомо. Пелагея поохает, бывало и поплачет, да тут же и позабудет за делами своими. А уж когда сын к себе забрал, так безверие-то, почитай, к концу шло, иконы из сундуков доставать начали. Вот Пелагея и думает, что вера из народа шибко-то и не уходила, затаилась и пережидала времена лихие. Да и таилась-то только до праздников. В пасху как красил народ яйца при царе, так и дальше красил, куличи пёк да христосовался. В масленицу кругом блины заводили, в вербное воскресенье друг дружку вербочкой секли, на Рождество девки гадать не переставали, на селе по Покрову об урожае судили. Нет, не шибко вера таилась, потому как без неё народу никак: жить-то, конечно, через пень-колоду можно, а вот помирать, поди, ой как страшно.
А Пелагея смерти не боится. Чего её бояться? Грехов, вроде, больших не наделала, врагов не нажила, а чем Бога прогневила, так это только ему ведомо — не помрёшь, не узнаешь. Ну, так коль не прибрал безвременно, видать не шибко прогневила. Она каждому денёчку радуется, который тут ей отмерен. Чего ж не пожить? При лучине родилась, при керосинке нажилась, а нонче, гляди, под потолком-то какая красота светится! Это хорошо, что до таких лет дожила: не жалко ни самой помирать, ни другим хоронить. Горевать всё одно будут, говоришь? Да ну, какое это горе: бабку столетнюю в последний путь проводить?! Так, не горе, а горюшко луковое, чего уж себя обманывать. Дай Бог до последнего дня своим ходом ходить, колодой в койке не лежать, чтоб ни самой, ни другим смерти моей не вымаливать. Да нет, я быстро помру. Откуда знаю? Родова така — соберёмся и помрём в одночасье, жилы из родни не тянем. И тебе этого желаю как до веку доживёшь!
Голосование:
Суммарный балл: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
Нет отзывов
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор