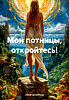-- : --
Зарегистрировано — 123 491Зрителей: 66 567
Авторов: 56 924
On-line — 10 388Зрителей: 2020
Авторов: 8368
Загружено работ — 2 124 358
«Неизвестный Гений»
Две недели с видом на море
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |

Евгений Туинов
ДВЕ НЕДЕЛИ С ВИДОМ НА МОРЕ
легкий курортный роман
из прежней жизни
История эта произошла на самом деле, и я был ей свидетель. Впрочем, кое-какие события и детали пришлось мне, разумеется, восстанавливать — отчасти по сбивчивым и порою противоречивым суждениям других обитателей Дома отдыха, возбужденных и слегка даже шокированных происшедшим, отчасти по наитию, то есть представлять и додумывать самому, но в основном я ручаюсь за правдивость и фактическую достоверность изложения, ибо самое-то как раз главное и происходило, можно сказать, на моих глазах.
Чтобы ныне здравствующие ненароком не признали себя в моих героях, как уже бывало (и не однажды) после выхода моих книг, и бесполезно не утруждались в поисках наказания для меня обращениями в суд, в Верховный Совет, Организацию Объединенных Наций или другие строгие инстанции, я нарочно изменил все без исключения имена, отчества и фамилии, так что любые случайные совпадения прошу считать именно случайными. Я даже вполне конкретный дом отдыха имени одного очень уважаемого в тех местах исторического деятеля буду называть просто Домом отдыха, чтобы, упаси бог, кто-нибудь не сопоставил время своего пребывания там с тем временем, о котором пишу я. Да и само время года, — чего уж там! — я на всякий случай, пожалуй, изменю. Ведь было же, было, когда некий гражданин Ч., усмотрев определенное сходство своей фамилии с фамилией одного из персонажей моего романа, вполне серьезно пытался подать на меня в суд, требуя возмещения морального ущерба (над ним стали смеяться сослуживцы), да, слава создателю, иск у него не приняли, а то и не знаю, чем бы все для меня у нас с ним закончилось. Или вот совсем недавно... Начинающий критик Тварьев (фамилия, разумеется, изменена) признал себя в одном из героев последнего моего романа и тут же в журнальчике поспешил объявить меня чуть ли не плагиатором, — мол, не смей писать с моей натуры! Да мало ли что кому может примститься, так что лучше уже заранее оберечься...
«...Наш самолет совершил посадку в аэропорту города Сочи — «Адлер», жемчужине черноморского побережья Кавказа... Температура воздуха за бортом плюс двадцать градусов... Температура воды — плюс пятнадцать... Желаем вам приятного отдыха!»
Потом они тихо ехали в земной тесноте аэропортовского автобуса через забранное в серый потрескавшийся асфальт сияющее под южным солнцем летное поле и по инерции, наверное, до конца не погашенной при посадке, еще смеялись собственным шуткам, — он, Игорь Николаевич Коровин, и этот крепенький, грубоватый, с настырными серыми глазками Валера, который представился детским хоккейным тренером, — но она, их белокурая, такая своя в доску попутчица Лариса, уже почему-то не смеялась. Игорь Николаевич, кажется, догадывался, почему, да все не мог остановиться, все продолжал необременительно соперничать с Валерой за внимание нечаянной спутницы, с глупым мальчишеским азартом шепотом рассказывал, склонившись к самому уху, нет, нежному, розовому ушку Ларисы, слышанный в институтской курилке сто лет назад, но вдруг ненароком всплывший в памяти анекдот про французов:
— ...Кстати, Мишель, я встретила сегодня твоего друга Поля на мосту. Он рассказал мне новый анекдот. Мы так, представь, смеялись, так смеялись, чуть с кровати не упали...
Хоккейный тренер Валера щедро заржал на весь автобус, а Лариса лишь вежливо улыбнулась, потом, впрочем, спросила, рассеянно глядя в окно:
— Ну?.. Чему они там смеялись?
— Да они же где встретились-то? — с праведным упорством завелся Валера. — На мосту! А с чего чуть было не упали?
— А-а... — догадалась, наконец, и Лариса.
Игорь Николаевич не обиделся на нее: все имеет начало и конец, и самолетное воздушное их знакомство тоже должно было чем-то закончиться. Вот оно и исчерпало себя, и уже, значит, тяготило собою Ларису, которая жила, наверное, предчувствием нового, южного, теплого, а они тут со своими бородатыми анекдотами от самого Ленинграда. Анекдоты хороши были в самолете, в продолжительном – между взлетом и посадкой — тревожном гуле турбин... Короче, всему свое время.
— И куда вы сейчас? — кажется, понял это и Валера.
— Да так... — Лариса отозвалась неохотно. — Какая разница? Уже приехали... Сейчас видно будет...
Они вышли, еще держась слабеющим полем притяжения втроем, на залитую солнцем площадь перед одноэтажным длинным зданием аэропорта, увидели пальмы, кипарисы и магнолии в вытоптанном скверике напротив, их дергали уже за рукава проворные и докучливые здешние таксисты («Сухум едем? Гагра везу! Куда надо?..»), и все это южное, чрезмерное, густо зеленое, сочное и солнечное брызнуло в глаза, в уши, в ноздри, вошло без спросу, властно и грубо, так, что Игорь Николаевич после мягкого, туманного, прохладного, пастельного Ленинграда, после серенького дождика, провожавшего их в Пулкове всего три часа назад, бившегося на бешеной скорости тонкой водяной жилкой с той стороны самолетного круглого окошка, после кепки и плаща, тяжело и потно висевшего сейчас на руке, после всего этого даже растерялся и съежился. Ему на мгновение вдруг почудилось, что пальмы эти, магнолии и кипарисы, что растут они не в земле, а в кадках, что кто-то хотел подшутить, расставив их так густо в одном месте, и что вообще так не бывает, не должно так быть...
— Пока, мальчики! — щебетнула им Лариса на прощание, и они с хоккейным тренером обалдело проводили ее глазами, упруго, бесшабашно шагающую вслед за таксистом (или частником?), и, наверное, одновременно отметили каждый про себя, как мало, нет, как вызывающе мало у нее вещей — всего-то небольшая сумочка, перекинутая через плечо.
— Ты понял, понял, да?! — горячо зашептал почему-то Валера ему на ухо, хотя Лариса отошла уже достаточно и не могла его слышать. — Да посмотри на сумочку ее!.. Ха-х! Да я ногу дам на отсечение, что кроме губной помады, купальничка и какого-нибудь пляжного халатика у ней там ничего нету! Ну, зеркальце еще, лак для когтей, зубная щетка, дезодорант... Да как она сказала-то: уже, мол, приехали. Понял?
Игорю Николаевичу, если честно, было все равно, что там и как эта Лариса собирается отдыхать, и он сказал хоккейному тренеру об этом.
— А ты не прав! — возразил тот. — Противно, знаешь ли, видеть, как наши землячки едут сюда так откровенно продаваться. Ты что, не понял ничего, что ли? Ах, море! Ах, солнце!.. Вот я, да?.. Мужик тридцати трех лет, в возрасте, как говорится, Христа, могу я взять на содержание, пусть на месяц, на две пусть недели, могу хотя бы вот и Ларису?
Лариса будто услыхала его из своего, недоступного Валере далека, махнула рукой на прощание и села в машину.
«Частник, не такси...» — зачем-то отметил про себя Игорь Николаевич и подумал о том, что этот тренер не так уж и не прав, конечно, если приглядеться, только, — как бы сказать? — только очень уж нелепо выходило, в том смысле, что он эту ситуацию как бы на себя примерил. Получалось ведь, словно он заранее завидовал тому, кто возьмет Ларису под свое крыло теплое, кому-то из здешних или тоже приезжих, у кого денег полон карман, короче, плохо, вроде бы, получалось. И Игорь Николаевич промолчал.
— То-то и оно, что не могу... — уныло и тускло заключил Валера и мстительно продолжил: — А сколько их, которые могут? Кооператоры, фарца, рэкетиры проклятые!.. Да ими все курорты забиты. Они, небось, деньги чемоданами считают! А мы с тобой свои гроши будем в кармане потными пальцами перебирать, жалкие гроши, честно заработанные. И бабы нам — второй сорт, а те, что по первому, соответственно — ноль внимания. Ты скажи, ты женат? Можешь не говорить. И так видно...
— Что тебе видно? Почему? — удивился Игорь Николаевич.
Валера ухмыльнулся, сказал:
— Я мог бы, конечно, про глаженую рубашку наплести, про стиранный носовой платок, которым ты в самолете пот со лба промокал, разыграть тебя тут, как по нотам, с понтом я — Шерлок Холмс. Все проще. Ты забыл снять обручальное кольцо! Снимай, снимай, стаскивай, тут все так делают. Только с самолета на эту райскую землю ступят — сразу холостые. Или хотя бы с правой на левую руку переодень. За вдового сойдешь!
Игорь Николаевич подумал, подумал и оставил кольцо в покое. Чего это ради? Ему и с кольцом хорошо! И он не собирается тут...
— Пошли искать свой автобус, — сказал он Валере, чтобы переменить тему разговора.
В кассу, чтобы взять билеты, пришлось выстоять очередь. Автобус на Пицунду уходил через полчаса. Повезло. Они еще в самолете выяснили, что путевки у них в один и тот же Дом отдыха.
«Наверное, и поселят вместе... — с тихой тоской подумал Игорь Николаевич, глядя на разговорившегося что-то Валеру. — Только бы он еще не храпел что ли».
В автобусе было жарко, им досталась солнечная сторона. Валера, как маленький, шмыгнул прямо к окошку, но вскоре пожалел об этом, и теперь все мудрил с мятыми, давно не стираными шторками, пытаясь организовать хоть какую-нибудь тень, да потом и оставил бесполезную эту затею, вернулся к брошенной было теме про этих нехороших женщин, которые ездят сюда с легкими сумочками, находят состоятельных сожителей и горя не знают: тут, мол, им и отдых, и машина, если повезет, и море, и прокорм бесплатный, и прочие сверхпрейскурантные удовольствия, а ты, сколько ни крутись на работе, сколько ни вламывай, сколько групп ни веди, ты себе жену-то вот так — худо-бедно — вывезти на юга не каждый год можешь позволить...
— От меня жена, можно сказать, из-за этого и ушла, — признался он вдруг бесхитростно, и даже стало его на мгновение жалко, беднягу и простака. — Ну, не она, конечно, от меня. Я сам ее прогнал. Обычное, знаешь, дело. Мы для экономии порознь отдыхать приладились. Один год я, на другой она с сыном. И вот возвращаются раз они, а сын — даром что маленький — и выдает такой приблизительно текст: мол, дядя Реваз обещал, если буду хорошо себя вести, купить мне машину. Ну, я ему: мол, хорошо себя вел, надеюсь? А сын: дядя Реваз за это на своих «жигулях» три раза прокатил. Ну, то, се... Ты ж понимаешь, что я с ней сделал! Теперь живу один. Она, конечно, все отрицала. Но тут уж отрицай, не отрицай...
«То-то ты так теперь озабочен...» — подумал Игорь Николаевич уныло.
Он никогда не понимал людей, столь бесцеремонно рассказывающих первому встречному поперечному о себе или вот, как сейчас, о своих семейных драмах, так же, впрочем, как не понимал и некоторых любвеобильных родителей, без всякой меры расхваливающих свое чадо. Он только сейчас внимательно вгляделся в этого Валеру, преющего под жарким через автобусное стекло солнцем, в его распаренное красное лицо, на котором хорошо был виден каждый волосок, каждая пора, прыщик или угорь. Нос у него был крупный, не то переломанный в хоккейных баталиях, не то с природной такой горбинкой, вполне, в общем-то, мужественный нос. И подбородок ничего себе, мощный, угловатый, с заметной привлекательной ямочкой посередке, в которой притаился уберегшийся от бритвенного лезвия скрученный черный волосок. Да и лоб был боевой, один шрам чего стоил — слева, над бровью, шрам из тех, что украшают настоящего мужчину. Вот только губы Валеру подвели, не хоккейные были у него губы, пухлые, навыворот, сочные, спелые такие губы — тронешь, как брызнут соком. И в глазах угадывалась какая-то надломленность, побитость, что ли, помятость жизнью. Или уж Игорь Николаевич перебарщивал, присочинял тут от себя, с глазами-то, зная уже кое-что о личной драме Валеры и вообще о том, чем занимался он? Хотя, может быть, оттого произошло это впечатление, что от хоккеиста Игорь Николаевич заведомо не ожидал никаких тонкостей, полутонов, — чего там: взял клюшку, завладел шайбой, шары выкатил и при к чужим воротам, — сомнение, не сомнение жило в его глазах, но словно Валера побаивался чего или о людях думал постоянно и ровно плохо обо всех. Короче, ни к чему хоккеисту такие глаза. Может, поэтому Валера и подался в тренеры? А ведь, кажется, говорил он что-то еще в самолете, что вроде бы как за юниоров когда-то недурно играл в нападении...
— А ты чего молчишь? — спросил его Валера неожиданно. — У тебя-то как? Почему один сюда? От жены отдохнуть? Бывает, бывает... Или, как и я, от безденежья? Я же алименты еще ого-го-го какие плачу!..
А Валере, значит, мало самому душой нараспашку, надобно, чтобы и другие перед ним так же выворачивались нутром наружу. Игорь Николаевич пожал плечами в раздумье, но почему-то вдруг решил не таиться, да и надо же было, наконец, что-то от себя сказать ему навстречу.
— Путевка образовалась горящая. Из обкома профсоюзов в наш профком звонили, что ли? В общем, вчера прибегают к нам в отдел: «Кто хочет в Пицунду почти задарма? Только ехать завтра...». Ну, я первый и назвался. А что? Не сезон. Никто и не позарился больше.
— Тоже, стало быть, неимущий... — по-своему рассудил Валера.
За окном проносились одноэтажные домики, по всему видно, частные, и если приглядываться, то среди голых еще садовых деревьев можно было различить, ухватить глазом на скорости «Волги» и «Жигули» под навесами. Других марок автомобилей тут, наверное, не признавали.
«Богато живут», — без всякого чувства подумал Игорь Николаевич и вдруг недалеко от дороги заметил огромный желтый шар цветущего дерева. Мимоза разве?.. Нет, быть не может! То есть, чем у них в Ленинграде торгуют по бешеным ценам крошечными, заморенными, задавленными в чемоданной тесноте веточками, — да вот же, совсем недавно и торговали, восьмого марта, — видеть в яви, в целом, в натуре, деревом.
— Ну, — сказал Валера, цепко заприметив его интерес. — У них тут деньги на деревьях растут. Разврат прямо какой-то!
Еще цвели сиреневым душным цветом, кажется, персиковые деревья, и Игорю Николаевичу показалось, что даже сквозь дорожные угарные, бензиновые запахи он уловил и аромат этого яростного цветения. За заборами и по обочинам копошились пыльные куры в жухлой, еще не омолодившейся траве, и топорщили хвостовое серо-коричнево-черное оперение на павлиний манер сытые противные индюки.
— Эвкалипты, — пальцем показал на какие-то деревья Валера и уточнил вполголоса. — Вон те, с облезлыми стволами, высокие. А вон там — заросли самшита...
Валера тут был не впервые, он об этом еще в самолете раза три сказал, так что оглядывал окрестности по-хозяйски строго, придирчивым зорким оком, словно собирался писать потом подробный отчет о своей поездке куда-то в высокие важные инстанции.
— Скоро море появится. Должно! — предупредил он Игоря Николаевича заранее, как гостя предупреждают хозяева: мол, осторожно, здесь сейчас будет ступенька, не оступитесь в потемках.
Но моря что-то не было и не было, и было приятно, что вот оно неподконтрольно Валериному «должно», что жило где-то и как-то, совсем уж близко, но по-своему, самостоятельно. Переехали две неглубокие речушки, которым явно велики были их каменистые серые русла.
— Они в дождь, знаешь, как разливаются!.. — сказал Валера, наверное, о реках.
«Прямо мысли мои читает», — подумал Игорь Николаевич, робея.
На одной из остановок в автобус зашли цыгане, — женщины и дети, — шумно, ярко, стремительно пронеслись по проходу и осели где-то сзади, поубавили громкости, почти утихомирились, лишь хныкал крошечный цыганенок на материнских руках да хрипло рассказывала что-то на своем языке одна цыганка другой.
Игорь Николаевич все ждал обещанного моря. Занервничал, видно, и Валера. Впрочем, оказалось, что беспокоит его другое.
— Вот еще народец!.. — сказал Валера осуждающе. — Заметь, сколько их на нашу голову, этих кочевников, шатунов, путешественников, живущих за чужой счет. Цыгане они или Ларисы, которым все равно, с кем, лишь бы с кем-нибудь... Да где хоть оно есть-то? Куда подевалось?
— Кого? — не понял Игорь Николаевич.
— Море!.. — проворчал Валера и нетерпеливо завозился в кресле. — Давно должно быть. Жарища эта еще тут!..
Он достал носовой платок и, развернув его, как полотенцем, промокнул красное горячее лицо. Игорь Николаевич было решил предложить Валере поменяться местами, но передумал. Да и на его месте тоже припекало.
Море открылось неожиданно и сразу широко, далеко, до горизонта, просторно. Внизу, на узкой песчаной полосе пестрели купальники редких отдыхающих.
«Загорают!..» — с восторгом подумал о них Игорь Николаевич и вспомнил своих, питерских чудиков, которые тоже норовят не упустить ни одного погожего часа.
Вода у берега пенилась и была мутно-зеленой, и в ней, как в холодном шампанском, даже плавали люди, смешно искаженные эффектом преломления, загребали руками и коротенькими ногами, а дальше цвет воды менялся, перетекал в лазурный, потом в почти синий, потом в фиолетовый, но ближе к горизонту он размывался, блекнул, и уже возле самого неба, словно тарелочная каемка, наливался золотом, — нестерпимо яркая, слепящая полоса, — и смыкался с небом.
— В марте купаются, психи, — донесся до Игоря Николаевича голос Валеры. — Вот что за ослы? До моря дорвались!..
Ощущение искусственности, всеобщего какого-то надувательства не покидало его до сих пор, и все как бы казалось Игорю Николаевичу, что вот сейчас водитель их автобуса возьмет в руку микрофон и строго скажет: «Побаловались и хватит. Представление окончено», — и отпустит свою особую обманную кнопку, и заоконные эти волшебные виды погаснут, как на экране, и сказочке конец, а взамен серенько забрезжит ленинградское низкое небушко, отразится в мокром зорком асфальте, и по холодному стеклу поползут вниз наискосок мелкие капли дождя.
Он, сколько себя помнил, жил в этом странном городе, в котором, кажется, все было против самой жизни: комары, даже зимой, болота, стылые тревожные облака возле плоской земли, чахлые растения, дожди, дожди, влажные гриппозные зимы... И все было против того, чтобы этот город любить, но, как ни странно, его любили, в него стремились разбросанные войной и блокадой, довоенными и послевоенными репрессиями старики, к нему тянуло из командировок и экспедиций.
Любил Ленинград и Игорь Николаевич Коровин, любил, гордился, что ленинградец, и как-то не задумывался: за что любил? чем, собственно, гордился?.. Была в этом дорогая ему, зыбкая необъяснимость, был тихий, упрямый отход от всеобщей продуманности и высчитанности мира, было теплое, не требующее доказательств, от сердца идущее (или от души?) чувство, которое, впрочем, он не то чтобы афишировал, а как бы и не скрывал ни от кого, с глупой, может быть, радостью думая о себе, как о том кулике, который вечно хвалит свое болото.
Иногда ему казалось, что с детства, кроме мистической этой любви и этой непонятной гордости, у него ничего хорошего, стоящего больше и не было. Отец пил и рано умер, — замерз в ночном парадняке на Лиговке, — и мать до конца дней своих говорила, что был он гопником. Наверное... Потому что отца Игорь Николаевич помнил только пьяным или подвыпившим, сидящим, например, в синей майке-безрукавке с мужиками за врытым в каменистую городскую землю столиком во дворе-колодце их старого дома на Петроградской, смолящим папиросу за папиросой, звонко шлепающим зазевавшихся в кровавой истоме укуса комаров на незагорелых в бледных конопушках плечах и гулко, с надсадой, как и все, бухающим в отполированные руками доски стола черными в белых оспинах костяшками домино. На углу стола, кажется, было вырезано кем-то из пацанов: «Верка — сука», и среди мужиков считалось, что сесть Верке под бочок — к удаче в игре. Надпись заботливо суеверно подновляли, и кто она была, эта Верка, Игорь Николаевич уже не помнил или вовсе не знал никогда.
Мать, замотанная и вечно раздраженная, тащила их с сестрой, не известно, как, вечно что-то стирала, шила или штопала, или вязала на спицах, и все бранила, бранила свою жизнь, детей своих и своего спившегося, непутевого, нелепо погибшего мужа: «Войну прошел, Берлин взял, ни одной царапины... Водочка! Она не таких великанов валила. Он им, Сталин-то, водочкой рты позатыкал. Они там, в европах-то, пораззявились, а он им водочкой, водочкой. Они и рады... Вы хоть у меня не пейте, умнее будьте, учитесь, детишек любите...». Мать вытянула их с сестрой до окончания институтов, а потом, видно, расслабилась, болеть стала часто, состарилась, высохла вся, пожелтела и умерла, сделав, как полагала, все в этой трудной, изнурительной, беспросветной жизни. А еще их мать была санитаркой на Невском пятачке, так что ей досталось...
И чего он вдруг вспомнил о них, о родителях, тут, среди южного буйства и сияния? Хотя понятно, конечно. Матери однажды дали на фабрике бесплатную путевку в санаторий, и куда-то она ездила в эти теплые края, в местечко со странным название Поти, ездила не одна, прихватив с собой болезненную тщедушную сестренку, а его, отдав на целый месяц курящей тетке Лиде, блокаднице и матерщиннице, но ездила, конечно, не летом и даже не, как он сейчас, ранней весной, а зимой, и, вернувшись, они потом долго рассказывали о пальмах, закутанных для сохранности от холода в серые балахоны, о штормящем страшном море и о звездах, крупных, ярких и близких. И еще матери тут понравились какие-то грязи. Кажется, и сестре они помогли, а может, и не они, может, сестра сама собой выправилась, пошла в рост и перестала так часто болеть.
Потом, когда вырос, когда умерла мать, когда женился сам и когда сестренка выскочила замуж, Игорь Николаевич несколько раз собирался с семьей на юг, да так и не собрался: то с деньгами было туго, то еще взяли огородный участок под Саблино, и пришлось валить деревья, корчевать пни, ставить времянку, доставать доски, вагонку, рубероид, навоз, торф, кирпичи, пленку для теплицы, — короче, сейчас приехал он сюда впервые...
— Гагры, Гагры!.. — потряс его за руку вконец осоловевший от жары Валера. — Остановочка тут минуток десять. Мне бы выйти...
Автобус затормозил у здания железнодорожного вокзала с серыми запыленными колоннами, подал назад и, втиснувшись между двумя другими автобусами, остановился. Загомонили сзади цыгане. Игорь Николаевич тоже решил выйти, размять ноги и покурить. Валера, красный, одуревший, малость попритихший, вывалился следом. А за ним посыпались из двери цыганки и цыганята, замелькали их юбки и серьги, засияли голубые белки их черных стремительных глаз и золотые фиксы на белых, крепких, малость желтоватых от табака и, наверное, холодных зубах.
— Красивый, рыженький, дай закурить, — попросила одна из них, молодая, смешливая, глядящая открыто и смело прямо в глаза, и Игорь Николаевич, конечно же, дал, щедро выщелкнув из пачки сразу несколько сигарет. — Хочешь по-агадаю? — пропела цыганка. — Ничего не возьму, только свою жизнь наперед узнаешь. Хочешь, ласковый? Почему не хочешь?..
Игорь Николаевич не хотел наперед, может быть, боялся, — да и вообще смешно, что пристала? люди кругом... — и от гадания, конечно, отказался, даже обрадовался, когда цыганка вдруг легко оставила его в покое и ушла вслед за своими.
— Какова, а? — спросил, смачно и густо сплюнув себе под ноги, Валера. — Такая позовет, все бросишь, вприпрыжку побежишь.
Игорь Николаевич промолчал. Этот Валера ему уже порядком поднадоел со своими рассуждениями о женщинах и о жизни, и если их еще поселят вместе...
Вернулись в автобус. Игорь Николаевич видел, с какой неохотой Валера снова полез к окну, но поменяться местами почему-то не предложил.
— Теперь уж близко, — успокоил Валера сам себя. — Кто бы знал, что тут такая жара...
Автобус тронулся. Без цыган стало чересчур как-то тихо, лишь ровно гудел двигатель сзади да вжикали, поравнявшись, встречные машины. Вдалеке блеснуло море широкой золотой полосой. Игорь Николаевич еще раньше заметил: на калитках у частных домов по обе стороны почти всегда сидели на столбиках фигурки голубей, крашенные серебрянкой, а то и под золото — бронзовой краской. Что за символ? Счастье в дом закликают что ли?
— Слушай... — севшим голосом просипел Валера тревожно. — Где моя сумка-то черная? Не видел? — Он заозирался, тяжело, прерывисто задышал. — Такая на молнии, с ремнем через плечо... Ты на ней не сидишь случайно?
Игорь Николаевич машинально привстал, хотя, конечно, и без того коню понятно было, что он на ней не сидит. Какой-то он весь был нелепый, хоккейный этот тренер, даже не просто хоккейный, а детский хоккейный тренер, вдобавок еще и разиня. Все раздражало уже в нем. Теперь его сумка...
— Цыгане! — тихо-тихо прошептал Валера и откинулся головой на спинку кресла. — Больше некому. А эту шуструю они для отвода глаз подослали. Хо-очешь по-агадаю? — в сердцах передразнил он и очень похоже, но тут же выпрямился, обдав резким запахом пота, надвинулся, попытался перегнуться через Игоря Николаевича в проход. — Погляди под сиденье. Не завалилась? Да нет, — снова отпрянул он. — Это они!.. Как же теперь?
— Что у тебя в ней? — проникшись чужой бедой, спросил Коровин.
— Ну, свитер, — стал вспоминать Валера импульсивно. — Книга интересная по фантастике... У друга взял. Фотоаппарат! Что же делать? Там же фотоаппарат! Думаешь, если попросить, он вернется? Шофера если?.. Нет, ну, что за народец? Все люди, как люди... Не вернется, наверное. Надо же что-то делать!
Игорь Николаевич пожалел Валеру, успокоил:
— Куда он денется, вернется. — И попросил: — Только сначала давай лучше посмотрим, может, сам куда заховал.
Валера засуетился, даже в кресле привстал, бесполезно заглянул наверх, на сетчатую сквозную полочку, хотя и без того видно же было, что нет там ничего. А автобус все ехал и ехал себе, дальше от того места, где пропала сумка.
«И где теперь искать их, этих цыган? — подумал Игорь Николаевич без всякой веры в успех. — Ждут они, как же, пока мы вернемся!..»
— Сверху она, на коленях лежала, — упавшим голосом проговорил Валера. — Я, когда курить выходил, на сиденье ее оставил... Хороший был фотоаппарат.
Игорь Николаевич молча поднялся и по узкому, заставленному вещами проходу, пошел к водителю. Тот, не дослушав даже до конца про несчастье, про цыган, про сумку, на удивление охотно и с азартом развернул свой громадный «Икарус» и покатил назад. Зароптали тут же неосведомленные пассажиры, мол, куда это он? зачем? и что вообще случилось?..
— Пропала черная сумка, — довольно громко, не ожидая от себя такой твердости голоса, сказал им Игорь Николаевич. — Может быть, кто видел?
— А я еще обратила внимание, — высунувшись в проход, затараторила женщина в белом, — странная сумочка у нее под мышкой. Это, значит, ваша была?
— Да не его, а моя... — подал голос тусклый голосок Валера.
— И главное, несла она ее именно под мышкой, — делилась женщина бдительными наблюдениями, — хотя лямочка, ремешок, чтоб через плечо перекинуть, болтался. Он еще за ручку кресла зацепился, если вам интересно, и она его так сильно дернула, аж затрещало что-то. Разве свою сумку стали бы дергать? Девочка эта, цыганочка...
— Вот, вот! — выкарабкиваясь в проход, взволнованно проговорил Валера. — Они, они!..
— Что-нибудь ценное у вас там? — спрашивали его уже с интересом.
— Много денег пропало?
— Ищи теперь ветра в поле...
— Самому нужно было рот не разевать! Я когда этих цыган вижу, всегда проверяю, на месте ли у меня кошелек...
— Да бросьте вы! Это уж слишком! О целом народе!..
Уже подъезжали к гагринскому вокзалу. Игорь Николаевич спустился на один порожек к двери, и жалея, и ругая про себя этого ротозея.
— Я с тобой! — сказал Валера, тяжело дыша ему в затылок.
«Вот чудак! Естественно! — подумал Игорь Николаевич, ступая на разогретый податливый асфальт, густо заляпанный машинным маслом. — Что же он думает, кто-то за него обязан добывать у цыган его собственную сумку? Только где их теперь искать?»
— Вы тут цыган не видели? — спросил он первого встречного мужчину в серой фетровой, несмотря на жару, шляпе и, чтобы придать своему вопросу важность и вообще, чтобы этот незнакомый человек, разопревший на солнцепеке, раздраженный или равнодушный, проникся чужой бедой, добавил таинственно: — Сумку у моего друга увели. А там важные материалы!
— Вот, вот! — подвякнул из-за спины Валера. — Что за люди?!
Мужчина в шляпе молча таинственно кивнул на стоящий поодаль желтый автобус и почему-то шепотом сказал:
— Тама они... Брать будете?
«Неужели так просто?» — удивился про себя Игорь Николаевич и в два прыжка, малость ощущая себя уже чуть ли не профессиональным сыщиком, очутился возле того автобуса.
Работал вхолостую мотор, подрагивала под напряженными ногами ступенька, и в салоне сидели пассажиры, лишь не было водителя на месте. Жарко и несвеже дыхнул сзади Валера. Поднявшись в салон, Игорь Николаевич сразу увидел их, там, на заднем сиденье, мгновенно притихших, устремивших свои черные, бездонные очи навстречу опасности, цыган. Даже примолк верещавший до этого на руках у юной матери грудной ребенок, будто заранее знающий уже, как надо вести себя в этой полной опасностей и романтики, ждущей его жизни. А Коровин, переступая через чемодан и сетки, сумки и корзины, медленно, молча, неотвратимо шел, пер на эти блестящие, лукавые, но не на шутку сейчас встревоженные взгляды, еще не зная, что скажет, с чего начнет, как спросит.
«Мистика какая-то, — подумал он, как во сне. Пропустить вперед хозяина сумки? Пусть выкручивается...»
Впрочем, нет, Игорь Николаевич чувствовал, что завелся уже сам, а стало быть, доведет теперь дело до конца.
«И сдалась она вам, сумка его! — успел подумать он, торопливо оглядывая цыган, ища глазами, к кому бы конкретно обратиться. — И Валера-то молчит, стервец! Или из тех он, что любят на чужом горбу в рай въезжать?..»
— Граждане цыгане! — сказал Игорь Николаевич твердо, слыша себя будто со стороны. — Нам известно, что это вы взяли сумку. — Он, как ни странно, неотрывно таращился зачем-то на молоденькую цыганочку, будто на старую знакомую, ту самую, что предлагала ему давеча погадать, судьбу наперед предсказать. --Просим вернуть собственность, — сами собой деревянно ворочались губы, — законному владельцу!..
И откуда словечки такие подобрались — канцелярские, официальные, милицейские? Игорь Николаевич остановился в проходе, не дойдя до заднего сидения, занятого присмиревшими цыганами, двух-трех шагов. Было жарко и тихо, лишь ровно работал на холостом ходу мотор автобуса и, щекоча кожу, поползла от виска по скуле на щеку тяжелая горячая капля пота. Он невольно коротко мотнул головой, пытаясь отряхнуть эту каплю, но тут раздалась пощечина и сразу, без паузы — детский, дикий, визгливый, впивающийся в уши плач. Старая цыганка ударила девочку еще, и еще, и еще раз, уже наотмашь, ладонью по голове, по лицу, по спине, — куда попадала, — по плечам, снова по лицу, а Игорь Николаевич, зачарованно глядя на все это, пребывал в жутком оцепенении, будто застигнутый за каким-то стыдным, позорным занятием.
— Сука! Проститутка! Зачем воровала? Вот я тебе!.. — хрипло, монотонно и невнятно выговаривала цыганка девочке, и та даже не пыталась увернуться от ударов, закрыться руками, а покорно склонив черненькую головку, лишь плакала навзрыд настоящими детскими покаянными слезами.
Откуда-то возникла эта сумка, кто-то из цыганок сунул в руки орущей девочке и саму ее подтолкнул в спину навстречу Игорю Николаевичу, а девочка, — а мала-то, а худа! всего-то лет, должно быть, десяти, — опасливо зыркнула на него невидящими, полными черных слез и горя глазами, протянула сумку и убежала назад, забилась в угол, зарылась лицом и всем хрупким, гибким своим тельцем в разноцветное, рябящее в глазах тряпье, в широкие эти юбки сидящих в напряженном молчании цыганок.
— Ребенок! — прохрипела самая старая из них, качнув огромной золотой серьгой в дряблой, оттянутой мочке уха. — Что с нее возьмешь? Прости нас, добрый человек...
Игорь Николаевич, чего-то уже стесняясь и, кажется, краснея, невольно встретился глазами с той, что подходила к нему, просила закурить, предлагала погадать, с молодой и востроглазой, и, вроде бы, насмешлив был ее взгляд. Разыграли они их что ли? Конечно, как по нотам разыграли! И уже схлынул стыд, и фальшивыми показались ему слезы и рев девочки, — ну, да, все это у них наверняка отработано, в смысле, как вести себя, если попадешься на воровстве, — фальшиво говорила с ним старуха, фальшивой тревогой полны были черный глаза. Лишь насмешка во взоре этой, молоденькой, красивой, лишь она и была, наверное, настоящей во всем их блестяще сыгранном спектакле.
— Глянь, все ли на месте! — передавая сумку Валере, предупредил Игорь Николаевич.
— Все цело, дарагой! — уверенно, словно сама проверяла, сказала старая цыганка. — Нам чужого не надо...
— Все, — не то недоверчиво, не то удивленно буркнул Валера. — Кажись, все...
***
Ей было страшно. Черт бы побрал этот Дом отдыха, эту Пицунду, это море, эти горы на недалеком горизонте, эти капризные, в день ее приезда еще наряженные, как висельники, в серую парусину пальмы, кипарисы, а потом освобожденные от нее, будто помилованные, трудно и нехотя расправляющие затекшие за зиму ветви, этот высокий камыш песчаного с галькой берега, черт бы побрал этих ошалевших от свободы и вседозволенности, улизнувших от жениного догляда инженериков, которые представлялись не иначе как главными конструкторами, механизаторов, метящих в главные агрономы, чабанов и свекловодов, слесарей, кооператоров, школьных учителей, красиво и со знанием дела говорящих о звездах, о луне и сально глядящих сначала на твои ноги, потом выше, на задницу, на грудь, и уж потом — оценивающе, приговорно — на лицо, этих всех свихнувшихся теоретиков любви, секса, красивой беспечной жизни, на ощупь считающих свои гроши потными пальцами в глубоких карманах штанов, а потом этими же пальцами, этими ручищами под дармовую музыку, под грохот волн, под шепот камыша на ночном берегу моря... Короче, черт бы побрал этих трусов, — ведь она кричала, как она кричала! — жалких ничтожеств, слюнтяев, допоздна сидящих в баре с вонючими сигаретами-неразлучницами в губах, в дыму, в чаду, жрущих кофе чашку за чашкой и исподтишка — кислое дешевое вино из магазина, размахивающих руками при первых же признаках хмеля и зовущих с собой на край света! Черт бы побрал их всех с их со скидкой путевкой, с роскошной столовкой, с белыми скатертями и салфетками, с вежливыми местными официантками, с тихо ступающими по коридорным коврам горничными, с лианами, пальмами в кадках в холлах, с бассейном, с настоящей, пахнущей мочой, морской водой в нем, с газетным киоском, в котором можно купить мыло и даже купальник, с Матвеевной, соседкой по номеру, которая на ночь в полумраке с треском, с электрическими озонизирующими разрядами расчесывает свои длинные седые волосы и рассказывает о каком-то Григории, который в юности чуть не ссильничал ее на сеновале, да она не далась и вышла за Федора, а тот, стало быть, Гришка, все у него наперекосяк шло, но и она своего Федьку почему-то не любила, и оба спились, и оба — вот судьба! — на одном тракторе, на «Беларуси» свильнули в канаву и зашиблись насмерть. Черт бы их!.. А Матвеевна, кажется, Григория-то больше мужа жалела...
Раньше Клара бывала на юге с родителями, — а что, ничего себе жили, отец машинистом в Липецке на металлургическом комбинате, мать в заготконторе при совхозе, денег в доме не считали, — потом с мужем, с Павликом, раза два по молодости сюда выбирались, до рождения Димочки, потом был перерыв и вот до сих пор. В одиночку она приехала сюда впервые, — соблазнилась на дешевизну путевки, устала от дома, от своей чайной возле автотрассы Воронеж-Липецк, вернее закусочной, это раньше она была чайной и так до сих пор звали по старинке, от тоски по лету, от топота ног, от гомона шоферни, от постоянного, монотонного, угнетающего машинного гула на трассе, от грубоватых шуточек, от табачного дыма, от вечно всем недовольной посудомойки Марфы... Муж сначала не пускал, ревновал, конечно, боялся (ему и раньше бог знает что про нее говорили завистливые на чужое счастье боринские бабы, а тут одну да в дальние края), она торопливо настаивала, потому что уж очень вдруг захотелось и потому, что знала: Павлик не устоит, мягкотелый, сдастся, куда ему. А потом не этой же дуре Марфе путевку-то со скидкой! Кто она такая? Без году неделя в чайной, а туда же — давайте разыгрывать, как по лотерее. Ну, и разыграли... А ведь, кажется, зря она так все подстроила, что путевка досталась именно ей. На Марфу бы тут никто, пожалуй, не покусился бы.
Муж, конечно, уступил, бесхребетный, уступил, стесняясь своей робкой законной ревности, краснея и извиняясь. Ну, разумеется, всего две недели... Ну, что может случиться там с ней за две-то недели, за четырнадцать дней? Самолетом туда и обратно, даже не успеют соскучиться, даже Димка не спросит? Где же наша мамочка? А там, хоть и март еще, там солнце, там море, там галька шуршит и громыхает на легкой волне, там звезды крупнее, там пальмы, там почти лето... А она уже толком не отдыхала года четыре. Она только знай к матери в Коммуну за восемь километров на велике с тяпкой вдоль рамы — картошку окучивать или пешком, в распутицу, под дождиком, накрывшись пахнущей землей и тленом мешковиной, убирать эту проклятую картошку, чтобы потом можно было свезти ее в Липецк или в Воронеж на базар, чтобы было чем кормить поросенка, чтобы вообще что-то капало им, кроме ее зарплаты и навара буфетчицы и Павликова оклада на сахзаводе — подумаешь, в бухгалтерии он счетами щелкает или на кнопочки пальчиком давит, считает на этом самом микроэлектрокалькуляторе. А вот она все в уме, туда-сюда, гривенник, другой... Шоферы — народец щедрый, непостоянный, с шальными, замызганными червонцами из засаленных мятых перемятых штанов. Своих, боринских, она нет, ни за что не обсчитает, а этих, проезжих, сегодня здесь — завтра там, их сам бог велел. У них, говорят, левые грузы, лишние рейсы, с ними сейчас кооператоры в сговоре... А дома — стирка, готовка, тоже огород, воду надо греть каждый вечер, чтобы Димку искупать... Разве дома отдохнешь?
Господи, хоть бы муж покрепче держал, что ли? Ну, почему же он такой у нее покладистый? Что вот он, ей-богу!.. Когда женихался, гуляли когда, вроде парень был как парень, даже у Толика Паршина ее отбил. Люди говорили, дрались они из-за нее, и Павлик Толику накостылял. Куда только потом что девалось? Может, зря он этот учетно-кредитный техникум выбрал? Бабья профессия — бухгалтер, ну, главный бухгалтер, правая рука директора, а все что-то не то... Зато ее Павлик не пьет, как эти!
Клара лежала на пляже одна, как прокаженная, лежала, закрыв глаза и, видя перед собой сплошное розовое поле, нет, просто розовый цвет, цвет мечты и сочиненного счастья, цвет обмана, — она понимала, — но глаз открывать не хотелось. Там, за розовой этой оболочкой просвеченных солнцем век была целая неделя одиночества, был жестокий и грубый мир, пахнущий соленым, йодистым, еще холодным морем, веющий горечью нежеланной измены и легким тленом предстоящей беды.
А что ей оставалось? Что могла она, когда ввалились они в их с Матвеевной крошечную комнату (где она шлялась, эта зануда Матвеевна?), нахрапистые, сильные, безжалостные? Она-то думала, что позволит лишь проводить до двери, она надеялась, что Матвеевна будет в номере... Но она же кричала! Сначала робко и жалко, сухим языком выталкивала свой крик из пересохшего, схваченного судорогой горла. И ей зажимали рот огромной соскользавшей потной ладонью, с нее молча, уверенно и умело срывали одежду, не щадя застежек и пуговиц. Она кричала и потом, когда отчаянно хватанула зубами эту соленую, мерзко пахнущую чужим терпким страхом ладонь, — не мог же ее никто не слышать! — она даже вырвалась, полураздетая, задыхающаяся, обезумевшая от испуга, рванулась к двери в коридор, но тот, второй, стоял на пути, нахально ухмыляясь в полумраке, скрестив волосатые руки на могучей груди, а сзади уже тяжело дышал Ромео, откинутый ею в порыве брезгливого животного ужаса, уже его жадная горячая рука тронула ее обнаженное плечо...
Был у ней, конечно, еще один выход. Ну, да, выбежать, отпихнув обезумевшего в похотливой страсти Ромео, на балкон и прыгнуть вниз со своего восьмого высокого этажа. Этот выход был с ней и сейчас, и вообще будет... Но тогда она не решилась на него.
«Заявишь — убью. Зарежу», — коротко буднично сказал с акцентом Ромео, когда все было кончено, и поруганная она лежала в ворохе растрепанного постельного белья на своей кровати, среди скомканной перекрученной одежды, в чужом липком поту, жегшим, словно уксусная эссенция, ее бледную кожу, грязная лежала и пустая.
Что-то сказал он второму на своем языке, и тот подошел, бесстыже прилипчиво оглядел ее свысока, и не было ведь сил прикрыть от него свою наготу.
Потом они ушли.
Клара уже не понимала, как поднялась, прибрала в номере, проветрила, помнила лишь, что долго, очень долго стояла в душе под теплыми, почти горячими струями воды, и ее колотила дрожь, как после терла себя мочалкой, намыливала снова и терла, и все не могла смыть с себя греха, не могла избавиться от тошного ощущения нечистоты и мерзости, чернухи кругом. Ей казалось, что больше ничего не будет уже, жизнь кончена, и это она отмывается в свой последний путь, ей жалко было себя, и Димку, и Павлика немножко жалко. Нет, не то чтобы она и раньше была верна ему, — всякое случалось, шоферы — народ лихой, безоглядный, — но чтобы так вот, силком, без желания... А впрочем, Павлику-то все равно, как она ему изменяла.
Пришла Матвеевна, разделась, расчесала волосы перед сном, помянула своего Гришку, и легла, как ни в чем не бывало. Клара не сказала ей ничего о своей беде. Даже плакать, когда подкатывало к горлу и невыносимо становилось жалко себя, она выходила в ванную, включала воду и ревела над раковиной, глядя на свое бесстыжее, неверное отражение в зеркале.
Это уж после она узнала, что Ромео заведовал игротекой в их Доме отдыха, выдавал и принимал, значит, шахматы и шашки, бильярдные шары и теннисные ракетки. Такой здоровый волосатый мужик и на ребячьей работе...
— К вам можно тут примоститься?
Клара открыла глаза, с неохотой покинула розовый, беспредметный, бесплотный свой мир, свой мираж, призрачное свое убежище. Перед ней стоял мужчина в чем-то ярко-красном с зеленым топчаном наперевес. Он, что ли, рядом желает устроиться? Странный... Что спрашивать? Клара приподнялась на локтях, кивнула, мол, пожалуйста, пляж он большой и для всех, — почему нельзя? — и снова легла, закрыла чуткие глаза. Она слышала, как он сопел рядом, гремя галькой и шурша зернистым черным песком, видимо, устраивая свой топчан так, чтобы он закрывал от прохладного, дующего справа ветра, как вдруг замурлыкал что-то себе под нос. Холодно. Какой тут загар? Он, что же, ничего о ней еще не знает? До него не дошло что ли? Странно, однако, потому что Ромео и его друзья постарались на славу. Про нее здесь такое теперь говорили, что люди невольно сторонились ее при встрече, от них с Матвеевной даже пересели куда-то две соседки по столику в столовке. Дольше всех держался возле нее шахтер-здоровяк, до которого, наверное, вообще все, как до жирафа, доходит, но и его спугнула молва, будто волной смыло с пирса. Что уж говорить про пляж, — в радиусе десяти метров даже в самую теплую погоду вокруг нее теперь была мертвая зона, пустыня. Клара осторожно скосила глаза на странного этого мужчину. Наверное, из новеньких, нынешнего заезда, чемодан поставил и сразу к морю. Она тоже так, только в день ее приезда штормило.
— Однако прохладненько, — кажется, устроившись, проговорил мужчина озабоченно. — Меня Валерой можно звать, — вдруг добавил он ни с того ни с сего, и Клара подумала, что следом он должен поинтересоваться и ее именем, а если она решит откликнуться, то обязательно ведь попытается, как часто они все, в смысле, мужики, пошутить: мол, Карл у Клары...
Эта скороговорка, — спасибо имени! — преследовала ее с детства. И не объяснять же всем, что родной папаша, будучи вполне правоверным коммунистом, даже одно время секретарем своей парт ячейки, что он еще выбирал: Кларой или Розой ее назвать... Господи, это в их-то российском захолустье, где коров и тех Машками да Зинками кличут! Царствие ему небесное теперь, папаше-то, да не менять же имя.
— А вас? — спросил-таки, повздыхав, этот Валера.
Первыми перестали ей строить глазки мужики приезжие, потом кто с сочувствием, кто с открытой брезгливостью на лице стали взирать на нее тетки постарше, вроде Матвеевны. Эти даже осуждающе покачивали, бывало, головами и нарочито, со значением переглядывались, встречая ее ненароком. Бабам помоложе, похоже, было все равно, хотя, случалось, и они перешептывались, завидев ее, да то могло быть и не о ней, конечно. Одно было хорошо в этом ее положении: местные приставалы оставили ее в покое. Да оно и понятно, — Матвеевна разведала, доложила, — Ромео с приятелем распустили слух, что у нее болезнь, в общем, понятно, какая, нет, не самая страшная, но тоже не дай бог никому. Но вот что сам он, если болезнь-то, что приставал тогда? Или, гад, заразил, а зараза к заразе?.. Или уже все врал он, паразит волосатый, нет, потный и волосатый? Может, там и нет ничего, если она сама не чувствует?
Ромео подкатывался дважды — туда-сюда, садись в машину, поедем в горы, на Бзыбь, на озеро Рица, шашлыки, вино, красивые места кругом, дача Сталина... Ну, этот-то раз выручил еще здоровяк-шахтер. Он хоть и тугодум был, и поговорить с ним не о чем, и смеялся невпопад, но шуранул Ромео крепко, набычился, шея красным налилась, кулачищи сжал свои пудовые... «Я, — сказал, — не знаю, что дальше будет, но тебе холку собью!..» И Ромео, и дружок его судьбу испытывать не стали. Они шахтера по-другому образумили. Вон теперь ходит бычок, глазки прячет, здороваться забывает... Другой раз спас ее случай. Ромео с Айриком подстерегли Клару возле номера, — видно, хотели, как тогда, — вломились, ан не тут-то было. Матвеевна им такого крика, визга задала!.. Она-то уж в ночной рубахе сидела, волосы перед сном расчесывать наладилась, чуть шпилькой не подавилась... И если бы Ромео не умастил ее как-то на другой день, точно жалобу директору Дома отдыха накатала бы, уже спрашивала, как писать: «заевление» или «заявление».
Клара как бы невзначай прикрыла лицо рукой и уже из-под руки коротко взглянула на этого чудака, бросившего (по незнанию, конечно) вызов общественному мнению. Тридцати ему, наверное, не было, во всяком случае, мужчина он был крепкий и в своем шерстяном красном спортивном костюме смотрелся празднично и браво. Что вот только вздыхает все, как старичок?
— Нет, тянет ветерком, сильновато, пожалуй, тянет... — сказал Валера и, видимо, сел, загремев галькой.
— Кларой меня зовут, — сказала она, не то чтобы желая испытать его на стойкость перед расхожей скороговоркой (хотя и не без этого, конечно), а вдруг подумав о нем как о возможном защитнике — пусть на два, на три дня, там и отъезд не за горами. Ну, не хотела, боялась, ненавидела она этого Ромео!..
— Ага, ага! — обрадовано проговорил Валера. — Карл у Клары уклар колары...
Вот умничка! Вот так-так!.. Клара, отвернувшись, чтоб он не видел, нервно улыбнулась.
— Вы бы еще про то, как мама мылом Милу мыла рассказали! — сердито взглянув на него, раздраженно проговорила она и стала смотреть на море, на четкую далекую линию горизонта, по которой, как в игровом автомате «Морской бой» — Димка здорово наладился сбивать там все подряд — полз на вид плоский, будто из жести вырезанный и раскрашенный корабль с бездымной трубой и всякими там рубками и мачтами. Ей стало вдруг ясно, что супротив Ромео этот в красном и дня не протянет.
Валера помолчал, посопел, погремел галькой и сказал невпопад:
— К вам хорошо пристает загар. Вы, наверное, тут давно отдыхаете. Лицо вон как загорело! А я из города на Неве Ленинграда... Сегодня...
— Не только загар, но и мужики пристают, грех жаловаться, — не пощадила его Клара (ишь, простачком прикидывается!). — Еще как! Так вот подсядут на пляже и начинают: «Дэвушка, ви мнэ прошлой ночью снылись, — передразнила она Ромео, почти слово в слово решив воспроизвести то, что говорил он ей при знакомстве, даже акцент постаралась передать. — И вот вы у меня в объятьях, ви вирываетесь, ви меня нэ хотите. Появляется какой-то ваш друг и начинается большой драк...». Тьфу! По видику дряни наглядятся и рассказывают потом часами, тоже знакомятся. А если большой драк начнется, вы как, Валера?
— Было бы ради чего... — расчетливо рассудил он.
— Ну, вот... — совсем поникла Клара. — Это скучно.
На них, конечно, уже давно смотрели, лыбились, пялились немногочисленные пляжные сплетники, выползшие в солнечный денек к морю, и, должно быть, сочувствовали Валере. И ветер прохладный нипочем! Понатягивали на себя плащи, пододели шерстяные свитера и кофты, морды на солнышко выставили и сидят или лежат — здоровья набираются, чужие косточки небось перемывают. Уж как пить дать найдется какой-нибудь доброхот из этих, который просветит и Валеру, пожалеет голубка, сделает свое доброе черное дело, предупредит, насплетничает. Они ведь тут и мужики, точно бабы, говорливые — спасу нет: и шу-шу-шу, и ши-ши-ши между собой. Так что никуда тебе, Валера, не деться, не годишься ты в защитники, пожалуй.
Клара поднялась, застегнула молнию куртки-ветровки и пошла, оступаясь на гальке, вдоль уреза воды. Ленивая волна легко накатывалась, клубилась, пенилась, терлась о берег, ворочала обточенные, напитанные соленой влагой коряги, корни каких-то неведомых бывших деревьев, тихонько погромыхивала мелкими камешками. Солнце, дробясь на мелкой морской ряби, слепило и снизу, и сверху. Куда-то, наверное, за горизонт, провалился пароходик, будто это Димка ловко торпедировал его пульсирующей световой торпедой из игрального автомата «Морской бой».
— Уже замерзли? — настиг ее бодренький голос Валеры. — Говорят, здесь бассейн где-то есть...
Она слышала, как загремела галька. Валера, значит, встал из-за своего лежака и вот-вот должен был двинуться за нею следом. Клара уже знала, что будет потом, то есть, когда ему наврут, расскажут о ней. А может быть, и не наврут? Может, все правда, и она больна? Этот бедняга Валера тут же и потеряет к ней интерес (совсем как увалень-шахтер) и вообще как-нибудь плохо проявит себя. И ей самой будет от этого еще хуже... Ишь ты — «было бы ради чего»!.. А если не ради? Если так просто? За здорово живешь? Из одиночества выручить, защитить?.. Зачем только она сказала ему свое имя? Ну, какой, какой он защитник? От Ромео? От этих здесь? Нет, Валера из-за нее пупок рвать не станет...
— Пошли вы все к чертовой матери! — обернувшись на звук его приближающихся шагов, выпалила она, сколько могла зло и безжалостно. — Пристают тут всякие!..
Валера остановился на полпути, точно лбом саданулся в стекло, и Клара увидела, прежде чем отворотиться от него совсем, как густо, мучительно он покраснел. Задело, значит. Обиделся. Красное лицо, красный спортивный костюм... Прости, Валера, если сможешь!
Слава богу, с Валерой его не поселили! Соседом Игоря Николаевича по номеру оказался седой, коротко остриженный, круглоголовый старик-абхазец из какой-то (с первого раза Коровин не запомнил) горной деревушки.
— Там, — сказал дед и, видно, предположив, что его могут не понять, неопределенно махнул короткопалой рукой в сторону лоджии, точнее, в сторону родных гор за окном, далеких, снизу поросших темно-зеленым лесом, а вверху припорошенных матово-белым снегом. — За перевалом. А ты зачем приехал?
Старик сидел на кровати в исподнем — голубые кальсоны, белая, простого полотна рубаха — и, кряхтя, отдуваясь, тяжело поворачивая узловатыми грубыми пальцами маленькие маникюрные ножницы, стриг ногти на ногах. Ногти, непослушные, острые, кривые, пружинисто отстреливали в разные стороны, и старик, что-то бормоча по-своему, всякий раз вставал с кровати, чтобы подобрать их. Ступни у него были жилистые и широкие, растоптанные, и при ходьбе он загибал их немного внутрь.
— Тепло у вас, вот и приехал, — сказал Игорь Николаевич, не сразу обратив внимание на необычный вопрос старика («Что значит, зачем? За тем же, за чем и все, за солнцем, за морем...»). — Путевку дали со скидкой! — будто оправдываясь, добавил он.
Солнце заливало комнату, в которой, как в обычной гостинице, стояли две кровати, две тумбочки при них, два стула и журнальный столик, а на одной из стенок висел традиционный гостиничный офорт или литография — поди разбери.
«Новый Афон», — прочел Игорь Николаевич под аляповатой гравюркой, проходя к своей кровати и ставя чемодан на тумбочку.
И почему, вдруг подумалось Коровину, в который уж, впрочем, раз при вселении во временное жилье, гостиничному начальству так близка графика? Или живопись не по карману? Или что-то тут крылось другое, более тонкое, вкусовое? Черт их знает, конечно... Только если для кого-то из классиков конец России был связан с тем, что повырубали сады и стали заводить огороды, то у Игоря Николаевича похожие апокалиптические настроения вызвало вытеснение из будничной жизни живописи вот этими хотя бы бездарными гравюрками.
— Мне тоже путевку дали, — сказал дед, справившись с очередным ногтем и шустренько сгоняв за ним аж к подоконнику. — Бесплатно. Колхоз.
— Разве вы не на пенсии? — удивился Игорь Николаевич.
Все же как ни крепок был старик, а лет этак на семьдесят, пожалуй, тянул.
— Дверь открой, — сказал старик, усевшись, и кивнул на стеклянную дверь в лоджию. — Жарко.
«Позагорать что ли?» — подумал Коровин, когда в распахнутую дверь ворвался сухой солнечный воздух, звуки птичьего пения снизу и запахи южной зелени и близкого моря.
Он скинул рубаху и, выставив стул в лоджию, сел спиной к солнцу, стал разбирать вещи.
— У нас долго живут, — сказал дедок, с натугой налегая на ножницы. — И работают. Я такой, как ты был, овец пас. Чабан. Сейчас ноги болят. Табак сдаем. Трудная работа. Колхоз путевку дал. Зачем дал? Сюда молодым надо. Женщин красивых много. Ваши женщины любят с нашими...
Солнце ласково коварно впилось в спину, мягко обняло плечи, тронуло затылок. Ноги, правда, холодил ветерок, — все-таки чувствовался двенадцатый этаж, — но сверху было тепло. Да и море отсюда было видно — далеко, широко, просторно, как, наверное, с маяка.
— Слушай, почему так? — спросил старик, разыскивая зорким темным глазом далеко отскочивший ноготь. — Скажи, пожалуйста! Почему ваша женщин такая? Зачем разрешили?
Игорь Николаевич и знал, и не знал, что ему на это ответить, и чтобы не отвечать вовсе (да и обидные были вопросы какие-то), достал из чемодана тапочки, переобулся, рассовал кое-какие вещи по ящикам тумбочки, даже встал, сходил в прихожую, повесил на плечики в стенном шкафу рубашки, чувствуя, впрочем, что дед ожидает от него ответа.
— Я-то своей не позволяю, — вынужденно отшутился Коровин и вернулся на свой стул в лоджию.
— А зачем один приехал? — не унимался старик. — Зачем жену один там оставил? Ты из Москвы?
— Из Ленинграда...
«Уж лучше бы с Валерой поселили, что ли? С ним хоть все ясно... — подумал Игорь Николаевич с тоской. — Экий дедок неспокойный попался. Еще и храпит небось по ночам...»
Старик покончил, наконец, с ногтями, смахнул их с тумбочки в широкую ладошку и отнес в сортир.
— Знаю, — сказал он, вернувшись. — Там правнук на доктора учится. Хочу в гости к нему. Дела не пускают. Я под Москвой воевал. В Ленинграде не был.
Он долго молча смотрел то на Игоря Николаевича, то на свои ноги с остриженными ногтями, почесывал загрубелыми пальцами белую щетину на щеках, потом вдруг спросил:
— Как тебя зовут?
— Игорь, — ответил Коровин и повернулся к солнцу боком.
— Я — дядя Илларион, — представился в свою очередь этот странный старик и тут же спросил: — Понял? — не то подчеркивая тем самым что-то, не то кто ж его поймет, зачем. — Не оставляй жену, пока молодой, — добавил он и стал надевать черные мятые штаны, подпоясывать их ремнем. — Ноги болят, а то приехал бы я сюда! Что вы вообще за люди такие? Как можно за женщиной не глядеть? Эх-х! Русские...
Он застегнул ширинку, обулся и вышел из номера, а Коровин, положив руки на спинку стула, устал прикрыл веки, чувствуя спиной, плечами, затылком блаженное тепло солнца и думая вяло о них, о русских, то есть о себе, о том, какие они, то есть он сам...
«Старик в чем-то прав, конечно, — расслабленно размышлял он, блуждаю мыслью словно в тумане. — И мы женщин не блюдем, и они себя тоже...»
Впрочем, он, конечно, чувствовал, что все гораздо сложнее, понимал, что есть у него, чем возразить этом дяде Иллариону, но чувствовалось и понималось как-то леностно. Грело солнце, пели птицы, шумело море внизу, и его сморило не то от дорожной усталости, не то от Валериной болтовни, не то ото всего сразу. Он опустил голову на руки и не заметил, как задремал.
И навязался же он на ее голову! Клара еще тогда, на пляже, решила, что Валера к ней больше не подойдет. Ну, все же ясно было ему сказано, и вообще... Ан, нет! Сидят они с Матвеевной за своим столиком в столовке, какой-то салат жуют, и на тебе — этот, в красном костюме...
— Здрасьте-подвиньтесь! Так у вас и местечко свободное имеется... И не одно! Примите голодного балтийца — от самого Санкт-Петербурга маковой росинки во рту не держал...
— Садись, коли не шутишь, — разрешила Матвеевна, не подумав. — Все одно кого-нибудь подсодют.
Клара встала и пошла к шведскому столу. Не то чтобы захотелось чего в добавку, а надо же было как-то показать Валере, что ему не рады.
— Ты, Клар, и на мене там, на мене чего повкусней прихвати, — вслед ей шумнула Матвеевна и уточнила: — Свеколки там, лучку зеленого или че...
Когда Клара вернулась, Матвеевна уже мирно беседовала с Валерой о том, о сем, откуда он и чем занимается в жизни. Слово «хоккей! Она произносила с трудом и неправильно, будто выкашливала его, и всякий раз получалось по-разному, наособинку — когда «какхей», когда «кахкей», когда еще как-нибудь смешнее. Валера улыбался щедро и белозубо, но Матвеевну не поправлял, а все гнул к переломам, синякам и ушибам, все старался свести к тому, каким он мужественным и настоящим делом занят, ну, совсем, как в песне поется, мол, трус не играет в хоккей. Да и нужна ему была Матвеевна, ага! Ясно было, как белый день, и Клара даже не сомневалась, что это он к ней, настырный, подкатывается. А она-то его пожалела тогда, когда на пляже отбрила, искренне пожалела... Лучше бы уж Ромео — или кто там за него? — просветил бы этого Валеру, что ли, перепугал бы сразу, и делу конец. Ведь тошно же будет потом все понимать, смотреть, как станет он отползать, давать задний ход, что-то объяснять, врать, стараться так все преподнести, словно это он не потому, что узнал, а почему-то по-другому... В общем — тьфу бы на него и забыть, ан нет — встречайся теперь за одним столом четыре раза в день. Ну, вот что, вот зачем он лезет-то, бедняга?
— Вы, Кларочка, меня прошлый раз неправильно поняли, — вкрадчиво говорил он уже ей, забыв, конечно, о Матвеевне, которая с упоением трескала дармовую свеклу и зеленый лук со шведского стола, потому что ей объяснили в журнале «Здоровье», что это витамины, что по весне они полезны и что в вареной 1свекле чего-то там даже больше, чем в свежих и дорогих гранатах. — И я не сообразил, — бубнил-таки Валера без окороту, — что может же человек, в смысле, вы, захотеть просто побыть в одиночестве...
Клара подумала о том, что здесь, на югах, мужики в основном делятся на тех, которые легко тратятся на женщин, водят их всюду, катают на машинах, покупают цветы и безделушки, окружают собой, обволакивают незаметной, сладкой, золотой паутиной так, что вроде и неловко им потом отказать, и на тех, которые всего хотят добыть задарма, нахоляву, кто силой, принуждением, оговором, кто вот так, как Валера, болтовней, прилипчивостью, неотступностью своей. И ведь все они, ну, ей-богу, все до единого, со всеми их способами, методами и желаниями были сейчас Кларе как-то особенно, оголенно понятны и противны, противны, противны...
— ...Эй, Коровин! — вдруг крикнул и махнул кому-то рукой Валера. — Сюда подгребай, местечко свободное.
Еще одного несет. Мало им Валеры, как же! Теперь какой-то Коровин, рыжий, что ли? Да ей, впрочем, и дела нет, конечно. Нет, не то чтобы рыжий, а так — веснушчатый с рыжиной... А ей, разумеется, все равно! Клара огляделась в поисках официантки. Вот вечно ее где-то носит, когда люди есть хотят! Разве так можно работать медленно?..
Ну, подошел этот Коровин, кисло поздоровался, спросил, глядя на Матвеевну:
— Правда, свободно? Не возражаете?
И сел.
Матвеевна запоздало покивала ему.
Клара мельком взглянула на Коровина, — бледное, усталое, конопатое лицо, — и они всего, может быть, на полсекундочки встретились глазами, но этого ему хватило, чтобы тут же привстать со стула и представиться:
— Игорь Николаевич Коровин из Ленинграда.
Он слегка кивнул и опустился на стул, глядя на Клару вопросительно или выжидательно — ей-то что? как бы ни смотрел... Но все же почему-то она чувствовала на себе его долгий взгляд и была несколько раздражена уже этим. Ну, что, что уставился?
— Ты кто, Коровин? — спросил его Валера по-свойски, но было что-то странное в его таком обращении. — Просто инженер или главный? Как прикажешь дамам тебя рекомендовать?
— А никак, — вяло отозвался Коровин, — я сам, если надо...
Ох, ох, ох, какие мы! Клара взглянула уже на него сама, но Коровин, как нарочно, отвернулся.
— И где эта наша стряпуха-то сегодня запропастилась? — подала голос Матвеевна. — Уж лучше б раздача была, чтоб сами брали. Ждешь ее, ждешь... Придумали тоже, как в ресторане. А все чтоб с нас за путевочку подороже содрать!
— Вот этот человек, — начал Валера приподнято и тронул Коровина за плечо, от чего тот вдруг вздрогнул и поморщился. — Ты чего? — удивился Валера, но Коровин не ответил, и тот торжественно продолжил: — Он мне сумку спас. Да! От цыган!..
И так он это произнес, будто Коровин спас ему жизнь. Да и что значит, сумку спас? Что-то буровит этот Валера!..
— Вы не глядите, что он такой, в смысле, вежливый, робкий, — трепался Валера без умолку. — Как ты их, Коровин, а? Граждане, говорит, цыгане!.. А в сумке фотоаппарат, свитер — чистая шерсть, книга по фантастике. — Он взглянул на Клару и пообещал: — Дам почитать, если хорошо попросите...
Как же он надоел уже! И красный его костюм надоел!.. Клара, впрочем, слегка ему кивнула, чтобы этот Коровин из Ленинграда не решил, будто вежливые только у них там и встречаются.
— А это Клара, — продолжал Валера. — Ну, знаешь, Карл у Крали уркал калары... — И он громко захохотал ни с того ни с сего.
Подали, — наконец-то подвезла официантка на своей тележке с вихляющими посвистывающими колесиками, — первое, суп гороховый, кажется, со свининой.
— Я главный инженер проекта, — невпопад сказал вдруг Коровин, попробовав супу.
Тоже, что ли, хвастаться начал? Или до него доходит так медленно? Сейчас, наверное, весь ассортимент выпускаемой продукции начнет перечислять... Клара вспомнила своего недавнего воздыхателя шахтера (все у него «забой» да «на-гора», да какая-то «лава») и решила подначить.
— Начальство!.. — как бы уважительно прошептала она.
— Я? — простовато удивился Коровин и улыбнулся. — Да нет... Вы это в том смысле, что главный инженер? Какое начальство? Просто есть проект, к примеру, завода... Вы-то сами кем работаете?
— Я в чайной буфетчица! — так и выложила ему Клара.
— Ну, вот! — кажется, обрадовался Коровин. — А наш институт заводы проектирует. И за этот завод, в смысле, конечно, за проект, кто-то должен отвечать. Нас целая группа, несколько групп над проектом трудится, а отвечает за все и вся главный инженер проекта. Так что я тот еще главный... А вы уж подумали бог знает что, да? Мальчик я для битья, а не начальство! Ясно?
И что он разошелся-то, ей-богу? Хотя Коровин так добродушно, так трогательно говорил, что Кларе показалось неудобным просто так его слушать и есть этот суп гороховый. Зато Матвеевна вон нарезала, аж причмокивала. И к тому же Коровин не купился на дурацкую, с детства надоевшую, ненавистную шуточку про Карла и Клару.
— Коровин, Коровин... — машинально проговорила она, не то что-то припоминая, не то просто оттого, что вдруг подумала, какой, кажется, славный этот Коровин (ну, уж куда до него болтуну Валере!), и все-то у него, вроде бы, искренне, от сердца, без всякого темного умысла.
— Совершенно верно! — опередил он услужливо. — Константин Коровин. Был такой художник. Так вот мы с ним не родственники, нет, а просто однофамильцы. Знаете, меня почти всегда об этом спрашивают при знакомстве...
— А я и про художника такого не слыхал, — прорезался откуда-то Валера. — Из передвижников, что ли?
— Ага, из Кукрыниксов, — кажется, с подначкой ответил ему Коровин.
— Ты, Коровин, одеяло-то на себя не тяни, не тяни, — должно быть, почувствовал что-то Валера. — Дай и мне с Кларой пообщаться.
— Про художников я тоже не знаю, — подтвердила Матвеевна, промокая свои тоненькие сморщенные губки бумажной салфеткой.
Но Клара их почти не слышала, вернее, конечно, слышала, но как-то вскользь, боком, невнятно. Она вообще очень странно сейчас себя чувствовала — волновалась, не волновалась, а как будто что-то дрожало внутри, какая-то особая жилочка, от которой дрожь расходилась по телу, и в груди ее было неспокойно. Вдруг она даже поймала себя на том, что хочет этому Коровину понравиться, то есть не ради там чего-то, не собственно понравиться, а как бы угодить, что ли, потому что ведь он, короче, он за человека ее, кажется, считает, не за буфетчицу, не за бабенку, с которой можно... Нет, нет, она не ошибалась, потому что вот зачем он ей так все и объясняет? Или чего он смущается так, когда с ней разговаривает? Или... Да нет же, нет! Хотя, может быть, и такое, конечно, — просто ей почудилось что-то общее в том, что их привычно, навязчиво о чем-то спрашивают при знакомстве: его — не родственник ли он какому-то там художнику, ее — все про те же кораллы и кларнет... Неужели только на это пустое сходство откликнулась уставшая душа? Или уж она совсем тут одичала в своем горе-злосчастии?
— Помните в «Подростке» у Достоевского? — спросил ее Коровин, откидываясь на спинку стула, — Когда он представляется?..
Ну, откуда ей помнить-то? Читала она его Достоевского, что ли? В школе, кажется, проходили... А ведь зачем он так спрашивает, мол, помните ли вообще? Ведь чтобы не унизить, чтобы даже если не читала, то могла бы хоть вид сделать, кивнуть там или еще как ответить уклончиво. И Клара кивнула.
— Вот! — снова радостно подхватил Коровин. — Он там, помните, всем: «Долгорукий». А они: «Князь?». А он им: «Просто Долгорукий», — прямо в лицах изобразил он. — Вот и я — просто Коровин. Не художник, не родственник, однофамилец...
— Ну, ты, старик, даешь! — выдохнул Валера, что-то, должно, свое имея в виду, и потрепал рукой Коровина по плечу.
— Слушай, поаккуратнее, а!! — попросил Коровин и отвел его руку. — Я сегодня до обеда вот рубаху скинул, сел в лоджии спиной к солнышку и задремал. Кажется, обгорел. Плечи...
— Дает, да? — спросил Валера у Матвеевны. — Тебя, Коровин, за стол позвали как человека, обедать усадили, с Кларой познакомили...
Клара взглянула на Валеру с тихой надеждой, даже с мольбой, может быть, в глазах: «Заткнулся бы ты, что ли...».
— Спасибо, старик, что познакомил, — передернув плечами, простодушно ответил Коровин. — Я очень рад!
— Откуда вы такой взялись? Просто Коровин... — задумчиво сказала Клара, не обращая теперь внимания ни на Валеру, ни на Матвеевну, лишь непонятным ей самой бабьим своим чутьем уловив, что у Коровина к ней, кажется, что-то серьезное — любовь не любовь, может быть, пока одна невыясненная симпатия и только.
— Я же и говорю: из Ленинграда, — не понял ее Коровин.
Клара нервно усмехнулась. Нет, святой он, должно быть, или просто очень добрый человек, такой, от которых все отвыкли или уже стали забывать, какие они бывают, эти добрые люди. Знать, бывают, не вымерли, уцелели. Разве что в Ленинграде...
— Просто Коровин... — зачем-то повторила она бережным шепотом.
— Спасибочки, спасибочки, — запричитала Матвеевна, вставая. — Пойду я, Кларочка, после обеда вздремну часок. Да вы что же не емши-то сидите? — всплеснув руками, спросила она, наверное, их с Коровиным. — Эх-х, дело молодое!..
Валера молча подался за ней следом. Хотя нет, не выдержал, пробурчал что-то со значением, вроде «ну-ну!.. все с ними ясно...». И что там ему еще ясно, когда ничего не ясно как раз?
А у Коровина, — ну и что, что конопушки? — было лицо открытого, честного человека, были честные, зеленые, нет, серые с зеленым глаза, и голос его не врал, кажется. «Рыжий, рыжий, конопатый, — вспомнилась ей детская дразнилка, — убил дедушку лопатой... А я дедушку не бил, а я дедушку любил...» Ей даже захотелось вдруг, — да, безотчетно, стихийно, необъяснимо, взять, да открыться ему, пожаловаться, как бы пожаловалась она старшему брату, будь он у нее, все рассказать о себе, о своем горе... Нет, нет, она никогда, ни за что этого не сделает, но как же плохо будет, если Коровин узнает это от других. А он узнает!.. Вот они, — сколько много! — сидят, смотрят, осуждают, думают. Она и Матвеевна, болтливая старушонка, сейчас небось этому Валере наплетет с три короба, а тот уж Коровину... Господи, как же сильно они похожи с ее мужем, с Павликом, которому она и не знала, как предстать теперь пред ясны очи. Ну, как нарочно, будто кто выводит ее на таких мужиков! Клара огляделась по сторонам, ничего почти не замечая вокруг, лишь чувствуя неведомым чутьем на себе и на Коровине чужие взгляды, косые взгляды. Люди, кажется, выходили из столовой. Впрочем, что же теперь — узнает и узнает. И Павлик узнает, если все у ней там серьезно... А плевать она хотела, — расскажет мужу сама, и пусть хоть бьет, хоть пьет — сам отпустил, сам! — хоть головой об стену. Поймет, простит, притерпится — хорошо, а нет... Да что она, маленькая, что ли? Димку на руки и к матери в Коммуну. Так-то вот! И ничего не страшно...
— Вы, должно быть, замужем? — спросил Коровин осторожно.
Что он, не видит кольца у ней на правой руке? В том-то и дело, что замужем...
— Наверное, думаете, и что этот рыжий дурень пристает тут со своими вопросами?.. — развивал какую-то свою мысль Коровин.
В другой бы раз (или кого другого) она посчитала бы его занудой, и шуганула бы в сердцах от себя, но сейчас ей почему-то нравилось вот так сидеть с ним назло всем, — что, видели, все видели! — и разговаривать, ее устраивали, как воздух нужны были наивность и чистота помыслов Коровина, ей просто приятно было его слушать. Во всяком случае, она чувствовала, что этому и против Ромео с Айриком не слабо... Была в Коровине при всей его простоте и мягкости, ребячливости и вообще, была, угадывалась странная твердость. Ну, вот как он Валеру отшил, как сильный, уверенный в себе мужчина — чистенько, не грубо, с достоинством, а главное, удивительно естественно и просто. Ну, да — просто ведь Коровин.
— Вовсе напрасно вы так обо мне... — говорил Коровин тихо. — Я тоже женат. Видите, кольцо? Вот Валера... Мы с ним летели в одном самолете. Смешно! Нет, ей-богу, посоветовал мне кольцо снять или... Все это, разумеется, чушь собачья, и я разве сюда за эти приехал? Ну, согласитесь, неужели между мужчиной и женщиной ничего не может быть просто так? Без постели? Без измены? Ну, сами подумайте... Мы же люди, а не скоты, правда?...
— Дружат, Коровин, в пятом классе, — с грустью оборвала его нелепые слова Клара. — А на юга замужняя женщина... В общем, с мужем она должна ехать сюда. Не скажу про мужиков, им виднее, с кем и как. Но просто так ничего не бывает, товарищ просто Коровин!
Она, наконец, кажется, одолела свое оцепенение и огляделась. Кроме них, в столовой остались одни официантки, собирающие грязную посуду со столов, да какой-то загорелый седой дедок, который все поглядывал на Коровина и на нее из другого конца зала, из-под пыльной пальмы в кадушке.
— Это дядя Илларион. Из местных. Мой сосед по номеру, — вдруг, будто мысли умел читать, сказал ей заговорщическим шепотом Коровин. — И не поверите... Он вот то же самое, что и вы сейчас, — слово в слово почти, клянусь! — мне выдал. Мол, зачем без жены сюда прикатил? Разве можно женщину оставлять одну?..
— Он прав, ваш старичок, — сказала Клара, вставая. — Интересно, что он вам теперь скажет?
Коровин поднялся и молча пошел за ней следом. Обиделся, что ли? С него станет... Ее Павлик вот тоже часто так обижался, бывало, ни с того ни с сего. Потом отходил. Как мало, однако, она его понимала, собственного мужа. Странно, но теперь, тут, в горе, как-то обостренно, ясно думалось обо всем. И вовсе они не похожи — Коровин и ее Павлик. Глупости! Напридумывала черте чего! Да она бы ни в жисть за такого рыжего замуж не пошла бы.
— Вас кто-нибудь обидел, наверное, и вы людям верить перестали, — глухо в спину ей сказал Коровин.
Клара резко обернулась. Они уже были в коридоре, застекленной, заставленной кактусами и пальмами галерее, которая соединяла столовую с жилым корпусом, и солнце яростно светило, и колыхались тюлевые занавески на сквозняке... Умник нашелся! Все ему известно!.. Или кто рассказал уже? Но когда?.. Ей захотелось надерзить ему или даже накричать, как она кричала иногда на Павлика в приливе бестолковой, непонятной, рвущей ее изнутри злости, прогнать захотелось или уйти самой, но Коровин смотрел на нее, не отводя глаз, этих серо-зеленых, кошачьих, мудрых глаз, и он был, конечно, прав, и гнев ее тут же улегся, рассосался как-то, и она даже, когда он невозмутимо попросил, пообещала часа через полтора выйти и погулять с ним у моря.
Она была красива, нет, не этой стандартной, разрекламированной самопальными конкурсами красоты, готовой на все, хоть раздеться на людях, красотой, а какой-то естественностью, природностью, женственностью своей. Коровин проводил ее удаляющуюся, легкую, подвижную фигуру глазами и зашел в бар купить сигарет.
В нарочно созданном дымном полумраке, подсвеченном, как в фотолаборатории, настырно-красными лампами, гремела музыка, пахло крепким кофе и алкоголем. За могучей спиной матерого бармена — огромного, с волосатыми руками, лысеющего мужика в джинсах-варенках и бежевой («kiss me») маечке, из-под которой тоже перли по груди к шее, по плечам мохнатые черные волосы — в общем, за его спиной суматошно мигали в ритме музыки разноцветные огоньки, сияли этикетками фасонистые бутылки и коробки для бутылок, висели портреты известных артистов и кривляющихся, гримасничающих рокеров в черных одеждах с заклепками. На длинноногих пуфиках вдоль стойки сидели девушки и парни, медленно и небрежно тянули свой кофе из крошечных чашечек или сок из высоких узких стаканов. И это мигающее, гремящее, тесное и полутемное пространство мгновенно поглотило Игоря Николаевича, что-то было тут не его, нервное, бьющее по ушам, по глазам, что-то чересчур уж молодежное, из чего он давным-давно вырос, как вырастают в детстве из одежд. И он бы и рад был поскорее выйти отсюда, но у стойки, оказалось, не так просто сидели, а сидели в очереди, поэтому пришлось спрашивать, кто последний, и ждать возле узкой лесенки с железными черными перилами, лихим загибом уходящей куда-то вверх, на неведомый другой уровень, и там Игорь Николаевич, задрав голову, едва разглядел в почти полной уже темноте мягкие спинки хаотично стоящих стульев и краешек пластикового стола. Сигаретный дым снизу стремился туда, восходил плотной гущей, и, наверное, стоял у самого потолка, смешанный с темнотой. Над первыми ступеньками лесенки висела на черных веревках маленькая самодельная афиша и кричала зазывными оранжевыми буквами: «Сегодня в нашей видеопрограмме...». На половину шестого (значит, перед ужином) обещали «В логове смерти», на двадцать тридцать (после ужина) — «Козни дьявола».
Очередь еле двигалась, хоть лысоватый бармен с каменным, невозмутимо-важным и глуповатым от этого лицом вовсю суетился там, за своей стойкой, заваривал кофе в горячем песке, переливал его в чашечки, плескал что-то горячительное в крошечный рюмки-колибри, получал деньги, бросал на тарелку сдачу... Томили обожженные все-таки плечи, ныла спина. Игорь Николаевич попробовал получить свои сигареты без очереди, мол, всего лишь пачку и у него без сдачи.
— Всем только сигареты и у всех без сдачи! — огрызнулась очередь, и пришлось возвращаться назад, к загадочной лесенке.
От нечего делать и чтобы совсем не ошалеть в давящем, мигающем, гремящем и дымном пространстве, Игорь Николаевич прочел и приписочку на афише снизу: «Во время сеанса, Вам будут предложены: кондитерские изделия, вино, кофе, соки, мороженое».
«Сервис!» — подавляя невольное раздражение, подумал он, машинально отметив лишнюю запятую, и вдруг вспомнил о Кларе. Что с ним произошло там, за столом? Вот ведь забытые чувства и ощущения!.. Он уж и не помнил, когда так искал внимания понравившейся женщины. А может быть, это юг так действовал на него? Море, солнце... Он передернул плечами, чувствуя сухую, стянутую, покалывавшую и обещающую бессонную ночь впереди саднящую кожу. «Теперь волдыри, боль, рубашку не снять на пляже... — с привычной досадой представилось ему. — Одеколона надо бы купить...» А с Кларой все было, наверное, проще. Ну да, он даже вспомнил, о чем подумал, когда позвал его Валера, вернее, нет, не когда позвал, а когда он уже подошел и Клару увидел. Что-то сразу тронуло его в этой юной женщине, с каким-то странными испытующим испугом она взглянула на него и отвела глаза. И Валера тут что-то о цыганах, о сумке, о своей дурацкой книге по фантастике... А он, Коровин, сразу почему-то представил себе, как Валера будет нести подобную банальную дикую чушь этой симпатичной Кларе, мучительно думая свою примитивную думку: ляжет она с ним или не ляжет; как занудно и тошно станет косноязычно ворчать на что-нибудь или на кого-нибудь, будет часто повторяться, исходить завистью и желчью и как вдруг беспечно и глупо захохочет во все свое Валерье горло, обнажив крепкие (хоть проволоку кусай) белые зубы, какой-нибудь плоской своей же шуточке, типа Карл у Клары украл кораллы... Короче, ему мгновенно так жалко стало этой красивой женщины, так обидно сделалось за весь их женский род, что, конечно же, иначе поступить он не мог. Хотя какая-то мистика, необъяснимость тут все же присутствовала, и вряд ли он ясно мог назвать все своими именами.
«Отбил, называется... — раздраженно подумал Коровин созерцать бармена за стойкой. — дальше что? Водить ее по вечерам на танцульки или сюда, на «козни дьявола» по видику?»
Сколько же их расплодилось кругом этих крошечных видеозалов, салонов, кафе и баров, где показывают всякую муру, — примитивный сюжетик, погони, драки, ужасы, кровь, кишки по асфальту, — щекоча нервишки родному до боли, не избалованному маскультом, советскому обывателю! Все можно, сказали ему, хоть заголяйся, — прочь стыд! --все дозволено, что не запрещено. А что запрещено, то особенно сладко, к нему тянет, за него любые деньги не жалко... И ведь может статься, что все он насочинял себе про эту Клару, что ей и Валеры хватило бы с лихвой, что какие к чертям тонкости в этой зачерствелой, а может, и испокон простой и грубой — хлеба и зрелищ — жизни? Просто с годами, с веками, с тысячелетиями хлеб становился все хуже и хуже, а зрелища — массовей, зрелища — в каждый дом, на, смотри по своему телевизору, пугайся и смейся, истекай похотью и страстью, не слезая с дивана, а можно еще и на кухне, под жратву, под чай с пирогами — все можно!..
«Буфетчица в чайной...» — вспомнил Игорь Николаевич, но тут подошла его очередь, и бармен-гигант одарил его пачкой сигарет, заначив гривенник из сдачи.
Коровин встряхнул мелочь на ладони.
— Есть вопросы? — выпятив из-за стойки свою гренадерскую грудь, упакованную в фривольную маечку «kiss me», с миролюбивым бесстыдством поинтересовался бармен.
— Вопросов нет, — вяло ответил Игорь Николаевич, пряча деньги и сигареты в карман куртки.
«Ведь сочинит, подлец, какую-нибудь буфетную наценку, напомни ему про гривенник... — подумал Коровин подавленно. — Он вон какой дядя большой, ему на хлеб, на масло, на бензин, на девочек нужно...»
— Слышь, Коровин, — окликнул его Валера уже в коридоре. — Чего скажу-то, старичок, чего скажу!.. Я тут справочку навел...
Он заговорщически взял его под локоток и повел по коридору, устланному вытоптанной красной ковровой дорожкой, куда-то туда повел, где мальчишки стучали теннисным шариком по зеленому столу, перегороженному провисающей сеткой, где за огромными шахматными досками кучковались задумчивые мужчины, неуклюже передвигающие высоченных ферзей и слонов, в общем, в уголок, к двери с надписью: «Игротека. Бильярдная. I час игры — 2 рубля».
— Мне теперь, старик, даже не жалко, что ты Клару отбил, — сказал Валера сладострастно и непривычно щедро для себя. — Отбил же, отбил, не отпирайся! Другой бы на моем месте... — Он сделал угрожающую паузу и тут же хохотнул счастливо. — Но я тебе друг — ты мне сумку спас — и потому предупреждаю... Услуга за услугу...
Тут он, склонившись к самому уху Коровина, перешел на горячий, свистящий шепот, и из всей этой шепелявой, брызжущей слюной невнятицы Игорь Николаевич сумел понять лишь, что Клара — та еще Клара, что пронеси и помилуй, что она тут с каждым встречным-поперечным и что говорит, от нее можно запросто подцепить...
— Имей в виду, Коровин. Не исключено самое страшное! Так что, как говорится, не рой другому яму и скажи спасибо верному товарищу за своевременное предупреждение! А то он налетел, отбил, увел... В нашем опасном деле — разведка, разведка и разведка! — весело заключил было Валера, но обернулся и добавил с искренним удивлением на лице: — А вот посмотришь на тебя, Коровин, и ни за что не скажешь, что ты тоже ходок. Ой, ходо-ок!..
И он куда-то упорхнул своей бойкой косолапой походочкой, а Игорь Николаевич с лютой тоской (ведь точно помоями облили с ног до головы) подумал о том, что вот такие Валеры куда лучше приспособлены к этой жизни, куда прочнее стоят на ногах, чем он со своими тонкостями, принципами и нравственными запретами. И сама-то жизнь, ее основа, ее нынешнее нутро — все это идеально подогнано под них, под Валер, под Ларис, под лысых барменов, под хоккейных или нехоккейных тренеров, и они хозяева сей жизни, убогой и плоской, как фанерные транспаранты на демонстрациях, как рисунки и лозунги на этих транспарантах, потому что всегда точно знают, чего от нее хотят и добиваются этого маленького своего любыми способами. Вот та же Лариса: надо отдохнуть — что же, что денег нету? ведь надо же и — пожалуйста, потому что можно, если очень хочется, можно и без денег, потому что главное — цель и очень-очень захотелось, а средства...
«Да, да, — ухватил, кажется, ускользающую мысль Коровин. — Для них нет негодных средств — все хороши. Нельзя украсть сразу десять тысяч — крадут по гривеннику. Или Валера... Главное — разведка? Да нет, главное — своего ему добиться, не сплоховать, умыкнуть, урвать, не дать маху...»
Он очнулся уже возле теннисного стола и бессмысленно, долго наблюдал за перемещениями белого пластмассового шарика, звонко скачущего туда-сюда, туда-сюда... Вдруг один из играющих мальчиков неловко ступил, и, коротко, сухо и зло хрустнув под его ногой, шарик превратился в сплющенный комочек, в рваное белое пятнышко на полу.
Мальчишки, что стояли вокруг стола и, видимо, ожидали своей очереди поиграть, загомонили недовольно и резко. Сначала Коровин ничего не понял из их громких, обиженных и обидных восклицаний, но потом все же догадался, что весь сыр-бор у них разгорелся из-за того, кому идти за новым шариком к какому-то Ромео (они так и говорили — к Ромео), наверное, заведующему игротекой, который может шарика больше не дать.
— Полтинник готовь, козел! — крикнул один мальчик тому, виноватому, раздавившему шарик и прервавшему игру. — За полтинник даст.
«И тут свои драмы...» — подумал Игорь Николаевич и пошел прочь.
До встречи с Кларой оставалось около часа, и нужно было о многом подумать, и вообще сходить к морю, а то он моря еще близко не видел.
Да он просто сумасшедший, этот просто Коровин, добрый сумасшедший, как бывают же в сказках добрые и злые волшебники. Да разве можно быть таким? Ну, что он говорит-то?! Как? Он вообще как-то не так разговаривает, не то его интересует, что всех, не то для него главное, что для всех. А вот как с этим мертвым дельфином, вот возьмет, вытащит самое что ни на есть незначительное, мимо чего девяносто девять человек из ста прошли бы со спокойным сердцем и не заметили б, и вот уж накрутит, раздует, нагонит важности. Клара к таким не привыкла, — Павлик ее, конечно, не Коровин, словечек всяких разных, может быть, помене знает, книжек стольких не читал, да и сказать так гладко не скажет, а тоже, бывает, водится за ним похожее, — но ведь к этому, если честно, и привыкнуть невозможно. Ну, хотя бы с дельфином, которого выкинуло на берег, ну, выкинуло и выкинуло, другой бы мимо прошел, мол, чего не бывает, и люди гибнут, чего уж там дельфины (это ж все равно что рыба, только большая), а он, Коровин, завелся. Видишь ли, кто-то возле того несчастного дельфина сфотографироваться решил. Ну и что? Сама бы она не стала, конечно, в смысле фотографироваться. Но и людей можно понять: приедут домой, напечатают карточки, будет что вспомнить... Так Коровин их разогнал.
— Они же что делали, безумцы? Они кучкой возле трупа стали. А один, — ну, не мерзавец ли? — ногу водрузил, как охотник на тушу поверженного льва! Кощунственно! Дико! Каменный век!...
Клара хотела спросить, что такое «кощунственно», но промолчала, не стала подливать масла в огонь.
Они шли по гремучей гальке вдоль неспокойного края моря. Штормило не штормило, а волны все же набегали с шипением, треском и грохотом на берег, довольно высокие волны, гнали перед собой мелкие камешки, которые потешно, как живые, выпрыгивали из пены и в пене же исчезали. До крупной гальки волны дотягивались редко, вяло лизали берег вытянутыми языками, а все чаще просто гасили силу друг друга — одна накатывалась, другая с шелестом откатывалась ей навстречу, и белые буруны свирепо клокотали в бессильной ярости.
— ...И главное, представляете, Клара, — говорил свое Коровин, — они с такой неохотой от дельфина отошли. Вон там это было, за тем вон волнорезом. Идиоты бесчувственные!..
Слушая его, Клара вдруг подумала о вечности (она очень редко, почти никогда так вот отвлеченно не думала), то есть не совсем даже о вечности, а просто о море, о волнах, о том, как стачиваются, скругляются, ударяясь друг о друга, камни под их монотонными накатами и откатами. И все не вчера началось, а когда-то давно-давно, и не завтра кончится. В общем, рядом с морем о чем-то таком думается, об отвлеченном, пустом, далеком, о чем, наверное, Коровин думает часто.
— ... Я подошел, на колени опустился, взял ее на руки... Да, да, это девочка была. Я, знаете, сразу подумал о ее родителях. Ведь мечутся где-нибудь там. — Он махнул рукой в сторону рокочущего моря. — Зовут, ищут, исстрадались небось все. Они же, дельфины, умные, они, может быть, все понимают и чувствуют, как мы. А эти, — ну, дикари! — фотографироваться... Поднял я ее и, куда же, думаю, милая, тебя деть-то от них ото всех? Понес в камыши. Вон туда... Тяжелая. Положил, маленько отдохнул и яму стал копать. Прямо руками. Там, на глубине, песок крупный, зернистый и мокрый. Холодный — одно слово могила. Ну, сколько я отрыл? Не так и глубоко, конечно. Около метра будет... Там еще камыши, корни какие-то мешали. Положил я ее и засыпал. Я там камнями знак сделал, привалил маленько. Хотите посмотреть?
Клара взглянула на мокрые колени Коровина, на грязные, в песке, его брюки и плащ. Ну, что ты с ним сделаешь? Разве откажешься? Придется идти на рыбью могилу. И так все туфли полны песка...
— Пошли, — сказала она покорно.
На пол дороге, когда до камышей оставалось метров пять, не больше, Коровин вдруг нагнулся, схватил два больших камня и бросился вперед.
— Сволочи! — дико заорал он. — Фу! Пошли! Пошли вон! Гады!..
Клара ничего не поняла, и лишь когда Коровин запустил на бегу сначала один, потом второй камень и из камышей с треском и виноватым ворчливым лаем выломились две огромные черные собаки, она, подчиняясь странному страху или даже азарту, тоже схватила камень, швырнула в одного из псов и, что-то крича и почти не слыша себя, побежала следом за Коровиным, врубилась сходу в камыши. И что это на нее нашло? Клара, стоя в высоких камышах и глядя сквозь них на убежавших собак, никак не могла отдышаться.
— Сытые-то какие! — с шумом раздвигая сухие, похожие на бамбуковые стволы камышей, заполошно проговорил Коровин, не оборачиваясь. — Аж тошно! Вовремя мы. Не разрыли, слава богу!
Клара сделала несколько шагов за ним, но не дойдя до дельфиньей могилы, остановилась и отвернулась, чтоб ничего не видеть. Она лишь слышала, как шуршал песком Коровин, снова, должно быть, засыпая могилу, как, чертыхаясь, носил и кидал он камни, как бранился на собак, улегшихся тут же неподалеку на гальке, но не матерно, конечно, бранился. А и умел ли он о матушке-то? Клара, оступаясь и увязая в рыхлом песке, вышла из камышей и села на сухую гальку лицом к морю, высыпала песок из туфель. Ветер крепчал, и было пасмурно надо всем. Сухие метелки камыша едва различимо за рокотом волн шелестели в вышине. Топорщилась дикая шерсть собачьих загривков не то от злости на них с Коровиным, не то от ветра, и умные терпеливые морды у них были в песке. Пахло йодом и далью, серой, взволнованной до горизонта далью моря. Пляж был пустынен и скучен, и то, чем они тут занимались с Коровиным было ей непонятно и скучно. На всякий случай Клара взяла в руки палку, тяжелую, пропитанную соленой влагой, обточенную на волнах прибоя. Так было спокойнее, а то эти собаки... Они смотрели на нее и смотрели. Что-то человечье было у них в широкопосаженных острых глазах. Затих Коровин со своим мертвым дельфином. Клара подумала о том, что у нее в запасе осталось меньше недели, — как быстро и бессмысленно утекло время! — всего несколько денечков на этого странного рыжего Коровина, на Матвеевну, на сытых, страшных своим возможным умом собак, на страхи перед встречей с мужем, на все про все. А, может, она и не больна ничем? И Ромео с дружками только натрепались о ней повсюду? И как узнать? К врачу?.. Все равно придется Павлику сознаваться. А что, они с Димкой и у матери проживут, в Коммуне. Разводятся же люди... Нет, она не хотела бы разводиться, но кто же теперь знает что. Съездила... Отдохнула...
Сзади подошел Коровин, сел рядом, стал шумно отряхивать брюки, плащ от песка. Клара взглянула на него сторонними глазами — чужой, незнакомый, чудной мужик. И что их свело под этими южными небесами? Как вообще люди находят друг друга? А может, это только так говорят, что судьба и прочее, может, все проще, случайнее кругом? Случайно люди встречаются, случайно сталкиваются, тревожимые волнами, камни на морском берегу. Люди привыкают друг к другу, смиряясь с мыслью о судьбе, камни скругляются, обтачиваются, ударяясь один о другой, в беспорядке, шуме и боле штормов.
— Кобели тут, и те здоровущие, южные! — сказал наконец Коровин и швырнул в собак камень (те даже ухом не повели). — Почти ведь отрыли! Но теперь — черта с два! Теперь там гробница Тутанхамона, нет, выше — пирамида Хеопса!.. Что, скушали? — показал он собакам фигу и вдруг сказал задумчиво: — Жрем потихоньку друг друга...
— А кто у вас жена? — спросила Клара тихо, почти шепотом. — Как же она вас терпит? Или вы тут только такие? А дома тише воды, ниже травы?
Коровин сходил к морю, ополоснул в набегающих волнах руки, вернулся и снова сел рядом.
— Жена-то? — спросил он сипло. — Жена терпит. Она учительница, а сейчас, знаете, дети какие!.. Жена говорит, что я у нее самый смирный ребенок.
Собаки, видать, сообразив, что к могиле их не подпустят, поднялись, стряхнули, как воду, песок с себя и побежали трусцой вдоль берега, тяжело неся свои понурые большие головы.
— И дети у вас? — спросила Клара, вспомнив своего Димку.
— Двое, — беззаботно отозвался Коровин и прикрикнул на собак: — Давайте, давайте! Улепетывайте! Не обломится!..
— Что же дальше-то, Коровин? — спросила Клара, чтобы что-то спросить.
И пора было куда-то идти, и вставать не хотелось.
— Так дружить! — весело отозвался он, вставая и оправляя плащ, и подал ей шершавую сухую руку, помог подняться. — Как в пятом классе...
Что происходит с людьми, когда они взрослеют? Игорь Николаевич довольно часто задумывался об этом последнее время. Может быть, и нет тут прямой связи, не со взрослением это приходит, а вообще произошло со всеми с ними, живущими на этой тесной непрочной Земле в такое зыбкое, сумасшедшее время? Он ведь просто наблюдал за своими детьми, за Николенькой и Верой, сравнивал их с собой маленьким... Ведь как ярко, как свежо все помнилось теперь — отец, мать, сестра, их длинная, перегороженная не до потолка легкой стенкой комната, дверь с медной тяжелой ручкой, высокие окна, высокие мраморные холодные подоконники, желтые разводы по потолку в углах, где лепнина, плюшевый коврик над кроватью родителей, а на коврике — отец привез из Германии — старая мельница на запруженной реке, деревянное мельничное колесо с замшелыми, в тине лопастями, застывшее под ударом остановившейся в падении воды, а по верху — дорога, уходящая в буро-зеленую плюшевую даль, и по дороге идут девочка и мальчик («Как мы с тобой», — говорила сестра.): девочка старше, мальчик совсем маленький, но уже самостоятельный, с палочкой, перекинутой через плечо, а на палочке — узелок, наверное, с мукой, раз идут они от мельницы; у девочки в руках корзинка и на голове такая не то шапочка, не то косынка, аккуратно повязанная на немецкий, должно быть, манер... Еще помнились ребята, двор-колодец, девочка Таня из четвертого подъезда. Она с родителями переехала потом в Москву, будто перелетела на другую планету, и он ее никогда уже больше не видел. Он так тосковал по ней целую зиму и еще немножечко весной, так безутешно смотрел пустыми вечерами на их окна в третьем этаже, на чужие чьи-то алые шторы, на кровавые тени по этим шторам, тоже чужие, хотя ничего же не было между ними, и они с Таней вряд ли обмолвились за всю жизнь двумя-тремя десятками, ничего ровным счетом не значащих слов... Он помнил ее и тосковал потому, что кто-то из старших мальчиков от нечего делать пошутил, назвав Таню его невестой. Неужели и они, его дети, так тонко и трагически чувствуют теперь? И что же ждет их впереди? Озоновая дыра? Война? Авария? Радиация? Астматический зараженный воздух? Мертвые воды погубленных речек? О детях думать было страшно, потому что люди как-то незаметно уперлись в пустые прилавки. Вернее, в прилавки вообще: будут ли они пустыми или полными — вот что отчаянно всех волновало. Все были как будто в шорах. Мужчина желал женщину, женщина — мужчину (и чтобы замуж, замуж!), все вместе хотели мебель в дом и обои (чтоб моющиеся и финские!), сладкой жаждали жизни — чем слаще, тем желаннее. И никто не думал не только обо всех, обо всем, о земле, о народе, о родине, а даже и о ближнем своем. Вернее, думали, даже говорили, очень много говорили, даже кричали, стараясь перекричать один другого, но все это было жалким политиканством, актерством, и люди эти в земле, в народе, в родине, в ближнем своем видели лишь себя, свой крошечный хищный интерес. И это было противно, это выводило его из себя. Это и тревожило душу. Вот как могли они фотографироваться у трупа этой девочки, выброшенной морем в чуждый ей, гибельный мир, как посмели они — на фоне чужого дельфиньего неутешного горя, как довели себя до такого? Где упустили они друг друга, через какие пальцы оно ушло, просочилось, другое, прежнее, наивное, как тот плюшевый коврик над родительской кроватью, и доброе отношение ко всему? Кто научил всех холодному, дьявольскому расчету — «ты мне, я тебе»? Он был, конечно, и раньше, этот простенький, примитивный расчетик, в простых делах и в сложных, и человек по уговору отзывался на добро человеку (услуга за услугу!), но было же, было и другое — был порыв, бескорыстие, щедрость, и все без умысла, без дальнего прицела, без раскладки. Вот как в детстве — живешь себе живешь и вдруг подарок, яблоко ли, меч, машина на веревочке, велосипед или конфета, пряник... И ни за что, просто так, потому что ты есть на белом свете, потому что маленький. И ничем-то кроме улыбки или стеснительного, неловкого «спасибо» (через силу, под матушкину диктовку, мол, что надо сказать?), ничем не платил ты за эти маленькие для кого-то, а для тебя огромные, бескорыстные, полные волшебства и тайны радости, вернее, конечно, платил, то есть плата откладывалась на потом, на далекое-далекое, невидимое с высоты твоего детского роста потом. Просто где-то в тебе, в клетках твоего маленького тела, в генах, а может быть, в благодарной душе уже до конца дней твоих поселялось и жило это желание отплаты, желание тоже сделать кому-то хорошо и радостно, но не за что-то определенное, унизительное в своей конкретности — вот ты мне то-то сделал, а я тебе это — нет, а только по зову души, по тому, еще детскому зову, по стойкой и ясной (с годами ясней и ясней) младенческой, мальчишеской, юношеской памяти на добро.
Коровин лежал на животе, неловко повернув голову в сторону окна, слушал тихое и ровное, как у младенца, дыхание дяди Иллариона во сне, а сам никак не мог заснуть. Болели плечи, ныла вся спина, и в воздухе, забивая все южные запахи из приоткрытой двери в лоджию, стоял острый и терпкий дух тройного одеколона, которым дядя Илларион щедро смазал его спину.
«Слезет твой шкура, тут кислый молоко нужен, — приговаривал он, легко, щадяще касаясь напряженной, блаженствующей кожи на спине Игоря Николаевича. — Зачем раньше не сказал? В столовой взял бы... Твой женщин тебя бросит. Скажет, зачем мне этот облезлая курица? Какой ты быстрый будешь, однако. На солнце сгорел, красивый женщин познакомился... Только сюда не води — не люблю!»
Коровин так и не понял старого своего абхазца: не то он осуждал его и Клару, не то наоборот... Что-то не верилось ему и в то, что Клара тут с каждым встречным-поперечным. И не потому, что об этом доложил ему Валера, словам которого, похоже, грош цена, не потому даже, что имел же и он, Игорь Николаевич Коровин, какой-никакой, но опыт по этой части, — знавал ведь когда-то и он других женщин, кроме жены, — а потому как раз, что именно этот опыт и опыт вообще его жизни подсказывали ему, что тут не так все просто, и не такой, кажется, Клара человек...
А ведь странный разговор был у него после ужина с одним из местных. И вот он, этот разговор, сейчас вдруг всплыл в тревожимой болью памяти. Дурацкий, можно сказать, разговор, какой-то мальчишеский, петушиный, несерьезный, если учесть, что и Валера подходил к нему со своими уточнениями. Ничего, вроде, особенного, а тоже запало — две Валерины версии того, что тут было у Клары до их приезда.
«Бабы сказали, либо она сама о себе слушок, дура, пустила, — шепотом, шепотом, обжигая ухо, дрендел ему Валера, заведя в какой-то уголок. — Чтоб чистенькой остаться, непотоптанной, мужу верной... Ну, бывает, бывает с людьми! Либо кому из здешних приглянулась, да не далась. А они уж в отместку... Может, рискнешь? Как у тебя с ней, а?»
Коровин, конечно, промолчал.
«Хотя ты тоже прав... — как-то уж по-своему поняв его молчание, рассудил Валера заботливо. — Торопиться не стоит. Ей сколько еще тут? Неделю, две спящей царевной прикидываться? За неделю разведаем все в точности! Ты правильно, что не спешишь. Опасно! Все мы теперь, как по минному полю гуляем... Или у вас уже было?!»
Другой разговор был вот какой.
После ужина Игорь Николаевич искал Клару и случайно забрел в бильярдную. Два тучных, по пояс голых мужика в сползающих на бедра джинсах, истекая потом в пропахшей суконной пылью и мелом духоте, резались, похоже, не на жизнь, а на смерть — каждый по нескольку раз, будто дозором, обходя с тяжелым кием на плече огромное темно-зеленое бильярдное поле, подолгу прицениваясь к шару, щурясь и цокая языком, нервно чиркая мелом по кончику кия. Пальцы их были белы от мела, и белые полосы, видимо в азарте борьбы они, не замечая того, наносили себе на лица, плечи и крутые, упитанные бока. Игорь Николаевич постоял, посмотрел на увлеченных безумцев, но так и не дождался ни одного верного удара, двинул к выходу.
«Поди суда дарагой, — позвал его кто-то из полумрака потаенной комнатки слева от входной двери. — Садись, пожалуйста. Будет разговор...»
Игорь Николаевич разглядел крепкого парня, сидящего сгорбившись вполоборота к нему на крошечном стульчике, не то ящике, не то вообще так просто, на корточках. На нем были до белизны вываренные джинсы (вполне благородно сваренные — слышал Коровин от одного из ленинградских кооператоров) и черная пиратская футболка с белым японским иероглифом на спине, тесно облегающая его мощный торс.
«Саходи, — вкрадчиво сказал парень, — не бойся...!
«Мы с вами, кажется, не знакомы... Какой может быть разговор?» — спросил Игорь Николаевич, оставаясь в дверях.
«Это ничего. Садись! — велел парень, поднимаясь, и показал на такой же, как был и под ним, пластиковый ящик. — Боишься?» — настойчиво повторил он.
Коровин шагнул ему навстречу и очутился в небольшой комнатухе, скудно освещенной настольной лампой с гибкой, неестественно вывернутой шеей и почти вплотную прислоненной к стене.
«Они ее будто пытали, — подумал Игорь Николаевич о лампе, оглядывая статную фигуру странного собеседника. — Какие они тут все качаные, как любера. И света яркого почему-то не любят...»
Видимо, в комнате этой была кладовка и хранился здесь всякий инвентарь для различных игр. По проступающим из полумрака полкам расставлены были пустые бутылки с заграничными этикетками — «Виски», «Бренди», «Наполеон», «Шартрес», на крашенных коричневой глухой краской шершавых стенах наклеены были пустые пачки из-под сигарет — забава нищих студентов, оторванных от папы с мамой и угодивших прямо в вертеп общежития, или, значит, таких вот верзил, играющих в суперменов.
«Спасибо, я постою», — сказал Игорь Николаевич, не выдержав затянувшейся паузы.
Парень надвинулся. Пахнуло терпким потом и табачным кислым духом.
«Садись, говорю» — властно велел он и, положив тяжелые ладони Игорю Николаевичу на плечи, усадил-таки на этот ящик силой.
Коровин вскрикнул от дикой боли в плечах и отвел его руки.
«Зачем кричишь, дарагой? Кто услышит?» — спросил парень и, не оборачиваясь, лишь привычно протянув свою загребущую ручищу, захлопнул дверь в бильярдную.
«На солнце обгорел, — досадуя, что приходится как бы жаловаться этому верзиле, объяснил Игорь Николаевич. — Плечи... — Ему так надоело «выкать» на его «ты», что он нарочно добавил. — А ты меня рукой по больному...»
«Понимаю, дарагой. Прости!» — сказал парень, опускаясь на свой ящик.
«Наверное, о Кларе...» — подумал Игорь Николаевич, невольно трогая пульсирующие болью плечи и озираясь по сторонам в неосознанных поисках чего потяжелее — на всякий случай, если разговор не туда повернет.
И почему вот он сразу о Кларе подумал? Впрочем, чем же еще он мог заинтересовать этого вышибалу с руками гориллы? Не своей же неприметной персоной...
«Меня Айрик зовут», — сказал парень и очень больно сдавил ладонь Коровина своей потной горячей ладонью.
Глаза попривыкли, и Игорь Николаевич заметил в углу ломаные кии, увесистые дубиночки хорошего плотного дерева, отполированного руками. Оттуда же, из угла, грустно улыбалась с цветной фотографии грудастая голая девка с длинными желтыми волосами.
«Джентльменский набор...» — подумал Коровин, соображая между тем, что такой дубинкой, если что, этакого лося сохатого, пожалуй, не завалить, да и тесно, не размахаться будет.
«Ты Ромео знаешь?» — спросил Айрик мирно.
«И Джульету, что ли?» — усмехнувшись, уточнил Игорь Николаевич, хотя, конечно, вспомнил, что о каком-то Ромео говорили между собой мальчишки, когда раздавили теннисный шарик.
«Слушай, я серьезно спрашиваю! — кажется, не понял юмора парень. — Это мой друг — Ромео. Его мама с папой так назвал! Не знаешь еще?»
Коровин все же углядел в полуметре от себя маленькую черную гантельку с облупившейся местами краской и сразу упокоился. Нет, не оттого, что теперь было чем отбиться от Айрика в случае чего, а просто сообразил, как же это он его гантелькой-то? до чего же надо довести человека, чтобы он схватил железяку и опустил на чью-то голову? Да нет, он не ударит, конечно...
«Ладно, — сказал Айрик, не дождавшись ответа. — Ромео просил передать, чтобы ты больше с ней не ходил. Да? С этой, с Кларой. Ты с ней не надо! Понял? Порченый она. Сильно болеет. Да! Ромео тебе добра хочет...»
«Кто испортил? Чем болеет? Почем какой-то Ромео за меня решает, с кем мне ходить, с кем нет?» — начал терять терпение Игорь Николаевич.
В конце концов худо ли, бедно, а за себя он постоит, если что. И вообще это ни в какие ворота!.. Этот Айрик, некий Ромео и даже не из рода Монтекки... Что лезут они в его личную жизнь?
Айрик строго погрозил ему пальцем и сказал, вставая:
«Не шуми! Да? Я тебе говорил. Ты меня слушал... Иди теперь. — Он распахнул дверь в бильярдную. — Не надо тебе с ней. Все! Зачем много знать? Зачем спрашиваешь? Что хочешь? Зачем Ромео обидел? Почему сказал, что он какой-то там? — кажется, заводил, взвинчивал себя Айрик. — Я тебя предупредил? Предупредил! Иди, слушай, сам думай...»
Коровин шагнул к выходу и в этот момент Айрик нарочно, — ну, ведь нарочно же, как иначе?! — хлопнул его ладонью по плечу. Игорь Николаевич стерпел, через силу улыбнулся этому бугаю и пообещал:
«Ладно. Буду думать сам... — и добавил, тронув пылающее болью плечо. — А вот это ты зря!»
Но его отвлек один из игравших на бильярде мужиков, который шарахнул по шару, да видно, промазал и, упав на колени, воздел кий к потолку, завыл в голос.
«Бивает!.. — хитровато усмехнувшись, самодовольно изрек его счастливый соперник и положил свой кий поперек стола. — Двести пятьдесят с тебя. Или еще партия?..»
Вот и весь разговор...
В незашторенное окно глядели крупные глазастые звезды. Море попритихло, но были слышны его яростные вздохи и постанывания. Коровин попытался перевернуться на бок и невольно застонал сам от боли. Что же, так теперь и не сомкнуть ему глаз до утра? И лежать только на животе? Притих чуткий во сне дядя Илларион, но вскоре снова засопел ровно и глубоко, как море. Игорь Николаевич закрыл усталые глаза, и веки благодарно тепло расслабились. Теперь бы еще уснуть... Он подумал об этом Айрике, о Ромео, о бармене и вообще обо всех о них, рыцарях курортов, пиратах домов отдыха, флибустьерах теплого моря и буйной зелени, доблестно, сладко и целеустремленно живущих под этим звездным небом, подумал о том, ради чего они живут. А может быть, это он живет не так и не для того? Ну, проектирует свои заводы, ну, потом кто-то строит их, его заводы, ну, кто-то работает на них после и производит продукцию... Зачем, для чего все это? Чтобы вот так, по случаю, как счастье по лотерее, урвать эту путевку сюда со скидкой (да не в сезон!), приехать на две недели, послушать море, подышать им, загореть или сгореть на солнце? Чтобы отдохнуть и уехать? И снова — заводы, проекты, согласования... А они, а эти-то, у них не две недели, у них вся жизнь праздник!
Какой-то странный сон (или бред?) промелькнул в распаленном усталом его сознании. Нет, он не заснул, он продолжал думать, и мысли текли своим чередом, а сон — ленинградский мокрый двор, драная мокрая кошка серой масти лениво идет от помойки, вода, пенясь и завиваясь от крутизны водостока, бьется и растекается по черному асфальту... — сон промелькнул и погас.
«Две недели и вся жизнь...» — успел подумать он отчетливо и увидел новый сон, короткий и тоже странный, и тут же забыл его, и себя забыл, и дальше лежал уже без снов.
Клара тоже не спала. Храпела Матвеевна, как три дюжих мужика сразу. Далекая музыка, кажется, из соседнего Дома отдыха, волнами то накатывалась вместе с нескончаемым шумом моря, то затихала. Тревожно мерцал маяк сквозь неприкрытые до конца шторы, — вспышка длинная, пауза, вспышка короткая, — и в ясном черном небе низко висели звезды. Она неподвижно лежала на спине, смотрела в темное пространство окна между шторами и думала, что хорошо бы все уладить миром, чтобы ни Павлик не узнал, ни у нее бы там ничего не было (а то уж больно разводиться не хотелось!), думала о Коровине... И что она все о них да о них? Небось и с этим просто Коровиным его жена мается, как с дитем, вот как она со своим Павликом. И опять о них... Что хоть случилось с мужиком, с мужиком вообще, а не только с ее, — то он нервный вдруг, то сильнячает, на себя не надеясь, то пьет окаянный и потом ничего не может, то плачет, как баба... От него ведь, от нынешнего мужика, и родить-то ребеночка трудно. Ладно вот они с Павликом, у них Димка получился, но на то он, Павлик-то, и не пьет почти, не гуляет от нее. А вон Люська Порохова, ее сменщица, — уж скоро тридцать, во всех больницах полежала, отметилась, в Москву даже ездила с отчаяния, а на ребенка и намека нету. Резусы у них там какие-то, что-то с кровью... А оно, должно, все куда проще — это Петька ее виноват. Он. Пес тощий, каженной шелудивой бабенке норовит ручищу под юбку запустить, поприжать где, а сам с одной бы, со своей справился... Как там теперь Люська без нее? Все вздыхает небось.
Она представила, как выйдет из липецкого автобуса за мостом, спустится через ложок и поднимется к своему порядку, туда, в сторону старого кирпичного заводика, деревянные серые сушилки которого со ржавыми громоотводами над дырявыми крышами видны из окон их дома. Наверное, это будет ближе к полудню, потому что ее самолет из Адлера улетает рано-рано. Она пройдет мимо Михеенковского палисадника, мимо водонапорной колонки с вечной зеленой лужей на пол-улицы, мимо соседской скамеечки с неизменной — и зимой и летом — тетей Дусей на ней. Хотя, когда уезжала, тетя Дуся хворала и смотрела на них с Павликом из низенького оконца своего вросшего в землю дома, совсем как старая седая сова из дупла. Не померла ли, не дай бог?..
В дверь постучали. Клара вздрогнула и чутко села на кровати. Постучали еще, но, как и в первый раз, негромко, только, значит, для нее, стараясь не разбудить Матвеевну... Опять, что ли, Ромео? Она поймала в себе стыдное желание, вернее, нет, не совсем даже и желание, а так — подумалось вдруг: что, если это?.. Нет, не может быть! Босиком она стремительно порхнула по холодному паркету к двери и остановилась возле, едва сдерживая дыхание, но уже со странной уверенностью понимая, чувствуя, что это не Коровин.
— Клара?.. — спросили голосом Ромео из-за двери, тоже, наверное, почувствовав ее приближение («Как хищник добычу», — подумала она.). — Открой, я все прощу!
Он говорил хрипловатым завораживающим томным шепотом, слегка растягивая слова, и терся, должно быть, плечом о дверь.
— Я тебя приглашаю, — прохрипел Ромео чуть погодя. — Георгия бармена знаешь? Только для своих, закрытый просмотр... Хочешь? — Он помолчал, тяжело дыша и добавил: — Видео филм про лубов. Я дэсят рублей за тебя уже дал! Пойдем, Клара...
Знала она эти их фильмы про любовь, бабы рассказывали. Ну, весь срам наружу, все, как на самом деле... Разве это любовь? Она на такую любовь в детстве в коровнике насмотрелась. Нет, лучше не отвечать — скорее уйдет.
Ромео что-то сказал в сторону, наверное, своему Айрику, на непонятном языке и опять страшно хрипло зашептал:
— Рыжему твоему скажи: увижу с тобой — ноги вирву! Я ревнивый!
Она тихонько, на цыпочках отошла от двери и было легла, но Ромео еще что-то хрипел под дверью, и Клара, чтобы не слыхать его, не слыхать надоевшего храпа Матвеевны, сунула ноги в тапочки, накинула одеяло поверх ночной рубашки и, закутавшись, вышла в лоджию. Этому-то, Коровину, за что? Жалко будет, если они его... Господи, скорее бы всему конец. Будь что будет! Отъездилась она на эти юга... Сгинет, от пота сопреет у матери на огороде, а сюда — ни-ни, ни с Павликом, ни одна, ни с Димкой! А вот взять сейчас и прыгнуть вниз всем назло... И все бы! Только себя жалко... Хоть так, а жить еще хотелось.
Из-за гор взошла белая луна, малость не дозревшая до ровного круга. От шумящего моря несло прохладой и свежестью невидимого, таинственного распахнутого в ночь простора. Клара зачем-то вспомнила мертвого коровинского дельфина и подумала, где же они ночуют, бедные, в этих темных и стылых волнах? Вот ведь тоже у них жизнь — поди разбери...
За завтраком, точнее, уж под самый конец, после того, как откушали, удалились по-утиному вперевалочку Евдокия Матвеевна, а за ней и Валера в своем оптимистическом красном спортивном костюме, Игорь Николаевич сказал Кларе, что обедают они сегодня с вином и не здесь, а в ресторане, где местная кухня, где мясо готовят в твоем присутствии на особой жаровне, где рыбу (форель!) выуживают из озера прямо у тебя на глазах и, очистив, бросают на сковородку, где вообще все колоритно, броско и незабываемо. На этот ресторанчик навел его вчера вечером дядя Илларион, вернее, не навел, конечно, а надоумил сводить туда Клару. «Веди, веди! — увещевал он перед сном, когда Коровин, намазанный одеколоном, блаженствовал, лежа на брюхе. — Женщин надо внимание! Угостить хорошо, показать, какой ты мужчина — богатый, щедрый, веселый...» Дальше, уже засыпая, то проваливаясь, то выныривая из своего стариковского тонкого сна, дядя Илларион долго и путано объяснял, как найти этот ресторанчик, говорил про озеро у въезда в город (кажется, Коровин его помнил, видел из окна автобуса), про какой-то, наверное, Литфонд (старик произносил, конечно, иначе), про то, что все это возле самой дороги... «Шоссе... Автобусный остановка... Найдешь...» — выдал дядя Илларион под занавес и заснул. В общем, найдут, разумеется. Язык до Киева доведет. А вечером, до ужина, — и Коровин почувствовал, что этим особенно удивил Клару, — им надо быть на концерте органной музыки в местном соборе. Билеты он купил утром, перед завтраком у массовички-затейницы в холле первого этажа. «Новый Афон!.. Сухуми!.. Озеро Рица!..» — зычно кричала ему вслед, рекламировала массовичка, но больше ни на что Коровин не соблазнился.
За ночь он утвердился в том, что именно так ему надо ответить и Айрику, и его закадычному другу Ромео. А они чего ждут от него? Неужели, думают, он отступится, оставит для них Клару, струсит? Тут была для Игоря Николаевича самая, может быть, болевая, поворотная точка мира сего (жаль, что они-то этого не понимают!), тут проходил главный, самый чувствительный нерв его давнего спора с этим миром, с примитивным, хапальным, плотским, всегда эгоистически-наступательным способом жизни.
« Нет уж, ребята, — смело думалось ему среди ночи, когда угнетенное сознание плавало в трагически-туманном, бессонном мареве. — Черта с два! Вы тут не на того нарвались. Тут надо намертво стоять, как всегда. Потому что у меня принципы... И у вас они есть. Но ваши --сегодня одни, завтра другие, а у меня не так. Потому что дети у меня, и я их не для вечного праздника ращу, не для вашего вещного, нахрапистого мирка... Я хочу, чтобы женщина была для них женщиной, а не потенциальной шлюхой, Россия — Россией, а не кладовой природных ресурсов, не полигоном для новых мировых экспериментов, не жалкой служанкой когда-то отсталых окраин... Пусть долг будет долгом, а честь — честью... А вы как думали? Тут уж — либо-либо... Либо ваша возьмет и меня не станет за ненадобностью, зачем такие идиоты, вроде меня, либо мы еще поживем, как положено жить, по-людски...»
Как-то этой бесконечно, трудной, бредовой ночью, как-то длинно думалось ему, и, мучительно проснувшись, Игорь Николаевич был уже ко всему готов, и приняты были все решения. Да оно и не особенно требовалось ему — готовиться и решаться. Он больше обобщал ночью-то, подгонял, подтягивал частные, отдельные, разбросанные свои мысли к какой-то чистой и ясной закономерности, к системе, и вот под утро у него все, кажется, улеглось, спрессовалось, взвелось, как пружина, и готово было реализовать себя в деле.
А потом был этот хваленый ресторанчик на берегу тихого озера, вытянутого вдоль шоссе, была рыба, кисловатое белое вино «Вазисубани» в зеленых бутылках с жирно проштампованными этикетками, были шумные, поющие компании за соседними столиками и даже что-то вроде «от нашего стола — вашему столу»... И Клара вела себя правильно — непринужденно и была весела то ли от легкого вина, то ли от озерного гладкого простора, открывающегося с застекленной веранды, где они сидели, то ли оттого, что и впрямь Коровину удалось снять с нее оцепенение, напомнить, что она женщина, а не принадлежность чьего-то там ложа наряду с простыней или пододеяльником... Она благодарно смеялась на его незатейливые шутки, невзначай трогала в порыве веселья его руку своими чувствительными прохладными пальцами. Но пора было идти слушать орган, и Игорь Николаевич подозвал официанта, коротконогого шустрого крепыша с черными-черными глазами и большим — бабочкой — галстуком сиреневого, со стальной блесткой цвета.
— Восемьдесят девять сорок, — радостно сообщил им официант и застыл выжидательно, и улыбка его застыла на лице, превратившись в неживую, нелепую, будто наизнанку надетую гримасу.
«Почти мой аванс, черт побери!..» — весело и отчаянно (это от вина) подумал Коровин и невольно спросил:
— Он что у вас, ресторан-то кооперативный?
— Нет! — строго отрезал официант, прогнав улыбку с лица, и оно вдруг стало суровым и неподкупным, как у стража порядка.
Деньги, конечно, такие были, и Игорь Николаевич невозмутимо, вернее, стараясь, чтобы со стороны все выглядело именно так, полез в карман за ними, достал и принялся отсчитывать, медленно и хозяйственно. Было понятно, что весь их с Кларой обед не стоил и половины того, что спрашивал с него этот бдительный нахал в не очень опрятном черном костюме, окантованном по бортам пиджака сиреневой полоской, в белой мятой рубашке с эти нелепым не то бантом, не то галстуком и с салфеткой, небрежно переброшенной через руку, но таковы были правила игры, которую ему постоянно тут навязывали, и он должен был либо принимать их, либо утверждать правила свои.
«Как же! — подумалось ему между прочим. — Так я их пятиминутной моралью и переделаю сейчас!..»
Он уж было протянул деньги официанту, но Клара, до этого спокойно наблюдавшая за всем происходящим, вдруг перехватила его руку.
— Постой-ка, погоди! — сказала она тихо и, ласково взглянув на официанта, попросила: — Принес бы ты нам меню, дорогой, калькуляцию. И счет, конечно! У вас же тут не какая-нибудь чайная у дороги. — Она взглянула на Коровина: — Дерут, да? — И снова обратилась к застывшему, напряженно глядящему на деньги официанту: — Дерете, как ресторан наивысшей категории.
— Бог с ними, Клара, — сказал Игорь Николаевич неуверенно, и вправду не ожидая от нее такого.
— С кем бог? — преувеличенно изумилась она и коротко хохотнула в кулачок. — С ними? Да они бога забыли давно! У них вон, гляньте-ка, у них по железному рублю с профилем в каждом глазу сидит, им из-за рубля-то ни нас с вами, ни бога не видать!..
Коровин пожал плечами, не зная, что тут сказать и как быть дальше.
— Неси, неси! — велела Клара официанту.
Тот часто задышал, побагровел, перекинул салфетку с одной руки на другую и выдавил из себя:
— Да, у нас ресторан высшей категории! Не нравится, зачем ходил? — На Клару он, разумеется, даже не взглянул, а изливал все ему, Коровину. — Денег нет, надо дома сидеть...
«Ну, предположим, кое-какие деньги у меня есть...» — мысленно возразил ему Игорь Николаевич, озираясь.
На них скорбно, как на покойников, смотрели из-за других столиков. Веселье смолкло давно, и затихли песни. Из какой-то каморки выглянули еще два орла в галстуках-бабочках, но пока в разговор, видимо, решили не встревать.
— Это чтоб за две бутылки кислятины ихней, да аж девяносто рублей лупить? — спросила Клара у Коровина.
— Ви рибу ел? — тоже у Коровина спросил официант. — Ми его в озеро поймал?
— За жалкие три рыбьих хвостика?! — не унималась Клара.
— Может, это у них с выносом считается? — предположил Коровин, еще не зная, не найдя, как поступить. — С выносом дороже! Это я, знаете, в Средней Азии в командировке был, так видел...
— Автондил! — позвали их официанта те двое из коморки, и он послушно ушел.
«А и пусть!..» — отчаянно подумал Коровин, мол, чем быть, того не миновать.
Кто же знал, что Клару так разберет?
— Уступать еще! — совсем разволновалась Клара. — Они у вас лишние, деньги-то? Ну, вот... Пускай несет калькуляцию, ага! Тут тоже кое-что понимают в этом...
Вскоре появился их официант, решительно подошел и положил на стол перед Игорем Николаевичем какую-то мятую голубоватую бумажку. И что-то на этой бумажке было написано, не разобрать, что, быть может, даже не по-русски...
— Пятьдесят сем рублей давай, — сквозь зубы выцедил официант.
Был он уже без щегольской салфетки через руку, и пиджак расстегнул.
— А где меню? Накладные? Калькуляция? — спросила Клара ласково-ласково.
— Слушай, — взревел, взмолился официант. — Скажи ей, да!..
Коровин молча отдал ему деньги, взял слегка покачивающуюся Клару под локоть и повел к выходу. Что-то сказал им вслед, кажется, официант на своем языке, судя по тону...
«Плевать!» — мысленно отсек его от себя Коровин.
— Зря вы, ей-богу, зря!.. — лепетала Клара в остывающем азарте, но шла покорно. — Калькуляция... — повторила она магическое, видимо, для нее слово. — Зря! Накладные... Меню...
— Эти русские!.. — вырвалось у кого-то за спиной Игоря Николаевича, когда они уже миновали веранду, и он резко обернулся, но никто не встретил его бешеный взгляд своим встречным взглядом.
На улице было жарко, солнце припекало совсем по-летнему. Ох, уж это солнце!.. Зеленели легкой молодой зеленью незнакомые деревья и кусты. Откуда-то ветром принесло удушливый аромат мимозы, и он подержался в прогретом воздухе несколько секунд и исчез, как не было. Коровин снял только что надетый плащ и осмотрелся в поисках автобусной остановки. По шоссе туда-сюда шмыгали автомобили. Вдруг один — белые «Жигули» — тормознул, подал немного назад и, постояв, всего, может быть, три секунды, рванул с места. Игорю Николаевичу за дымчатыми стеклами автомобиля почудилась свирепая физиономия Айрика. А может, это был не он.
Черная «Волга» лихо влетела на ресторанную стоянку, затормозила уверенно, с ходу у самой стены. Из нее вышли два черноволосых молодца в почти одинаковых, как у братьев-близнецов, джинсах-варенках и куртках. Один степенно, с достоинством вошел в ресторан, другой помог выйти из машины белокурой спутнице.
«Неужели Лариса?» — чуть не вырвалось у Коровина, и он остановился.
Да, это была она, их с Валерой самолетная попутчица, в черном с серебром каком-то сногсшибательном платье, в туфлях на высоком каблуке. Она его тоже, кажется, узнала.
— Привет! — сказал ей Коровин. — Отдыхаете?
— А вы? — спросила она и окинула Клару с ног до головы оценивающим взглядом. — Так смеялись, так смеялись, чуть с кровати не упали? — напомнила она ему им же рассказанный там, в аэропорте, анекдот про французов.
«А-а-а!.. — с трудом догадался Коровин, о чем это она. — Запомнила, значит...»
Рядом с Ларисой, пока они переговаривались и переглядывались, скучал ее мальчик, смотрел поверх всего, вроде, даже не на озеро, а выше, на далекие горы за ним. Выскочил из ресторана его близнец, что-то гаркнул приятелю по-своему и теперь оба они так пристально и враждебно взглянули на Коровина, что он невольно смутился и опустил глаза.
— Пока! — сказала Лариса.
Он даже забыл кивнуть в ответ.
«Самцы», — почему-то подумалось вдруг Коровину, хотя при чем здесь это, и вообще, если судить по не то вчера, не то уже сегодня рассказанному Валерой анекдоту, все было наоборот.
— Это кто? — спросила Клара робко, проводив Ларису со спутниками погасшим взглядом.
— Так... — неопределенно махнул рукой Коровин и, отвернувшись, повлек ее за собой к остановке автобуса. — Вместе сюда на самолете летели... Валера ее тоже знает, — зачем-то добавил он.
— Из Ленинграда... — кажется, примирительно, во всяком случае как-то с придыханием, загадочно прошептала Клара, семеня за ним по шоссе.
А анекдотец-то Валера рассказал не смешной, препохабный, до омерзения жлобский и пошлый. Да Коровин и слыхал его уже от кого-то, а сейчас, вспомнил вдруг, как Валера его рассказывал и какая довольная морда была у него при этом. Суть была в том, что заговорили там два мужика, как всегда о бабах, и один другому: «Я тебе как мужчина мужчине...» — «Ты не мужчина! — возразил ему другой. — Ты — самец!..». А главное было, пожалуй, в том, как Валера произнес конец анекдота, стало быть, мораль сей нехитрой басни — сладенько, благоговейно, с полным пониманием и сочувствием (или почти соучастием), мол, мужчина здесь — это человек, у которого все есть: деньги, машина, дом, друзья, который женщину оденет, накормит, напоит, до койки довезет, а самец — это как раз тот, кто гол как сокол, но с принципами, короче, вроде бедного Адама, выгнанного из-за любопытства Евы из Рая, который ничего, кроме себя самого, женщине предложить не может.
Автобуса долго не было. Клара молчала. Игорь Николаевич безуспешно проголосовал нескольким машинам.
— Вот если бы вы отошли за кустик, а я одна им рукой махнула.. — посерьезнев, сказала Клара. — Но мы так делать не будем. Пойдемте. Время есть, да тут и недалеко, кажется...
«Совокупляйтесь, господа мужчины и госпожи женщины, радуйтесь жизни, купайтесь в удовольствиях. Вас не выгнали из рая, вас оставили... Да нет, вас тоже турнули оттуда поганой метлой. И тогда вы решили поиграть в рай на земле...» — думал Коровин, идя рядом с Кларой по обочине шоссе, и Клара, кажется, поняла бы его, скажи он все это вслух. Но он молчал, глядя на проносившиеся мимо разноцветные автомобили.
С концерта органной музыки они возвращались тоже пешком. Там, в старой церкви десятого века, переделанной в концертный зал, под Баха в исполнении заезжего артиста со смешной фамилией Сермягин, Клара продрогла, долго и после не могла согреться, и почувствовала противную слабость в теле. Ее то знобило, то подташнивало, и весь концерт почему-то было ужасно жалко себя и хотелось плакать. Фрески внутри собора почти не уцелели, стены закрашены были бежевой масляной краской, лишь купол, восстановленный после разрушения позднее, был расписан. Создатель смотрел с высоты бесстрастно, и лик его окружен был по ободку барабана шестикрылыми серафимами. Это нашептал ей на ухо в перерывах между номерами сильно разбирающийся в божественных делах Коровин. Еще он сказал, что чуть пониже изображены апостолы и что орган поставлен не так, поэтому и звук его идет не прямо, а как-то отраженно.
Клара слушала его вполуха, а когда он смолкал и органные басы всем весом обрушивались на них, ей делалось не по себе, ей казалось, что этот бесстрастный бог сердится на нее, грешную, она даже дрожала. Клара вспомнила свою старую боринскую церковь, разрушенную когда-то. Кажется, еще отец ее был маленьким и до самой смерти гордился, что помогла взрослым мужикам стягивать за веревку кресты с купола и сбрасывать колокола с колокольни. Впрочем, теперь, когда церковь дотлевала в развалинах под сорным кустарником и кривыми березками на красных, истертых в пыль кирпичных стенах, когда вон оно как с религией-то поворачивалось, отец вряд ли об этом вспомнил бы, конечно, ну, да всему, видно, свое время... Мать после смерти отца в церковь зачастила, да больно далеко приходилось ездить — либо в Липецк, либо в Петровское, в сторону Воронежа. Мать даже Димку недавно свезла, окрестила, чтоб нехристем не жил, а то вон один (она имела в виду отца) всю жизнь без бога прожил, а чего хорошего, даже дочь назвал — тьфу! стыдно кому сказать-то!... — в честь... в общем, не по-русски. Мать часто вот так ворчала теперь на отца, а пока жив был, в рот ему глядела — боялась, что ли? Да, вроде, он ее и не бил никогда...
Нет, не по ней был этот ихний орган — давил, сковывал, и думалось о доме, о матери, о муже с сыном, перед которыми она теперь виновата. Что скажет она им? Как будет у них дальше? А Димка? Нет, Павлик, если узнает... И как же ему не узнать? Нет, нет, все пойдет прахом. Это уж точно! Павлик, он, конечно, он все в дом, не пьет, не курит, не гуляет, но тут ее не поймет. Как же не поймет-то? Выходит, она должна была умереть? Он этого бы хотел?.. Клара посмотрела на Коровина, молча идущего рядом. Все они, наверное, одинаковы. Интересно, как бы этот просто Коровин поступил на месте ее Павлика?
— Вы бы отпустили сюда жену? — спросила она осторожно.
— Теперь нет, — сказал Коровин строго.
Клара сразу почему-то занервничала. Почему теперь? Это он на нее, что ли, намекает? Уже наболтали? А долго ли...
— А если бы... — неуверенно предположила она. — Ну, ведь по-разному бывает... Если она уже тут очутилась. — Она хотела сказать: «как я», но не сказала, слава богу. — Ведь бывает же, бывает!..
— Ну, — бесчувственно сказал Коровин.
Но Клара уже, кажется, завелась. Конечно, она об этом только и думала все эти дни. Нет, пусть уж он ей ответит, пусть!
— И вот приезжает она, ваша супруга, сюда без вас, — проговорила она в запальчивости. — А туточки море, солнце, у ней голова кругом... И вот они, субчики, здешние мужики-красавцы — большие, сильные и все пристают... У вас красивая жена?
Коровин неопределенно пожал плечами.
— Что значит? — возмутилась Клара. — Надо говорить, что красивая! Некрасивых баб мало, просто вы, мужики, смотреть разучились. И вообще — если жена, то красивая. Запомните! У вас нет карточки с собой?
— Я же не немец, — почему-то сказал Коровин.
Клара взглянула на него быстро и не встретила его глаз. Куда это они идут-то? Ах, да, в реликтовую рощу. Они нарочно договорились сделать небольшой крюк, чтобы посмотреть какие-то там необычные, особенные сосны, которые, как сказал этот все знающий Коровин, росли тут еще до ледникового периода. И при чем тут немцы? Что он имеет в виду?
— И к ней обязательно пристали бы, — сказала она о его жене и чуть было не добавила: «как ко мне». — Раз пристали, два... Вы меня простите, конечно!.. Они тут ко всем... На сорок седьмой раз она, глядишь, и уступила бы. Не обязательно, но могло же такое случиться. А? Вы, например, ведь пристаете ко мне... Ухаживаете! Ресторан, концерт, гуляем вот... А я вдруг да уступлю.
Что она несет-то такое? Клара потрогала ледяными, еще хранящими холод собора ладонями свои пылающие щеки. Или ее несет?
— Я как-то не думал об этом, — неудачно пошутил Коровин. — Вот она, — показал он куда-то, — роща!
— Ну, думали не думали — дело пятое, — гнула Клара свое, может быть, помимо воли. — И вот жена ваша возвращается домой...
Она остановилась, чтобы перевести дух, она захлебывалась, ей не хватало воздуха. Да, они и вправду стояли посреди сосен на асфальтированной дорожке, обнесенной низкими столбиками, между которыми чуть провисала железная цепочка. Тут даже были натыканы фонари.
— Видите, обыкновенные сосенки, только иголки длиннее, — глядя куда-то вверх, сообщил ей Коровин. --Раньше все было лучше, длиннее, больше...
О чем это он? Клара пошла по дорожке и, почуяв его шаги за спиной, продолжила:
— И все, как было, вам рассказывает, ну, как на духу, мол, грешна, казни или милуй. Как бы вы с ней поступили?
— Что она, совсем, что ли, рассказывать мне об этом? — удивил ее Коровин. — Даже если бы что и произошло, не дай, конечно, бог... Женщина должна молчать! Да и мужчина тоже.
— Ну, какой же вы бестолковый, однако! — возмутилась Клара. — Бывает, что не рассказать совсем нельзя. Разное... — Она хотела брякнуть про болезнь, но не стала уж, а то и без того слишком. — Не скрыть, не обмануть. Да и это ведь беда! Бедой делятся...
Клара, кажется, обессилела, пока говорила все это. Запах хвои, длинной, как Димкины ресницы, запах этот, кажется, доканал ее. Коровин, заложив руки за спину, уже шел чуть впереди и молчал, паразит. Ну, чего он молчит-то, этот рыжий Коровин? Кларе хотелось тронуть его за плечо, поторопить с ответом. Хотя какая разница, что он ответит. Это же не Павлик. Это просто Коровин, не родственник того, неизвестного ей художника, однофамилец, на котором она решила прокрутить, опробовать свое возвращение домой.
— Вы, Клара, за болвана меня держите? — вдруг спросил он, обернувшись и отведя рукой в сторону лохматую ветку сосны. — Это, знаете, в боксе — я занимался чуть-чуть — есть груша для тренировок, мешок с опилками... Я, простите, на эту роль не гожусь, потому что... — Он пощелкал пальцами и помолчал, подбирая нужные слова, а у нее дух захватило, как на краю, на большой высоте, у обрыва. — Потому что, кажется, знаю, о чем вы умолчали.
Вот тебе и просто Коровин! Чудак, ничего ему не надо, дружить предлагает, в бывшую церковь на орган вот сводил, в ресторане отметился, рыжий, рыжий, конопатый... Она остановилась, прислонившись спиной к шершавому теплому стволу сосны, примолкла в ожидании. Не так он и прост, этот Коровин...
— Вам ничего не говорит имя Ромео? — спросил он наконец, как будто она обязана была отвечать ему на все, о чем бы ни спросил.
У Клары тяжело и гулко затукало в висках, и ослабли ноги совсем. Господи, и тут они успели, и ему наплели!.. Обложили, ославили... Но она же знала, что так и будет! А все-таки...
— Только я не верю, что вы сами ему уступили, — проговорил Коровин безжалостно. — Ведь нет же, нет! Он вас заставил? Силой?..
— Ну, почему? — холодно возразила она, уже не чувствуя себя никак, лишь удивляясь, но как-то как бы со стороны, что откровенничает с по сути чужим человеком. — Они оставили мне выход. Я могла... — Клара усмехнулась через силу, чувствуя, как продолжает кривиться щека в неестественной этой усмешке. — Я выбирала... Могла, например, прыгнуть с балкона, с восьмого этажа. И уж тогда бы они меня... Тогда бы не далась, верность сохранила... Но не прыгнула почему-то.
— Почему «они»? — резко спросил Коровин. — «Они» почему? Он был не один? Почему хоть «они»? — закричал на нее он и больно сдавил ей руку выше локтя.
Клара видела, как побледнело его лицо, и на нем проступили, высыпали веснушки. Какой он хороший сейчас, этот Коровин, в своей злости!.. И она сначала сказала, а уж потом подумала о возможном последствии своих слов:
— Их потому что было двое. Другой стоял в дверях и смотрел.
— Айрик? — спросил, вскрикнул и погас Коровин и, как стоял, прислонившись к сосне, так и сполз до земли, сдирая коричневую, сухо шуршащую кору.
Что она наделала? Ведь он такой, он же сейчас пойдет и что-нибудь им скажет или сделает, а они его... Он из тех, которые идут до конца! Клара шагнула к нему и присела на корточки рядом.
— Рыжий, рыжий, конопатый... — ласково проговорила она, чувствуя, что вот-вот расплачется, и нечаянно провела пальцем по бледной щеке Коровина.
А ведь он ее понял, все он понял, и простил бы, кабы был ее мужем. Но он не муж...
Он так остро, во всех подробностях и болевых оттенках представил вдруг беду этой женщины, что какое-то время не мог сдвинуться с места. Горела потревоженная спина. Солнце пробивалось от моря сквозь стволы сосен своим прощальным красным светом. Золотая дорожка полыхала на воде, и гулкие волны садили в берег со всего маху. Игорь Николаевич посмотрел на тихо плачущую Клару и подумал о том, что она, верно, и не замечала сейчас всех этих красот, и солнце, и море, и прибой были ей не в радость. Она была одна со своим горем, одна-одна, растоптанная, униженная, оболганная, и на нее надвигался день отъезда, истекали ее две недели праздника и красивой жизни... Ну, вот еще он был теперь с нею. А что для нее мог сделать он? Но что-то же нужно было делать!..
— Солнце красное садится — к ветру, — проговорила Клара, шмыгая носом и промокнула глаза платочком. — Или у них тут по-другому?..
Игорь Николаевич промолчал от удивления. Впрочем, горе горем, а жизнь не стоит на месте.
— Уеду я отсюда, — сказала Клара и поднялась, чтобы идти.
Он тоже встал.
— Вам сколько осталось? — спросил Коровин.
— А завтра и уеду, — сказала она обиженно. — Утром. Сдам билет на самолет и поездом. И тут тоска, мука, и домой страшно. В поезде лучше, не так сразу... Уеду!
Назад они пошли вдоль берега, по шумящей гальке. По песку. Игорь Николаевич не знал, что ей сказать и молча, сжав зубы и играя желваками. Он закурил, но тут же выбросил сигарету. Солнце уже село в неспокойное море. Несчастная женщина шла рядом и прятала от него глаза. Коровин попытался отвлечься ото всего этого и огляделся по сторонам, но чужая беда не отпускала. А впрочем, кругом было пустынно, мир был знаком, жесток и равнодушен, и сейчас он не знал, как сделать его добрее. Хотя почему сейчас? Пора давно было понять, что мир переделывается только к худшему, но и усовершенствовать его в глупой, неистребимой надежде на что-то по-прежнему хотелось.
«Пойти, что ль, в морду Ромео дать? — туго подумалось Коровину. — Тоже, конечно, подвиг... Спасет это мир, как же! И Кларе поможет...»
— Прощайте. Спасибо за все. Я ужинать не пойду, — сказала ему Клара, когда они пришли, сухо вялыми губами торкнулась в его щеку и убежала, скользнула в подвернувшуюся кстати (или совсем некстати?) кабину лифта.
«Пижоны, сволочи, дешевки! — ругался он на всех и вся, проходя мимо бара в столовую. — Что им люди? Песок между пальцев, дерьмо, навоз!..»
Ну, уж нет, он не имеет права пройти мимо этой беды и ничего не сделать. Почему-то вспомнилась белокурая Лариса в черном вечернем платье, ее фирменное «пока», долгий, оценивающий (накладные, калькуляция?) взгляд, которым она окинула Клару...
«Мало им добровольцев! — подумал Коровин, проходя между столами к своему столу. — Силой берут... И со всем этим надо смириться!»
— Приятного аппетита, — пожелал он Евдокии Матвеевне и Валере, садясь за стол.
— А Кларочку куда задевали? — полюбопытствовала старушка.
Коровин промолчал.
— Он у нее украл колары, — пошутил Валера. — В смысле кораллы...
И сам засмеялся своей шутке.
Игорь Николаевич не чувствовал вкуса еды. Ну, предположим, найдет он этого Ромео, поговорит с ним по-своему, по-мужски. Еще там Айрик... С двумя ему точно не справиться. А что еще он может для нее сделать?
Валера, оказывается, что-то говорил, шутил, значит, дальше, развивал мысль. Коровин прислушался.
—... Сегодня после ужина «Их называли костоломы» в баре по видику. Про каратистов. Пойти, что ли? Развлечься? Вот у нас в хоккее, вот костоломы! — Он обращался, конечно, к Евдокии Матвеевне, видя полное безразличие Игоря Николаевича к своим словам. — Вот, как вы думаете, сколько у меня переломов на левой ноге?
— А запеканку-то подожгли, — заметила старушка.
— Целых восемь! Два было открытых! — в упоении сообщил Валера. — А на правой?..
— Ой, да ну вас, — махнула на него рукой Евдокия Матвеевна. — Страсти какие к ночи! Еще примстится... Кричать во сне буду. Кларочку разбужу. Она так спит чутко...
Запеканка была как запеканка. Игорь Николаевич съел и почувствовал. А вот кефир — хорошо, что вспомнил! — надо будет с собой прихватить. Дядя Илларион спину намажет. Обещал. Почему-то Ромео ему представлялся в этом баре, вернее, там, наверху, где крутили они своих костоломов, в темноте, в табачном густом дыму, будто тот вообще не выползал на свет божий, не оторвать его было от видика. Коровин и разговор свой мужской с Ромео, с Айриком мысленно перенес уже туда. Вот он подходит к ним в полумраке, а тут как раз бармен разносит объявленные в афише соки, вино, мороженое... Мороженое лучше! На подносе небось... И он спрашивает: «Ты Ромео?» — «Я», — отвечает ему тот. «Получи!» — кричит он не своим голосом, выхватывает у бармена поднос и опрокидывает мороженое на Ромео. Нет, лучше берет всего одну вазочку с этого подноса и в морду ему, в рожу, в харю! И Айрику, как соучастнику...
«Детство какое-то! — недовольно подумал Игорь Николаевич, вставая и беря стакан с кефиром с собой — Фантазии...»
— Приятного аппетита! — пожелал он Валере и Евдокии Матвеевне машинально.
— Быстро ты сегодня отстрелялся... — с каким-то намеком сказал Валера.
Коровин кивнул и пошел к выходу, почему-то вспомнив, как неудачно он занимался боксом в юности, как хорошенько дали ему один раз на тренировке и сломали нос, аж на бок своротили, и как потом в травматологическом пункте, засунув в обе ноздри два холодных, пахнущих железом и свежей кровью штыря, его носом больно хрустели, придавая прежнюю форму.
«Неужели драться?» — подумал он, выходя из столовой.
— Эй, эй, стакан потом верни! Да? — крикнула ему официантка вдогонку.
Возле бара уже клубился народ. Ну, кому, конечно, не интересно про костоломов, про суперменов, про бесстрашных, непобедимых, с нече6ловеческой реакцией, резкостью и прытью каратистов? Вот и сейчас, — сейчас, сейчас! — он отнесет к себе в номер кефир и спустится к ним разбираться. Он найдет этого Ромео и этого Айрика в черной футболке с иероглифом на спине, он им всем покажет!.. Только вот что? Ну, даже если ему удастся их победить, даже если такое возможно, в принципе если возможно, ну, разве это их изменит? И вообще изменится ли что в мире? Они же привыкли так, как живут, они пасутся при Доме отдыха, кормятся, делают свои деньги, работают в игротеке, играют на бильярде, выдают теннисные шарики (за полтинник!) и ракетки, спят с приезжими бабами... Им так нравится, они так привыкли и по-другому не умеют, а он тут со своей местью, — с местью, с местью, с чем же еще! — он с моралью, с поруганной женской честью (какие реликтовые, как их сосновая роща, неслыханные, глупые понятия!), он для них как с Луны свалился. Тогда что? Как быть ему? И Кларе что делать? Она сказала, что уедет... Ну, ладно, она не хотела, а с нею так обошлись. А сколько тех, кто с радостью, с песнями сюда, по доброй воле, кто, может быть, только за этим на юг и едет? Что с ними? Благородный нашелся! Вступается за чужую жену...
— Слушай, дарагой, зачем так? — услышал он знакомый до боли, до скрежета зубовного голос, и его снова ударили в плечо, так, что он чуть не расплескал свой кефир. — Тебе говорил? Не надо с ней! Говорил?
Айрик уже оттеснял его мощным торсом к бильярдной. Сзади Айрика суетился еще один, загорелый смазливый парень с капризно выпяченными, резко очерченными губами. «На подстраховке, что ли?» Игорь Николаевич взял в другую руку стакан с кефиром и попятился, чтобы увеличить дистанцию между собой и ими.
— Ромео, скажи ему ты! Он хочет, чтобы сказал! Я ему говорил, говорил, говорил, говорил!.. — распалялся Айрик.
— Ромео? — нервно обрадовался Игорь Николаевич и сразу даже успокоился («Наконец-то! Как удачно! Не надо искать».). — Тот самый? Покоритель женских сердец? Ты? — обратился он к тому, смазливому красавчику, который выступал из-за спины Айрика, вышагивал этаким гоголем, хозяином жизни. — Тебя Ромео зовут? Вот славненько-то! Ты мне и нужен.
— Меня так зовут! — гордо подтвердил Ромео.
Да что их, на одну колодку делают, что ли? Ромео, этот роковой мужчина, гроза оставленных на две недели супругов, этот неотразимый Ромео был одет в мятые белые брюки, подпоясанные тонким бело-голубой полосы ремешком, и тоже в футболку, только в зеленую с надписью «Rembo» наискосок на груди.
«Хорош!» — зло восхитился Коровин, не замечая, что продолжает пятиться.
Из-под футболки густо перли черные курчавые волосы, лезли от груди к шее, спускались на руки, и на правой его руке, на среднем пальце сиял жирным золотом перстень-печатка.
— Дай-ка, дай я на тебя посмотрю, — с нервной, вдруг вернувшейся отчаянной веселостью проговорил Игорь Николаевич, отступая еще на несколько шагов. — Роскошный экземпляр! Торс! Плечи! Загар! Волосы из-под майки! Неотразим! А это кто же с тобой? — резко взглянул он на Айрика. — Меркуцио верный до гроба?
Они — Ромео и Айрик — заговорили меж собой на своем языке, почти по-итальянски, и Игорю Николаевичу сделалось вдруг тревожно на душе.
«А что такого? — подбодрил он себя. — Я бы тоже, кабы знал, в минуты волнения мог небось заговорить на другом языке. А они на родном... Ничего особенного»,
—...Дай ему, Ромео, — вяло по-русски закончил свою тираду Айрик.
«Ах, вот они о чем...» — даже разочаровался Коровин.
— Пусть говорит, — царски разрешил Ромео и грязно выругался на счет матери и прочего. — Он знает, что я здесь работаю. Такой смелий из-за этого.
Игоря Николаевича не устраивал сей поворот мысли, в некотором роде даже задел самолюбие.
Снова Айрик что-то сказал Ромео по-своему и несколько раз оглянулся, будто прикидывая что-то.
— Ну, что значит, «дай ему»? — спросил, перебил его Игорь Николаевич, потому что совершенно невозможно было терпеть этого непонимания, незнания, о чем хоть они там. — Ромео благороден. Я сейчас сниму перчатку, брошу ему в лицо, а он поднимет... (Ему страшно захотелось плеснуть в Ромео кефиром из стакана, аж занемели пальцы от непереносимого, глупого желания.) Дуэль! Ромео должен принять вызов. С таким именем уклоняться от дуэли? Ты, конечно, догадываешься, несравненный Ромео из древнего рода Монтекки, за что я вызываю тебя на дуэль?
— Пойдем на море поговорим, — сказал Ромео, кажется, бледнея, и что-то добавил Айрику на своем языке.
Игорь Николаевич сделал, как оказалось, последний шаг назад и уперся чуткой спиной в стенку. Слева была распахнутая дверь в бильярдную (оттуда пахнуло мышиной, меловой пылью и застоявшимся запахом мужского пота), в которую, должно быть, они и гнали его, как шар в лузу.
— Прекрасно! — согласился он тут же. — Меркуцио -0 твой секундант. А мой...
Какой-то дикий, идиотский план созрел уже в его воспаленной голове и, увидев Валеру в красном спортивном костюме, выходящего из столовой, Коровин крикнул:
— Валера! Можно тебя?
Айрик с Ромео стремительно обернулись. Валере пришлось махнуть свободной рукой, чтоб заметил и, хоть неохотно, а все же подошел.
— Вот, Ромео, Валера, — улыбаясь, сказал ему Игорь Николаевич. — Мы будем драться. Решено! На дуэли. Я больше никого тут не знаю из серьезных мужчин, поэтому прошу тебя быть моим секундантом. Знакомься — это Айрик-Меркуцио, секундант Ромео...
— Твой друг? — коротко, кажется, озабоченно спросил Айрик и заглянул в бильярдную.
— Ты чего, Коровин? Ха-х! С местными ссориться? Ну, уж нет, знаешь... Шутишь, что ли? — спросил Валера, поглядел на Ромео, на Айрика, снова на Игоря Николаевича, и тот сразу пожалел, что позвал его, все рассмотрев в бегающих глазах Валеры и поняв нелепость ситуации. — Дуэль какая-то у них... Мы, старик, так не договаривались. И вообще я на видик иду... С бабой! Билеты купил...
«С Евдокией Матвеевной? — подумал Игорь Николаевич, впопыхах зачем-то пытаясь сообразить, с какой такой бабой Валера собирается на свой видик, но вдруг все понял. — Ничего-то ты не купил! Сам же за столом еще спрашивал: сходить, не сходить? Развлечься?..»
Ромео сказал какое-то непонятное слово своему другу.
— Иди, дарагой, ты в бильярд все равно не играешь, — хитро повернул дело Айрик.
— Ха-х! Я же сразу просек, что на пушку меня берете, — облегченно выдохнув, сказал Валера, но все же спросил, даже нет, не спросил, а как бы попытался уговорить Коровина: — Ведь шутишь же, шутишь!..
— Шучу, — согласился Игорь Николаевич брезгливо.
И Валера ушел. Его красный семафорный костюм просигналил уже из другого конца коридора и исчез в дверях бара.
«Даже не обернулся...» — тускло подумал Игорь Николаевич и серьезно спросил у Ромео:
— Какое орудие, сударь, предпочитаете?
Тот презрительно скривился и взглянул на Айрика, мол, видал идиота.
Айрик на это разразился тирадой на родном языке («Ругается, наверное...») и под конец перешел на русский, державный язык, так сказать, межнационального общения:
— Да он в тебя вот таким камешком бросит, и нет тебя...
— На камнях? — спросил Коровин, зная, что его уже не остановить. — Идет! Романтично — море, шторм, дуэль на морской гальке... Жаль, секундант мой струсил. Незабываемое зрелище! Да, впрочем, по нынешнему демократическому времени, в обстановке всеобщей простоты нравов... Сойдет и без секунданта. Расстояние оговорим? Как обычно, с четырнадцати шагов? Или ближе, наверняка?.. На камнях... Знаете, в этом что-то есть! Нет, определенно есть что-то. В древней Иудее казнили, знаете, как? Забрасывали жертву камнями! А мы дуэль... Вы не передумали?..
— Обижаешь, да? — спросил Ромео.
И они пошли к морю.
Вот здесь я и оставил бы своих героев. Я что-то устал болеть их болью, думать и чувствовать, мечтать вместе с ними. Особенно меня раздражает этот чистенький, этот совестливый, этот непробиваемый праведничек Коровин. Хотя я не совсем вообще-то уверен, — пусть многое и проверял, — что все именно так, до конца так было на самом деле. А впрочем, конца-то и нет в банальной этой, а может быть, кому-то покажется, неправдоподобной или возмутительной истории.
Чтобы не потрафить иным ретивым критикам, которые, однако, все равно скажут, подлецы, что «в образе Коровина очень много от автора», сразу разочарую их — себя в настоящем романе я вывел под именем Валера. И теперь посудите сами, откуда мне, то есть детскому хоккейному тренеру Валере, знать, чем там у них кончилось, ведь, то есть я, сидел в накуренном баре, во втором его ярусе и смотрел по видику американскую кинокартину «Их называли костоломы», ел мороженое, поданное барменом, пил горьковатый крепчайший кофе под крики «кья-а-а!!!» с экрана. Да мало ли... Я знаю лишь результат: Клара уехала, даже не выйдя на следующий день к завтраку, Коровина не стало... Не тот он сам утонул, не то ему помогли. Хотя все, что видел и слышал, я рассказал, конечно, где следует, и улетел по истечении отмеренных мне путевкой двух недель отдыха в Ленинград. Я даже не знаю, какова дальнейшая судьба Ромео и Айрика, которые видели Коровина последними. Знаю лишь, что больше всех горевал, убивался по странному этому Коровину какой-то старый абхазец, который жил с ним в одном номере.
Но, понимая, что роман как-то нужно завершить (иначе читатель может подумать, что я его не уважаю), я хочу просто поразмышлять, пофантазировать в меру отпущенных мне природой способностей. Наверное, все было так.
Они всю дорогу говорили по-своему, и Игорь Николаевич терпеливо брел за ними в темноте навстречу разбушевавшему к ночи морю. Белые брюки Ромео мглисто белели впереди. Зашуршал, поплыл песок под ногами. Это они вошли в полосу камышей. Потом загремела галька, вернее, он не услышал грохота, а лишь ощутил гальку под ногами. Айрик чиркнул зажигалкой, но она, лишь ослепив короткой сине-звездной вспышкой, тут же погасла. Свет маяка пробегал верхом, цепляя низкие, густые и тревожные облака над морем и землей: вспышка долгая, пауза, вспышка короткая...
Море бесилось, кричало, клокотало, стенало перед ними, невидимое и грозное. Ветром доносило соленые брызги, и они холодили разгоряченное происходящим лицо Коровина.
«Как же мы будем в полной темноте?» — подумал он, оглядываясь туда, где остался Дом отдыха.
Высокий шестнадцатиэтажный корпус, словно сквозь дымку, светил теплыми окнами в ночи, звал назад. Где-то за одним из этих далеких теперь окон сидел на своей кровати старый, еще бодрый абхазец дядя Илларион, который обещал намазать ему спину кефиром. Игорь Николаевич сжал ненужный, кажется, никому уже стакан и хотел было выбросить его, но вспомнил, что стоит на пляже — осколки обязательно порежут кому-нибудь ноги — и что его вообще-то просили стакан этот вернуть в столовую, лишь выплеснул из него кефир перед собой.
— Ти что?! — громче моря взревел Айрик, и Коровин только теперь, услыхав противный кислый табачный запашок из его рта, сообразил, что сплоховал, попал кефиром в кого-то. — Совсем обнаглел! — крикнул Айрик очень близко от него. — Ты где?
— Прости, я не хотел... — растерянно проговорил Игорь Николаевич, но вряд ли его услышали в этом аду.
— Джинс совсем новый, слушай!.. — орал Айрик, сквозь дикий шум моря.
Коровин шагнул на его крик, но кажется, наткнулся на Ромео, который что-то сказал ему на своем языке.
— Я нечаянно! — проорал им обоим Игорь Николаевич. — Начнем?
Ромео ловко закурил, прикрыв огромной ладонью трептное пламя зажигалки, и теперь красный воспаленный огонек его сигареты был неплохим ориентиром.
— Ти чем мне джинс облил? Кислый что-то... — крикнул Айрик откуда-то слева.
— Кефиром... — сознался Игорь Николаевич громко.
Он отступил было от Ромео, чтобы отсчитать положенные четырнадцать шагов, но вернулся.
— Что ты ходишь? — спросил его Ромео, будто видел в темноте.
— Надо бы договориться, — прокричал Игорь Николаевич. — Вы не передумали? Простите... Я сейчас отмерю расстояние. Кидать будем по очереди или как?
— Кефиром жирным? — спросил Айрик сорванным или очень обиженным голосом.
— Будем кидать, пока я не просажу твою дурацкую голову! — грозно прорычал Ромео и затянулся, так что сигарета вспыхнула красно и слегка осветила его надменное лицо.
— Кефир как кефир... — отозвался Игорь Николаевич. — Я пошел. Раз, два... — он снова вернулся, суеверно успев подумать, возвращаться бы не след, не к добру это. — Вот что!.. — крикнул он Ромео. — Когда отойду, ты сигарету выброси, чтобы по-честному было. Кидать нужно на голос.
— Скоро? — спросил Ромео нетерпеливо.
Игорь Николаевич пошел:
«Раз, два, три, четыре... одиннадцать, двенадцать, тринадцать... Почему обязательно надо четырнадцать: Наверное, как-то связано с особенностями старых пистолетов... Книжки повнимательнее читать надо!»
— Готов! — крикнул он им и увидел, как полетел в сторону моря горящий окурок, описав по черному полю ночи красную дуговую линию и сойдя на нет, столкнувшись, должно быть, с волной.
— А-а-а!.. — закричали ему оттуда.
— Начинай! — сбоку, со стороны камышей крикнул осторожный Айрик.
И первый камень пронесся неподалеку, и шум его падения тут же поглотило ревом моря. Игорь Николаевич нагнулся и взял гальку покрупнее.
— Почему не кричишь? Не молчи! Хитрый!.. — заорал ему, наверное, Айрик.
— А-а-а!.. — дико гаркнул Коровин и кинул свой камень в невидимого противника.
Нет, в этом грохоте решительно ничего не было слышно. Игорь Николаевич поднял камень полегче и снова швырнул.
— А-а-а!.. — донесся до него крик Ромео, и было не понять, попал он в него, или это условный сигнал.
— А-а-а-а-а!.. — длинно отозвался Коровин, нагибаясь за очередным камнем, и тут же кинул его, распрямившись.
Лицо окропили брызги очередной волны, но от них не стало свежее. Нет, это, верно, их камни столкнулись в воздухе и осыпали, расколовшись, мелкими острыми осколками.
— А-а! — коротко донеслось до Ромео.
Детская эта затея уже, кажется, исчерпала себя и жила в Коровине лишь на остатке упорства и азарта. Он даже не сразу вспомнил, оглушенный этой темнотой, ревом моря и собственным волнением, какого черта они тут делают на берегу. Вернее, конечно, было ясно, что они кидаются камнями, но ради чего, почему, с какой стати?
«Ах, да... — подумал он в последний раз, — Клара... Честь женщины? Месть? Зачем?.. Он же не вернул стакан в столовую!..»
Из глаз сыпанули искры, густо и мгновенно угасающе. Стало тихо, кромешно, страшно тихо кругом...
А может быть, все было совсем не так?
Он все же пошел, дурачок, с ними к морю со стаканом кефира в занемевшей руке. И по дороге, — какая дуэль?! — уже на берегу они до полусмерти избили его в темноте под гром и молнии разгулявшегося моря. Да, собственно, и ударить-то могли один или два раза по голове камнем, и он еще был жив, когда Ромео и Айрик затаскивали его тело на далеко вдающийся в воду высокий мол, даже не мол, а такую специальную штуку, на которой хранились в ожидании сезона лодки, весла, якоря и буи ограждения — все это пляжное хозяйство, и, раскачав, бросили в темноту бушующей воды, как дохлую собаку. Он успел почувствовать прикосновение моря к саднящим, истомившимся обгорелым своим плечам и соленый его, горький вкус на разбитых вдрызг губах...
Через два дня его прибило к берегу в нескольких километрах от Дома отдыха, изуродованного и распухшего до неузнаваемости, и в застывшей навсегда руке он крепко сжимал вымытый морем, чудом уцелевший в драке и во всех перипетиях этого убийства граненый стакан из-под кефира.
Местная милиция, как и положено, составила протокол, провела освидетельствование, опросила всех, кого было можно, и, скорее всего, списала эту нелепую смерть как несчастный случай во время ночного купания. Спасатели со спасательной станции от греха подальше и на случай всяких проверочных комиссий подновили щит у входа на пляж с правилами поведения на воде, администрация Дома отдыха сообщила семье Коровина, что случилось такое несчастье и что цинковый гроб можно получить в морге местной больницы, — кое-кто из отдыхающих даже видел их, женщину в черном и девочку с ней лет семи, мальчик был постарше и держался самостоятельно (вдову, значит, его, дочь и сына), как они долго стояли на берегу потеплевшего, поугомонившегося моря среди загорающего и купающегося люда и сухими нездешними глазами смотрели на легкие волны, на ласковую голубовато-лазурную воду, забравшую и вернувшую уже мертвым их Коровина, не родственника известного художника, а просто однофамильца.
Впрочем, об этом случае вскоре забыли, потому что люди приехали сюда отдыхать, забавляться в свои законные две недели, а не горевать о несчастном незнакомом им утопленнике.
***
Или, представляется мне почему-то, все вышло куда прозаичнее и реальнее, что ли... Просто этот Коровин поломался, поломался с этой глупой дуэлью, построил из себя благородного рыцаря, готового сразиться за свою Дульсинею, а уж когда пошли к морю, когда дело запахло керосином и эти здоровые, качаные южные хлопцы взяли его там за грудки, он и перепугался, и струсил, и загундосил жалобно, чтоб простили его и пощадили. Так ведь тоже бывает с гордыми людьми, которые держат марку почти до конца, до развязки, блефуют напропалую, и вдруг скисают на глазах, лопаются, как мыльный пузырь, без звука и заметных последствий, и превращаются в свою противоположность. Во всяком случае я не могу отрицать и такого исхода и знаю, что многих бы он устроил гораздо больше, чем два предыдущих. Ведь кому не хочется, втайне не желается, чтобы такой вот сильный, гордый, с принципами Коровин, чтобы обернулся он обыкновенным, как все или как многие, пугливым, мелким и жалким человечиком. И ведь оборачиваются, еще как, стоит лишь тряхнуть их посильнее. И вполне ведь возможно, что и Коровина постигла столь бесславная, понятная нам и до обидного желанная участь.
Но это вряд ли...
1988,1989
ДВЕ НЕДЕЛИ С ВИДОМ НА МОРЕ
легкий курортный роман
из прежней жизни
История эта произошла на самом деле, и я был ей свидетель. Впрочем, кое-какие события и детали пришлось мне, разумеется, восстанавливать — отчасти по сбивчивым и порою противоречивым суждениям других обитателей Дома отдыха, возбужденных и слегка даже шокированных происшедшим, отчасти по наитию, то есть представлять и додумывать самому, но в основном я ручаюсь за правдивость и фактическую достоверность изложения, ибо самое-то как раз главное и происходило, можно сказать, на моих глазах.
Чтобы ныне здравствующие ненароком не признали себя в моих героях, как уже бывало (и не однажды) после выхода моих книг, и бесполезно не утруждались в поисках наказания для меня обращениями в суд, в Верховный Совет, Организацию Объединенных Наций или другие строгие инстанции, я нарочно изменил все без исключения имена, отчества и фамилии, так что любые случайные совпадения прошу считать именно случайными. Я даже вполне конкретный дом отдыха имени одного очень уважаемого в тех местах исторического деятеля буду называть просто Домом отдыха, чтобы, упаси бог, кто-нибудь не сопоставил время своего пребывания там с тем временем, о котором пишу я. Да и само время года, — чего уж там! — я на всякий случай, пожалуй, изменю. Ведь было же, было, когда некий гражданин Ч., усмотрев определенное сходство своей фамилии с фамилией одного из персонажей моего романа, вполне серьезно пытался подать на меня в суд, требуя возмещения морального ущерба (над ним стали смеяться сослуживцы), да, слава создателю, иск у него не приняли, а то и не знаю, чем бы все для меня у нас с ним закончилось. Или вот совсем недавно... Начинающий критик Тварьев (фамилия, разумеется, изменена) признал себя в одном из героев последнего моего романа и тут же в журнальчике поспешил объявить меня чуть ли не плагиатором, — мол, не смей писать с моей натуры! Да мало ли что кому может примститься, так что лучше уже заранее оберечься...
«...Наш самолет совершил посадку в аэропорту города Сочи — «Адлер», жемчужине черноморского побережья Кавказа... Температура воздуха за бортом плюс двадцать градусов... Температура воды — плюс пятнадцать... Желаем вам приятного отдыха!»
Потом они тихо ехали в земной тесноте аэропортовского автобуса через забранное в серый потрескавшийся асфальт сияющее под южным солнцем летное поле и по инерции, наверное, до конца не погашенной при посадке, еще смеялись собственным шуткам, — он, Игорь Николаевич Коровин, и этот крепенький, грубоватый, с настырными серыми глазками Валера, который представился детским хоккейным тренером, — но она, их белокурая, такая своя в доску попутчица Лариса, уже почему-то не смеялась. Игорь Николаевич, кажется, догадывался, почему, да все не мог остановиться, все продолжал необременительно соперничать с Валерой за внимание нечаянной спутницы, с глупым мальчишеским азартом шепотом рассказывал, склонившись к самому уху, нет, нежному, розовому ушку Ларисы, слышанный в институтской курилке сто лет назад, но вдруг ненароком всплывший в памяти анекдот про французов:
— ...Кстати, Мишель, я встретила сегодня твоего друга Поля на мосту. Он рассказал мне новый анекдот. Мы так, представь, смеялись, так смеялись, чуть с кровати не упали...
Хоккейный тренер Валера щедро заржал на весь автобус, а Лариса лишь вежливо улыбнулась, потом, впрочем, спросила, рассеянно глядя в окно:
— Ну?.. Чему они там смеялись?
— Да они же где встретились-то? — с праведным упорством завелся Валера. — На мосту! А с чего чуть было не упали?
— А-а... — догадалась, наконец, и Лариса.
Игорь Николаевич не обиделся на нее: все имеет начало и конец, и самолетное воздушное их знакомство тоже должно было чем-то закончиться. Вот оно и исчерпало себя, и уже, значит, тяготило собою Ларису, которая жила, наверное, предчувствием нового, южного, теплого, а они тут со своими бородатыми анекдотами от самого Ленинграда. Анекдоты хороши были в самолете, в продолжительном – между взлетом и посадкой — тревожном гуле турбин... Короче, всему свое время.
— И куда вы сейчас? — кажется, понял это и Валера.
— Да так... — Лариса отозвалась неохотно. — Какая разница? Уже приехали... Сейчас видно будет...
Они вышли, еще держась слабеющим полем притяжения втроем, на залитую солнцем площадь перед одноэтажным длинным зданием аэропорта, увидели пальмы, кипарисы и магнолии в вытоптанном скверике напротив, их дергали уже за рукава проворные и докучливые здешние таксисты («Сухум едем? Гагра везу! Куда надо?..»), и все это южное, чрезмерное, густо зеленое, сочное и солнечное брызнуло в глаза, в уши, в ноздри, вошло без спросу, властно и грубо, так, что Игорь Николаевич после мягкого, туманного, прохладного, пастельного Ленинграда, после серенького дождика, провожавшего их в Пулкове всего три часа назад, бившегося на бешеной скорости тонкой водяной жилкой с той стороны самолетного круглого окошка, после кепки и плаща, тяжело и потно висевшего сейчас на руке, после всего этого даже растерялся и съежился. Ему на мгновение вдруг почудилось, что пальмы эти, магнолии и кипарисы, что растут они не в земле, а в кадках, что кто-то хотел подшутить, расставив их так густо в одном месте, и что вообще так не бывает, не должно так быть...
— Пока, мальчики! — щебетнула им Лариса на прощание, и они с хоккейным тренером обалдело проводили ее глазами, упруго, бесшабашно шагающую вслед за таксистом (или частником?), и, наверное, одновременно отметили каждый про себя, как мало, нет, как вызывающе мало у нее вещей — всего-то небольшая сумочка, перекинутая через плечо.
— Ты понял, понял, да?! — горячо зашептал почему-то Валера ему на ухо, хотя Лариса отошла уже достаточно и не могла его слышать. — Да посмотри на сумочку ее!.. Ха-х! Да я ногу дам на отсечение, что кроме губной помады, купальничка и какого-нибудь пляжного халатика у ней там ничего нету! Ну, зеркальце еще, лак для когтей, зубная щетка, дезодорант... Да как она сказала-то: уже, мол, приехали. Понял?
Игорю Николаевичу, если честно, было все равно, что там и как эта Лариса собирается отдыхать, и он сказал хоккейному тренеру об этом.
— А ты не прав! — возразил тот. — Противно, знаешь ли, видеть, как наши землячки едут сюда так откровенно продаваться. Ты что, не понял ничего, что ли? Ах, море! Ах, солнце!.. Вот я, да?.. Мужик тридцати трех лет, в возрасте, как говорится, Христа, могу я взять на содержание, пусть на месяц, на две пусть недели, могу хотя бы вот и Ларису?
Лариса будто услыхала его из своего, недоступного Валере далека, махнула рукой на прощание и села в машину.
«Частник, не такси...» — зачем-то отметил про себя Игорь Николаевич и подумал о том, что этот тренер не так уж и не прав, конечно, если приглядеться, только, — как бы сказать? — только очень уж нелепо выходило, в том смысле, что он эту ситуацию как бы на себя примерил. Получалось ведь, словно он заранее завидовал тому, кто возьмет Ларису под свое крыло теплое, кому-то из здешних или тоже приезжих, у кого денег полон карман, короче, плохо, вроде бы, получалось. И Игорь Николаевич промолчал.
— То-то и оно, что не могу... — уныло и тускло заключил Валера и мстительно продолжил: — А сколько их, которые могут? Кооператоры, фарца, рэкетиры проклятые!.. Да ими все курорты забиты. Они, небось, деньги чемоданами считают! А мы с тобой свои гроши будем в кармане потными пальцами перебирать, жалкие гроши, честно заработанные. И бабы нам — второй сорт, а те, что по первому, соответственно — ноль внимания. Ты скажи, ты женат? Можешь не говорить. И так видно...
— Что тебе видно? Почему? — удивился Игорь Николаевич.
Валера ухмыльнулся, сказал:
— Я мог бы, конечно, про глаженую рубашку наплести, про стиранный носовой платок, которым ты в самолете пот со лба промокал, разыграть тебя тут, как по нотам, с понтом я — Шерлок Холмс. Все проще. Ты забыл снять обручальное кольцо! Снимай, снимай, стаскивай, тут все так делают. Только с самолета на эту райскую землю ступят — сразу холостые. Или хотя бы с правой на левую руку переодень. За вдового сойдешь!
Игорь Николаевич подумал, подумал и оставил кольцо в покое. Чего это ради? Ему и с кольцом хорошо! И он не собирается тут...
— Пошли искать свой автобус, — сказал он Валере, чтобы переменить тему разговора.
В кассу, чтобы взять билеты, пришлось выстоять очередь. Автобус на Пицунду уходил через полчаса. Повезло. Они еще в самолете выяснили, что путевки у них в один и тот же Дом отдыха.
«Наверное, и поселят вместе... — с тихой тоской подумал Игорь Николаевич, глядя на разговорившегося что-то Валеру. — Только бы он еще не храпел что ли».
В автобусе было жарко, им досталась солнечная сторона. Валера, как маленький, шмыгнул прямо к окошку, но вскоре пожалел об этом, и теперь все мудрил с мятыми, давно не стираными шторками, пытаясь организовать хоть какую-нибудь тень, да потом и оставил бесполезную эту затею, вернулся к брошенной было теме про этих нехороших женщин, которые ездят сюда с легкими сумочками, находят состоятельных сожителей и горя не знают: тут, мол, им и отдых, и машина, если повезет, и море, и прокорм бесплатный, и прочие сверхпрейскурантные удовольствия, а ты, сколько ни крутись на работе, сколько ни вламывай, сколько групп ни веди, ты себе жену-то вот так — худо-бедно — вывезти на юга не каждый год можешь позволить...
— От меня жена, можно сказать, из-за этого и ушла, — признался он вдруг бесхитростно, и даже стало его на мгновение жалко, беднягу и простака. — Ну, не она, конечно, от меня. Я сам ее прогнал. Обычное, знаешь, дело. Мы для экономии порознь отдыхать приладились. Один год я, на другой она с сыном. И вот возвращаются раз они, а сын — даром что маленький — и выдает такой приблизительно текст: мол, дядя Реваз обещал, если буду хорошо себя вести, купить мне машину. Ну, я ему: мол, хорошо себя вел, надеюсь? А сын: дядя Реваз за это на своих «жигулях» три раза прокатил. Ну, то, се... Ты ж понимаешь, что я с ней сделал! Теперь живу один. Она, конечно, все отрицала. Но тут уж отрицай, не отрицай...
«То-то ты так теперь озабочен...» — подумал Игорь Николаевич уныло.
Он никогда не понимал людей, столь бесцеремонно рассказывающих первому встречному поперечному о себе или вот, как сейчас, о своих семейных драмах, так же, впрочем, как не понимал и некоторых любвеобильных родителей, без всякой меры расхваливающих свое чадо. Он только сейчас внимательно вгляделся в этого Валеру, преющего под жарким через автобусное стекло солнцем, в его распаренное красное лицо, на котором хорошо был виден каждый волосок, каждая пора, прыщик или угорь. Нос у него был крупный, не то переломанный в хоккейных баталиях, не то с природной такой горбинкой, вполне, в общем-то, мужественный нос. И подбородок ничего себе, мощный, угловатый, с заметной привлекательной ямочкой посередке, в которой притаился уберегшийся от бритвенного лезвия скрученный черный волосок. Да и лоб был боевой, один шрам чего стоил — слева, над бровью, шрам из тех, что украшают настоящего мужчину. Вот только губы Валеру подвели, не хоккейные были у него губы, пухлые, навыворот, сочные, спелые такие губы — тронешь, как брызнут соком. И в глазах угадывалась какая-то надломленность, побитость, что ли, помятость жизнью. Или уж Игорь Николаевич перебарщивал, присочинял тут от себя, с глазами-то, зная уже кое-что о личной драме Валеры и вообще о том, чем занимался он? Хотя, может быть, оттого произошло это впечатление, что от хоккеиста Игорь Николаевич заведомо не ожидал никаких тонкостей, полутонов, — чего там: взял клюшку, завладел шайбой, шары выкатил и при к чужим воротам, — сомнение, не сомнение жило в его глазах, но словно Валера побаивался чего или о людях думал постоянно и ровно плохо обо всех. Короче, ни к чему хоккеисту такие глаза. Может, поэтому Валера и подался в тренеры? А ведь, кажется, говорил он что-то еще в самолете, что вроде бы как за юниоров когда-то недурно играл в нападении...
— А ты чего молчишь? — спросил его Валера неожиданно. — У тебя-то как? Почему один сюда? От жены отдохнуть? Бывает, бывает... Или, как и я, от безденежья? Я же алименты еще ого-го-го какие плачу!..
А Валере, значит, мало самому душой нараспашку, надобно, чтобы и другие перед ним так же выворачивались нутром наружу. Игорь Николаевич пожал плечами в раздумье, но почему-то вдруг решил не таиться, да и надо же было, наконец, что-то от себя сказать ему навстречу.
— Путевка образовалась горящая. Из обкома профсоюзов в наш профком звонили, что ли? В общем, вчера прибегают к нам в отдел: «Кто хочет в Пицунду почти задарма? Только ехать завтра...». Ну, я первый и назвался. А что? Не сезон. Никто и не позарился больше.
— Тоже, стало быть, неимущий... — по-своему рассудил Валера.
За окном проносились одноэтажные домики, по всему видно, частные, и если приглядываться, то среди голых еще садовых деревьев можно было различить, ухватить глазом на скорости «Волги» и «Жигули» под навесами. Других марок автомобилей тут, наверное, не признавали.
«Богато живут», — без всякого чувства подумал Игорь Николаевич и вдруг недалеко от дороги заметил огромный желтый шар цветущего дерева. Мимоза разве?.. Нет, быть не может! То есть, чем у них в Ленинграде торгуют по бешеным ценам крошечными, заморенными, задавленными в чемоданной тесноте веточками, — да вот же, совсем недавно и торговали, восьмого марта, — видеть в яви, в целом, в натуре, деревом.
— Ну, — сказал Валера, цепко заприметив его интерес. — У них тут деньги на деревьях растут. Разврат прямо какой-то!
Еще цвели сиреневым душным цветом, кажется, персиковые деревья, и Игорю Николаевичу показалось, что даже сквозь дорожные угарные, бензиновые запахи он уловил и аромат этого яростного цветения. За заборами и по обочинам копошились пыльные куры в жухлой, еще не омолодившейся траве, и топорщили хвостовое серо-коричнево-черное оперение на павлиний манер сытые противные индюки.
— Эвкалипты, — пальцем показал на какие-то деревья Валера и уточнил вполголоса. — Вон те, с облезлыми стволами, высокие. А вон там — заросли самшита...
Валера тут был не впервые, он об этом еще в самолете раза три сказал, так что оглядывал окрестности по-хозяйски строго, придирчивым зорким оком, словно собирался писать потом подробный отчет о своей поездке куда-то в высокие важные инстанции.
— Скоро море появится. Должно! — предупредил он Игоря Николаевича заранее, как гостя предупреждают хозяева: мол, осторожно, здесь сейчас будет ступенька, не оступитесь в потемках.
Но моря что-то не было и не было, и было приятно, что вот оно неподконтрольно Валериному «должно», что жило где-то и как-то, совсем уж близко, но по-своему, самостоятельно. Переехали две неглубокие речушки, которым явно велики были их каменистые серые русла.
— Они в дождь, знаешь, как разливаются!.. — сказал Валера, наверное, о реках.
«Прямо мысли мои читает», — подумал Игорь Николаевич, робея.
На одной из остановок в автобус зашли цыгане, — женщины и дети, — шумно, ярко, стремительно пронеслись по проходу и осели где-то сзади, поубавили громкости, почти утихомирились, лишь хныкал крошечный цыганенок на материнских руках да хрипло рассказывала что-то на своем языке одна цыганка другой.
Игорь Николаевич все ждал обещанного моря. Занервничал, видно, и Валера. Впрочем, оказалось, что беспокоит его другое.
— Вот еще народец!.. — сказал Валера осуждающе. — Заметь, сколько их на нашу голову, этих кочевников, шатунов, путешественников, живущих за чужой счет. Цыгане они или Ларисы, которым все равно, с кем, лишь бы с кем-нибудь... Да где хоть оно есть-то? Куда подевалось?
— Кого? — не понял Игорь Николаевич.
— Море!.. — проворчал Валера и нетерпеливо завозился в кресле. — Давно должно быть. Жарища эта еще тут!..
Он достал носовой платок и, развернув его, как полотенцем, промокнул красное горячее лицо. Игорь Николаевич было решил предложить Валере поменяться местами, но передумал. Да и на его месте тоже припекало.
Море открылось неожиданно и сразу широко, далеко, до горизонта, просторно. Внизу, на узкой песчаной полосе пестрели купальники редких отдыхающих.
«Загорают!..» — с восторгом подумал о них Игорь Николаевич и вспомнил своих, питерских чудиков, которые тоже норовят не упустить ни одного погожего часа.
Вода у берега пенилась и была мутно-зеленой, и в ней, как в холодном шампанском, даже плавали люди, смешно искаженные эффектом преломления, загребали руками и коротенькими ногами, а дальше цвет воды менялся, перетекал в лазурный, потом в почти синий, потом в фиолетовый, но ближе к горизонту он размывался, блекнул, и уже возле самого неба, словно тарелочная каемка, наливался золотом, — нестерпимо яркая, слепящая полоса, — и смыкался с небом.
— В марте купаются, психи, — донесся до Игоря Николаевича голос Валеры. — Вот что за ослы? До моря дорвались!..
Ощущение искусственности, всеобщего какого-то надувательства не покидало его до сих пор, и все как бы казалось Игорю Николаевичу, что вот сейчас водитель их автобуса возьмет в руку микрофон и строго скажет: «Побаловались и хватит. Представление окончено», — и отпустит свою особую обманную кнопку, и заоконные эти волшебные виды погаснут, как на экране, и сказочке конец, а взамен серенько забрезжит ленинградское низкое небушко, отразится в мокром зорком асфальте, и по холодному стеклу поползут вниз наискосок мелкие капли дождя.
Он, сколько себя помнил, жил в этом странном городе, в котором, кажется, все было против самой жизни: комары, даже зимой, болота, стылые тревожные облака возле плоской земли, чахлые растения, дожди, дожди, влажные гриппозные зимы... И все было против того, чтобы этот город любить, но, как ни странно, его любили, в него стремились разбросанные войной и блокадой, довоенными и послевоенными репрессиями старики, к нему тянуло из командировок и экспедиций.
Любил Ленинград и Игорь Николаевич Коровин, любил, гордился, что ленинградец, и как-то не задумывался: за что любил? чем, собственно, гордился?.. Была в этом дорогая ему, зыбкая необъяснимость, был тихий, упрямый отход от всеобщей продуманности и высчитанности мира, было теплое, не требующее доказательств, от сердца идущее (или от души?) чувство, которое, впрочем, он не то чтобы афишировал, а как бы и не скрывал ни от кого, с глупой, может быть, радостью думая о себе, как о том кулике, который вечно хвалит свое болото.
Иногда ему казалось, что с детства, кроме мистической этой любви и этой непонятной гордости, у него ничего хорошего, стоящего больше и не было. Отец пил и рано умер, — замерз в ночном парадняке на Лиговке, — и мать до конца дней своих говорила, что был он гопником. Наверное... Потому что отца Игорь Николаевич помнил только пьяным или подвыпившим, сидящим, например, в синей майке-безрукавке с мужиками за врытым в каменистую городскую землю столиком во дворе-колодце их старого дома на Петроградской, смолящим папиросу за папиросой, звонко шлепающим зазевавшихся в кровавой истоме укуса комаров на незагорелых в бледных конопушках плечах и гулко, с надсадой, как и все, бухающим в отполированные руками доски стола черными в белых оспинах костяшками домино. На углу стола, кажется, было вырезано кем-то из пацанов: «Верка — сука», и среди мужиков считалось, что сесть Верке под бочок — к удаче в игре. Надпись заботливо суеверно подновляли, и кто она была, эта Верка, Игорь Николаевич уже не помнил или вовсе не знал никогда.
Мать, замотанная и вечно раздраженная, тащила их с сестрой, не известно, как, вечно что-то стирала, шила или штопала, или вязала на спицах, и все бранила, бранила свою жизнь, детей своих и своего спившегося, непутевого, нелепо погибшего мужа: «Войну прошел, Берлин взял, ни одной царапины... Водочка! Она не таких великанов валила. Он им, Сталин-то, водочкой рты позатыкал. Они там, в европах-то, пораззявились, а он им водочкой, водочкой. Они и рады... Вы хоть у меня не пейте, умнее будьте, учитесь, детишек любите...». Мать вытянула их с сестрой до окончания институтов, а потом, видно, расслабилась, болеть стала часто, состарилась, высохла вся, пожелтела и умерла, сделав, как полагала, все в этой трудной, изнурительной, беспросветной жизни. А еще их мать была санитаркой на Невском пятачке, так что ей досталось...
И чего он вдруг вспомнил о них, о родителях, тут, среди южного буйства и сияния? Хотя понятно, конечно. Матери однажды дали на фабрике бесплатную путевку в санаторий, и куда-то она ездила в эти теплые края, в местечко со странным название Поти, ездила не одна, прихватив с собой болезненную тщедушную сестренку, а его, отдав на целый месяц курящей тетке Лиде, блокаднице и матерщиннице, но ездила, конечно, не летом и даже не, как он сейчас, ранней весной, а зимой, и, вернувшись, они потом долго рассказывали о пальмах, закутанных для сохранности от холода в серые балахоны, о штормящем страшном море и о звездах, крупных, ярких и близких. И еще матери тут понравились какие-то грязи. Кажется, и сестре они помогли, а может, и не они, может, сестра сама собой выправилась, пошла в рост и перестала так часто болеть.
Потом, когда вырос, когда умерла мать, когда женился сам и когда сестренка выскочила замуж, Игорь Николаевич несколько раз собирался с семьей на юг, да так и не собрался: то с деньгами было туго, то еще взяли огородный участок под Саблино, и пришлось валить деревья, корчевать пни, ставить времянку, доставать доски, вагонку, рубероид, навоз, торф, кирпичи, пленку для теплицы, — короче, сейчас приехал он сюда впервые...
— Гагры, Гагры!.. — потряс его за руку вконец осоловевший от жары Валера. — Остановочка тут минуток десять. Мне бы выйти...
Автобус затормозил у здания железнодорожного вокзала с серыми запыленными колоннами, подал назад и, втиснувшись между двумя другими автобусами, остановился. Загомонили сзади цыгане. Игорь Николаевич тоже решил выйти, размять ноги и покурить. Валера, красный, одуревший, малость попритихший, вывалился следом. А за ним посыпались из двери цыганки и цыганята, замелькали их юбки и серьги, засияли голубые белки их черных стремительных глаз и золотые фиксы на белых, крепких, малость желтоватых от табака и, наверное, холодных зубах.
— Красивый, рыженький, дай закурить, — попросила одна из них, молодая, смешливая, глядящая открыто и смело прямо в глаза, и Игорь Николаевич, конечно же, дал, щедро выщелкнув из пачки сразу несколько сигарет. — Хочешь по-агадаю? — пропела цыганка. — Ничего не возьму, только свою жизнь наперед узнаешь. Хочешь, ласковый? Почему не хочешь?..
Игорь Николаевич не хотел наперед, может быть, боялся, — да и вообще смешно, что пристала? люди кругом... — и от гадания, конечно, отказался, даже обрадовался, когда цыганка вдруг легко оставила его в покое и ушла вслед за своими.
— Какова, а? — спросил, смачно и густо сплюнув себе под ноги, Валера. — Такая позовет, все бросишь, вприпрыжку побежишь.
Игорь Николаевич промолчал. Этот Валера ему уже порядком поднадоел со своими рассуждениями о женщинах и о жизни, и если их еще поселят вместе...
Вернулись в автобус. Игорь Николаевич видел, с какой неохотой Валера снова полез к окну, но поменяться местами почему-то не предложил.
— Теперь уж близко, — успокоил Валера сам себя. — Кто бы знал, что тут такая жара...
Автобус тронулся. Без цыган стало чересчур как-то тихо, лишь ровно гудел двигатель сзади да вжикали, поравнявшись, встречные машины. Вдалеке блеснуло море широкой золотой полосой. Игорь Николаевич еще раньше заметил: на калитках у частных домов по обе стороны почти всегда сидели на столбиках фигурки голубей, крашенные серебрянкой, а то и под золото — бронзовой краской. Что за символ? Счастье в дом закликают что ли?
— Слушай... — севшим голосом просипел Валера тревожно. — Где моя сумка-то черная? Не видел? — Он заозирался, тяжело, прерывисто задышал. — Такая на молнии, с ремнем через плечо... Ты на ней не сидишь случайно?
Игорь Николаевич машинально привстал, хотя, конечно, и без того коню понятно было, что он на ней не сидит. Какой-то он весь был нелепый, хоккейный этот тренер, даже не просто хоккейный, а детский хоккейный тренер, вдобавок еще и разиня. Все раздражало уже в нем. Теперь его сумка...
— Цыгане! — тихо-тихо прошептал Валера и откинулся головой на спинку кресла. — Больше некому. А эту шуструю они для отвода глаз подослали. Хо-очешь по-агадаю? — в сердцах передразнил он и очень похоже, но тут же выпрямился, обдав резким запахом пота, надвинулся, попытался перегнуться через Игоря Николаевича в проход. — Погляди под сиденье. Не завалилась? Да нет, — снова отпрянул он. — Это они!.. Как же теперь?
— Что у тебя в ней? — проникшись чужой бедой, спросил Коровин.
— Ну, свитер, — стал вспоминать Валера импульсивно. — Книга интересная по фантастике... У друга взял. Фотоаппарат! Что же делать? Там же фотоаппарат! Думаешь, если попросить, он вернется? Шофера если?.. Нет, ну, что за народец? Все люди, как люди... Не вернется, наверное. Надо же что-то делать!
Игорь Николаевич пожалел Валеру, успокоил:
— Куда он денется, вернется. — И попросил: — Только сначала давай лучше посмотрим, может, сам куда заховал.
Валера засуетился, даже в кресле привстал, бесполезно заглянул наверх, на сетчатую сквозную полочку, хотя и без того видно же было, что нет там ничего. А автобус все ехал и ехал себе, дальше от того места, где пропала сумка.
«И где теперь искать их, этих цыган? — подумал Игорь Николаевич без всякой веры в успех. — Ждут они, как же, пока мы вернемся!..»
— Сверху она, на коленях лежала, — упавшим голосом проговорил Валера. — Я, когда курить выходил, на сиденье ее оставил... Хороший был фотоаппарат.
Игорь Николаевич молча поднялся и по узкому, заставленному вещами проходу, пошел к водителю. Тот, не дослушав даже до конца про несчастье, про цыган, про сумку, на удивление охотно и с азартом развернул свой громадный «Икарус» и покатил назад. Зароптали тут же неосведомленные пассажиры, мол, куда это он? зачем? и что вообще случилось?..
— Пропала черная сумка, — довольно громко, не ожидая от себя такой твердости голоса, сказал им Игорь Николаевич. — Может быть, кто видел?
— А я еще обратила внимание, — высунувшись в проход, затараторила женщина в белом, — странная сумочка у нее под мышкой. Это, значит, ваша была?
— Да не его, а моя... — подал голос тусклый голосок Валера.
— И главное, несла она ее именно под мышкой, — делилась женщина бдительными наблюдениями, — хотя лямочка, ремешок, чтоб через плечо перекинуть, болтался. Он еще за ручку кресла зацепился, если вам интересно, и она его так сильно дернула, аж затрещало что-то. Разве свою сумку стали бы дергать? Девочка эта, цыганочка...
— Вот, вот! — выкарабкиваясь в проход, взволнованно проговорил Валера. — Они, они!..
— Что-нибудь ценное у вас там? — спрашивали его уже с интересом.
— Много денег пропало?
— Ищи теперь ветра в поле...
— Самому нужно было рот не разевать! Я когда этих цыган вижу, всегда проверяю, на месте ли у меня кошелек...
— Да бросьте вы! Это уж слишком! О целом народе!..
Уже подъезжали к гагринскому вокзалу. Игорь Николаевич спустился на один порожек к двери, и жалея, и ругая про себя этого ротозея.
— Я с тобой! — сказал Валера, тяжело дыша ему в затылок.
«Вот чудак! Естественно! — подумал Игорь Николаевич, ступая на разогретый податливый асфальт, густо заляпанный машинным маслом. — Что же он думает, кто-то за него обязан добывать у цыган его собственную сумку? Только где их теперь искать?»
— Вы тут цыган не видели? — спросил он первого встречного мужчину в серой фетровой, несмотря на жару, шляпе и, чтобы придать своему вопросу важность и вообще, чтобы этот незнакомый человек, разопревший на солнцепеке, раздраженный или равнодушный, проникся чужой бедой, добавил таинственно: — Сумку у моего друга увели. А там важные материалы!
— Вот, вот! — подвякнул из-за спины Валера. — Что за люди?!
Мужчина в шляпе молча таинственно кивнул на стоящий поодаль желтый автобус и почему-то шепотом сказал:
— Тама они... Брать будете?
«Неужели так просто?» — удивился про себя Игорь Николаевич и в два прыжка, малость ощущая себя уже чуть ли не профессиональным сыщиком, очутился возле того автобуса.
Работал вхолостую мотор, подрагивала под напряженными ногами ступенька, и в салоне сидели пассажиры, лишь не было водителя на месте. Жарко и несвеже дыхнул сзади Валера. Поднявшись в салон, Игорь Николаевич сразу увидел их, там, на заднем сиденье, мгновенно притихших, устремивших свои черные, бездонные очи навстречу опасности, цыган. Даже примолк верещавший до этого на руках у юной матери грудной ребенок, будто заранее знающий уже, как надо вести себя в этой полной опасностей и романтики, ждущей его жизни. А Коровин, переступая через чемодан и сетки, сумки и корзины, медленно, молча, неотвратимо шел, пер на эти блестящие, лукавые, но не на шутку сейчас встревоженные взгляды, еще не зная, что скажет, с чего начнет, как спросит.
«Мистика какая-то, — подумал он, как во сне. Пропустить вперед хозяина сумки? Пусть выкручивается...»
Впрочем, нет, Игорь Николаевич чувствовал, что завелся уже сам, а стало быть, доведет теперь дело до конца.
«И сдалась она вам, сумка его! — успел подумать он, торопливо оглядывая цыган, ища глазами, к кому бы конкретно обратиться. — И Валера-то молчит, стервец! Или из тех он, что любят на чужом горбу в рай въезжать?..»
— Граждане цыгане! — сказал Игорь Николаевич твердо, слыша себя будто со стороны. — Нам известно, что это вы взяли сумку. — Он, как ни странно, неотрывно таращился зачем-то на молоденькую цыганочку, будто на старую знакомую, ту самую, что предлагала ему давеча погадать, судьбу наперед предсказать. --Просим вернуть собственность, — сами собой деревянно ворочались губы, — законному владельцу!..
И откуда словечки такие подобрались — канцелярские, официальные, милицейские? Игорь Николаевич остановился в проходе, не дойдя до заднего сидения, занятого присмиревшими цыганами, двух-трех шагов. Было жарко и тихо, лишь ровно работал на холостом ходу мотор автобуса и, щекоча кожу, поползла от виска по скуле на щеку тяжелая горячая капля пота. Он невольно коротко мотнул головой, пытаясь отряхнуть эту каплю, но тут раздалась пощечина и сразу, без паузы — детский, дикий, визгливый, впивающийся в уши плач. Старая цыганка ударила девочку еще, и еще, и еще раз, уже наотмашь, ладонью по голове, по лицу, по спине, — куда попадала, — по плечам, снова по лицу, а Игорь Николаевич, зачарованно глядя на все это, пребывал в жутком оцепенении, будто застигнутый за каким-то стыдным, позорным занятием.
— Сука! Проститутка! Зачем воровала? Вот я тебе!.. — хрипло, монотонно и невнятно выговаривала цыганка девочке, и та даже не пыталась увернуться от ударов, закрыться руками, а покорно склонив черненькую головку, лишь плакала навзрыд настоящими детскими покаянными слезами.
Откуда-то возникла эта сумка, кто-то из цыганок сунул в руки орущей девочке и саму ее подтолкнул в спину навстречу Игорю Николаевичу, а девочка, — а мала-то, а худа! всего-то лет, должно быть, десяти, — опасливо зыркнула на него невидящими, полными черных слез и горя глазами, протянула сумку и убежала назад, забилась в угол, зарылась лицом и всем хрупким, гибким своим тельцем в разноцветное, рябящее в глазах тряпье, в широкие эти юбки сидящих в напряженном молчании цыганок.
— Ребенок! — прохрипела самая старая из них, качнув огромной золотой серьгой в дряблой, оттянутой мочке уха. — Что с нее возьмешь? Прости нас, добрый человек...
Игорь Николаевич, чего-то уже стесняясь и, кажется, краснея, невольно встретился глазами с той, что подходила к нему, просила закурить, предлагала погадать, с молодой и востроглазой, и, вроде бы, насмешлив был ее взгляд. Разыграли они их что ли? Конечно, как по нотам разыграли! И уже схлынул стыд, и фальшивыми показались ему слезы и рев девочки, — ну, да, все это у них наверняка отработано, в смысле, как вести себя, если попадешься на воровстве, — фальшиво говорила с ним старуха, фальшивой тревогой полны были черный глаза. Лишь насмешка во взоре этой, молоденькой, красивой, лишь она и была, наверное, настоящей во всем их блестяще сыгранном спектакле.
— Глянь, все ли на месте! — передавая сумку Валере, предупредил Игорь Николаевич.
— Все цело, дарагой! — уверенно, словно сама проверяла, сказала старая цыганка. — Нам чужого не надо...
— Все, — не то недоверчиво, не то удивленно буркнул Валера. — Кажись, все...
***
Ей было страшно. Черт бы побрал этот Дом отдыха, эту Пицунду, это море, эти горы на недалеком горизонте, эти капризные, в день ее приезда еще наряженные, как висельники, в серую парусину пальмы, кипарисы, а потом освобожденные от нее, будто помилованные, трудно и нехотя расправляющие затекшие за зиму ветви, этот высокий камыш песчаного с галькой берега, черт бы побрал этих ошалевших от свободы и вседозволенности, улизнувших от жениного догляда инженериков, которые представлялись не иначе как главными конструкторами, механизаторов, метящих в главные агрономы, чабанов и свекловодов, слесарей, кооператоров, школьных учителей, красиво и со знанием дела говорящих о звездах, о луне и сально глядящих сначала на твои ноги, потом выше, на задницу, на грудь, и уж потом — оценивающе, приговорно — на лицо, этих всех свихнувшихся теоретиков любви, секса, красивой беспечной жизни, на ощупь считающих свои гроши потными пальцами в глубоких карманах штанов, а потом этими же пальцами, этими ручищами под дармовую музыку, под грохот волн, под шепот камыша на ночном берегу моря... Короче, черт бы побрал этих трусов, — ведь она кричала, как она кричала! — жалких ничтожеств, слюнтяев, допоздна сидящих в баре с вонючими сигаретами-неразлучницами в губах, в дыму, в чаду, жрущих кофе чашку за чашкой и исподтишка — кислое дешевое вино из магазина, размахивающих руками при первых же признаках хмеля и зовущих с собой на край света! Черт бы побрал их всех с их со скидкой путевкой, с роскошной столовкой, с белыми скатертями и салфетками, с вежливыми местными официантками, с тихо ступающими по коридорным коврам горничными, с лианами, пальмами в кадках в холлах, с бассейном, с настоящей, пахнущей мочой, морской водой в нем, с газетным киоском, в котором можно купить мыло и даже купальник, с Матвеевной, соседкой по номеру, которая на ночь в полумраке с треском, с электрическими озонизирующими разрядами расчесывает свои длинные седые волосы и рассказывает о каком-то Григории, который в юности чуть не ссильничал ее на сеновале, да она не далась и вышла за Федора, а тот, стало быть, Гришка, все у него наперекосяк шло, но и она своего Федьку почему-то не любила, и оба спились, и оба — вот судьба! — на одном тракторе, на «Беларуси» свильнули в канаву и зашиблись насмерть. Черт бы их!.. А Матвеевна, кажется, Григория-то больше мужа жалела...
Раньше Клара бывала на юге с родителями, — а что, ничего себе жили, отец машинистом в Липецке на металлургическом комбинате, мать в заготконторе при совхозе, денег в доме не считали, — потом с мужем, с Павликом, раза два по молодости сюда выбирались, до рождения Димочки, потом был перерыв и вот до сих пор. В одиночку она приехала сюда впервые, — соблазнилась на дешевизну путевки, устала от дома, от своей чайной возле автотрассы Воронеж-Липецк, вернее закусочной, это раньше она была чайной и так до сих пор звали по старинке, от тоски по лету, от топота ног, от гомона шоферни, от постоянного, монотонного, угнетающего машинного гула на трассе, от грубоватых шуточек, от табачного дыма, от вечно всем недовольной посудомойки Марфы... Муж сначала не пускал, ревновал, конечно, боялся (ему и раньше бог знает что про нее говорили завистливые на чужое счастье боринские бабы, а тут одну да в дальние края), она торопливо настаивала, потому что уж очень вдруг захотелось и потому, что знала: Павлик не устоит, мягкотелый, сдастся, куда ему. А потом не этой же дуре Марфе путевку-то со скидкой! Кто она такая? Без году неделя в чайной, а туда же — давайте разыгрывать, как по лотерее. Ну, и разыграли... А ведь, кажется, зря она так все подстроила, что путевка досталась именно ей. На Марфу бы тут никто, пожалуй, не покусился бы.
Муж, конечно, уступил, бесхребетный, уступил, стесняясь своей робкой законной ревности, краснея и извиняясь. Ну, разумеется, всего две недели... Ну, что может случиться там с ней за две-то недели, за четырнадцать дней? Самолетом туда и обратно, даже не успеют соскучиться, даже Димка не спросит? Где же наша мамочка? А там, хоть и март еще, там солнце, там море, там галька шуршит и громыхает на легкой волне, там звезды крупнее, там пальмы, там почти лето... А она уже толком не отдыхала года четыре. Она только знай к матери в Коммуну за восемь километров на велике с тяпкой вдоль рамы — картошку окучивать или пешком, в распутицу, под дождиком, накрывшись пахнущей землей и тленом мешковиной, убирать эту проклятую картошку, чтобы потом можно было свезти ее в Липецк или в Воронеж на базар, чтобы было чем кормить поросенка, чтобы вообще что-то капало им, кроме ее зарплаты и навара буфетчицы и Павликова оклада на сахзаводе — подумаешь, в бухгалтерии он счетами щелкает или на кнопочки пальчиком давит, считает на этом самом микроэлектрокалькуляторе. А вот она все в уме, туда-сюда, гривенник, другой... Шоферы — народец щедрый, непостоянный, с шальными, замызганными червонцами из засаленных мятых перемятых штанов. Своих, боринских, она нет, ни за что не обсчитает, а этих, проезжих, сегодня здесь — завтра там, их сам бог велел. У них, говорят, левые грузы, лишние рейсы, с ними сейчас кооператоры в сговоре... А дома — стирка, готовка, тоже огород, воду надо греть каждый вечер, чтобы Димку искупать... Разве дома отдохнешь?
Господи, хоть бы муж покрепче держал, что ли? Ну, почему же он такой у нее покладистый? Что вот он, ей-богу!.. Когда женихался, гуляли когда, вроде парень был как парень, даже у Толика Паршина ее отбил. Люди говорили, дрались они из-за нее, и Павлик Толику накостылял. Куда только потом что девалось? Может, зря он этот учетно-кредитный техникум выбрал? Бабья профессия — бухгалтер, ну, главный бухгалтер, правая рука директора, а все что-то не то... Зато ее Павлик не пьет, как эти!
Клара лежала на пляже одна, как прокаженная, лежала, закрыв глаза и, видя перед собой сплошное розовое поле, нет, просто розовый цвет, цвет мечты и сочиненного счастья, цвет обмана, — она понимала, — но глаз открывать не хотелось. Там, за розовой этой оболочкой просвеченных солнцем век была целая неделя одиночества, был жестокий и грубый мир, пахнущий соленым, йодистым, еще холодным морем, веющий горечью нежеланной измены и легким тленом предстоящей беды.
А что ей оставалось? Что могла она, когда ввалились они в их с Матвеевной крошечную комнату (где она шлялась, эта зануда Матвеевна?), нахрапистые, сильные, безжалостные? Она-то думала, что позволит лишь проводить до двери, она надеялась, что Матвеевна будет в номере... Но она же кричала! Сначала робко и жалко, сухим языком выталкивала свой крик из пересохшего, схваченного судорогой горла. И ей зажимали рот огромной соскользавшей потной ладонью, с нее молча, уверенно и умело срывали одежду, не щадя застежек и пуговиц. Она кричала и потом, когда отчаянно хватанула зубами эту соленую, мерзко пахнущую чужим терпким страхом ладонь, — не мог же ее никто не слышать! — она даже вырвалась, полураздетая, задыхающаяся, обезумевшая от испуга, рванулась к двери в коридор, но тот, второй, стоял на пути, нахально ухмыляясь в полумраке, скрестив волосатые руки на могучей груди, а сзади уже тяжело дышал Ромео, откинутый ею в порыве брезгливого животного ужаса, уже его жадная горячая рука тронула ее обнаженное плечо...
Был у ней, конечно, еще один выход. Ну, да, выбежать, отпихнув обезумевшего в похотливой страсти Ромео, на балкон и прыгнуть вниз со своего восьмого высокого этажа. Этот выход был с ней и сейчас, и вообще будет... Но тогда она не решилась на него.
«Заявишь — убью. Зарежу», — коротко буднично сказал с акцентом Ромео, когда все было кончено, и поруганная она лежала в ворохе растрепанного постельного белья на своей кровати, среди скомканной перекрученной одежды, в чужом липком поту, жегшим, словно уксусная эссенция, ее бледную кожу, грязная лежала и пустая.
Что-то сказал он второму на своем языке, и тот подошел, бесстыже прилипчиво оглядел ее свысока, и не было ведь сил прикрыть от него свою наготу.
Потом они ушли.
Клара уже не понимала, как поднялась, прибрала в номере, проветрила, помнила лишь, что долго, очень долго стояла в душе под теплыми, почти горячими струями воды, и ее колотила дрожь, как после терла себя мочалкой, намыливала снова и терла, и все не могла смыть с себя греха, не могла избавиться от тошного ощущения нечистоты и мерзости, чернухи кругом. Ей казалось, что больше ничего не будет уже, жизнь кончена, и это она отмывается в свой последний путь, ей жалко было себя, и Димку, и Павлика немножко жалко. Нет, не то чтобы она и раньше была верна ему, — всякое случалось, шоферы — народ лихой, безоглядный, — но чтобы так вот, силком, без желания... А впрочем, Павлику-то все равно, как она ему изменяла.
Пришла Матвеевна, разделась, расчесала волосы перед сном, помянула своего Гришку, и легла, как ни в чем не бывало. Клара не сказала ей ничего о своей беде. Даже плакать, когда подкатывало к горлу и невыносимо становилось жалко себя, она выходила в ванную, включала воду и ревела над раковиной, глядя на свое бесстыжее, неверное отражение в зеркале.
Это уж после она узнала, что Ромео заведовал игротекой в их Доме отдыха, выдавал и принимал, значит, шахматы и шашки, бильярдные шары и теннисные ракетки. Такой здоровый волосатый мужик и на ребячьей работе...
— К вам можно тут примоститься?
Клара открыла глаза, с неохотой покинула розовый, беспредметный, бесплотный свой мир, свой мираж, призрачное свое убежище. Перед ней стоял мужчина в чем-то ярко-красном с зеленым топчаном наперевес. Он, что ли, рядом желает устроиться? Странный... Что спрашивать? Клара приподнялась на локтях, кивнула, мол, пожалуйста, пляж он большой и для всех, — почему нельзя? — и снова легла, закрыла чуткие глаза. Она слышала, как он сопел рядом, гремя галькой и шурша зернистым черным песком, видимо, устраивая свой топчан так, чтобы он закрывал от прохладного, дующего справа ветра, как вдруг замурлыкал что-то себе под нос. Холодно. Какой тут загар? Он, что же, ничего о ней еще не знает? До него не дошло что ли? Странно, однако, потому что Ромео и его друзья постарались на славу. Про нее здесь такое теперь говорили, что люди невольно сторонились ее при встрече, от них с Матвеевной даже пересели куда-то две соседки по столику в столовке. Дольше всех держался возле нее шахтер-здоровяк, до которого, наверное, вообще все, как до жирафа, доходит, но и его спугнула молва, будто волной смыло с пирса. Что уж говорить про пляж, — в радиусе десяти метров даже в самую теплую погоду вокруг нее теперь была мертвая зона, пустыня. Клара осторожно скосила глаза на странного этого мужчину. Наверное, из новеньких, нынешнего заезда, чемодан поставил и сразу к морю. Она тоже так, только в день ее приезда штормило.
— Однако прохладненько, — кажется, устроившись, проговорил мужчина озабоченно. — Меня Валерой можно звать, — вдруг добавил он ни с того ни с сего, и Клара подумала, что следом он должен поинтересоваться и ее именем, а если она решит откликнуться, то обязательно ведь попытается, как часто они все, в смысле, мужики, пошутить: мол, Карл у Клары...
Эта скороговорка, — спасибо имени! — преследовала ее с детства. И не объяснять же всем, что родной папаша, будучи вполне правоверным коммунистом, даже одно время секретарем своей парт ячейки, что он еще выбирал: Кларой или Розой ее назвать... Господи, это в их-то российском захолустье, где коров и тех Машками да Зинками кличут! Царствие ему небесное теперь, папаше-то, да не менять же имя.
— А вас? — спросил-таки, повздыхав, этот Валера.
Первыми перестали ей строить глазки мужики приезжие, потом кто с сочувствием, кто с открытой брезгливостью на лице стали взирать на нее тетки постарше, вроде Матвеевны. Эти даже осуждающе покачивали, бывало, головами и нарочито, со значением переглядывались, встречая ее ненароком. Бабам помоложе, похоже, было все равно, хотя, случалось, и они перешептывались, завидев ее, да то могло быть и не о ней, конечно. Одно было хорошо в этом ее положении: местные приставалы оставили ее в покое. Да оно и понятно, — Матвеевна разведала, доложила, — Ромео с приятелем распустили слух, что у нее болезнь, в общем, понятно, какая, нет, не самая страшная, но тоже не дай бог никому. Но вот что сам он, если болезнь-то, что приставал тогда? Или, гад, заразил, а зараза к заразе?.. Или уже все врал он, паразит волосатый, нет, потный и волосатый? Может, там и нет ничего, если она сама не чувствует?
Ромео подкатывался дважды — туда-сюда, садись в машину, поедем в горы, на Бзыбь, на озеро Рица, шашлыки, вино, красивые места кругом, дача Сталина... Ну, этот-то раз выручил еще здоровяк-шахтер. Он хоть и тугодум был, и поговорить с ним не о чем, и смеялся невпопад, но шуранул Ромео крепко, набычился, шея красным налилась, кулачищи сжал свои пудовые... «Я, — сказал, — не знаю, что дальше будет, но тебе холку собью!..» И Ромео, и дружок его судьбу испытывать не стали. Они шахтера по-другому образумили. Вон теперь ходит бычок, глазки прячет, здороваться забывает... Другой раз спас ее случай. Ромео с Айриком подстерегли Клару возле номера, — видно, хотели, как тогда, — вломились, ан не тут-то было. Матвеевна им такого крика, визга задала!.. Она-то уж в ночной рубахе сидела, волосы перед сном расчесывать наладилась, чуть шпилькой не подавилась... И если бы Ромео не умастил ее как-то на другой день, точно жалобу директору Дома отдыха накатала бы, уже спрашивала, как писать: «заевление» или «заявление».
Клара как бы невзначай прикрыла лицо рукой и уже из-под руки коротко взглянула на этого чудака, бросившего (по незнанию, конечно) вызов общественному мнению. Тридцати ему, наверное, не было, во всяком случае, мужчина он был крепкий и в своем шерстяном красном спортивном костюме смотрелся празднично и браво. Что вот только вздыхает все, как старичок?
— Нет, тянет ветерком, сильновато, пожалуй, тянет... — сказал Валера и, видимо, сел, загремев галькой.
— Кларой меня зовут, — сказала она, не то чтобы желая испытать его на стойкость перед расхожей скороговоркой (хотя и не без этого, конечно), а вдруг подумав о нем как о возможном защитнике — пусть на два, на три дня, там и отъезд не за горами. Ну, не хотела, боялась, ненавидела она этого Ромео!..
— Ага, ага! — обрадовано проговорил Валера. — Карл у Клары уклар колары...
Вот умничка! Вот так-так!.. Клара, отвернувшись, чтоб он не видел, нервно улыбнулась.
— Вы бы еще про то, как мама мылом Милу мыла рассказали! — сердито взглянув на него, раздраженно проговорила она и стала смотреть на море, на четкую далекую линию горизонта, по которой, как в игровом автомате «Морской бой» — Димка здорово наладился сбивать там все подряд — полз на вид плоский, будто из жести вырезанный и раскрашенный корабль с бездымной трубой и всякими там рубками и мачтами. Ей стало вдруг ясно, что супротив Ромео этот в красном и дня не протянет.
Валера помолчал, посопел, погремел галькой и сказал невпопад:
— К вам хорошо пристает загар. Вы, наверное, тут давно отдыхаете. Лицо вон как загорело! А я из города на Неве Ленинграда... Сегодня...
— Не только загар, но и мужики пристают, грех жаловаться, — не пощадила его Клара (ишь, простачком прикидывается!). — Еще как! Так вот подсядут на пляже и начинают: «Дэвушка, ви мнэ прошлой ночью снылись, — передразнила она Ромео, почти слово в слово решив воспроизвести то, что говорил он ей при знакомстве, даже акцент постаралась передать. — И вот вы у меня в объятьях, ви вирываетесь, ви меня нэ хотите. Появляется какой-то ваш друг и начинается большой драк...». Тьфу! По видику дряни наглядятся и рассказывают потом часами, тоже знакомятся. А если большой драк начнется, вы как, Валера?
— Было бы ради чего... — расчетливо рассудил он.
— Ну, вот... — совсем поникла Клара. — Это скучно.
На них, конечно, уже давно смотрели, лыбились, пялились немногочисленные пляжные сплетники, выползшие в солнечный денек к морю, и, должно быть, сочувствовали Валере. И ветер прохладный нипочем! Понатягивали на себя плащи, пододели шерстяные свитера и кофты, морды на солнышко выставили и сидят или лежат — здоровья набираются, чужие косточки небось перемывают. Уж как пить дать найдется какой-нибудь доброхот из этих, который просветит и Валеру, пожалеет голубка, сделает свое доброе черное дело, предупредит, насплетничает. Они ведь тут и мужики, точно бабы, говорливые — спасу нет: и шу-шу-шу, и ши-ши-ши между собой. Так что никуда тебе, Валера, не деться, не годишься ты в защитники, пожалуй.
Клара поднялась, застегнула молнию куртки-ветровки и пошла, оступаясь на гальке, вдоль уреза воды. Ленивая волна легко накатывалась, клубилась, пенилась, терлась о берег, ворочала обточенные, напитанные соленой влагой коряги, корни каких-то неведомых бывших деревьев, тихонько погромыхивала мелкими камешками. Солнце, дробясь на мелкой морской ряби, слепило и снизу, и сверху. Куда-то, наверное, за горизонт, провалился пароходик, будто это Димка ловко торпедировал его пульсирующей световой торпедой из игрального автомата «Морской бой».
— Уже замерзли? — настиг ее бодренький голос Валеры. — Говорят, здесь бассейн где-то есть...
Она слышала, как загремела галька. Валера, значит, встал из-за своего лежака и вот-вот должен был двинуться за нею следом. Клара уже знала, что будет потом, то есть, когда ему наврут, расскажут о ней. А может быть, и не наврут? Может, все правда, и она больна? Этот бедняга Валера тут же и потеряет к ней интерес (совсем как увалень-шахтер) и вообще как-нибудь плохо проявит себя. И ей самой будет от этого еще хуже... Ишь ты — «было бы ради чего»!.. А если не ради? Если так просто? За здорово живешь? Из одиночества выручить, защитить?.. Зачем только она сказала ему свое имя? Ну, какой, какой он защитник? От Ромео? От этих здесь? Нет, Валера из-за нее пупок рвать не станет...
— Пошли вы все к чертовой матери! — обернувшись на звук его приближающихся шагов, выпалила она, сколько могла зло и безжалостно. — Пристают тут всякие!..
Валера остановился на полпути, точно лбом саданулся в стекло, и Клара увидела, прежде чем отворотиться от него совсем, как густо, мучительно он покраснел. Задело, значит. Обиделся. Красное лицо, красный спортивный костюм... Прости, Валера, если сможешь!
Слава богу, с Валерой его не поселили! Соседом Игоря Николаевича по номеру оказался седой, коротко остриженный, круглоголовый старик-абхазец из какой-то (с первого раза Коровин не запомнил) горной деревушки.
— Там, — сказал дед и, видно, предположив, что его могут не понять, неопределенно махнул короткопалой рукой в сторону лоджии, точнее, в сторону родных гор за окном, далеких, снизу поросших темно-зеленым лесом, а вверху припорошенных матово-белым снегом. — За перевалом. А ты зачем приехал?
Старик сидел на кровати в исподнем — голубые кальсоны, белая, простого полотна рубаха — и, кряхтя, отдуваясь, тяжело поворачивая узловатыми грубыми пальцами маленькие маникюрные ножницы, стриг ногти на ногах. Ногти, непослушные, острые, кривые, пружинисто отстреливали в разные стороны, и старик, что-то бормоча по-своему, всякий раз вставал с кровати, чтобы подобрать их. Ступни у него были жилистые и широкие, растоптанные, и при ходьбе он загибал их немного внутрь.
— Тепло у вас, вот и приехал, — сказал Игорь Николаевич, не сразу обратив внимание на необычный вопрос старика («Что значит, зачем? За тем же, за чем и все, за солнцем, за морем...»). — Путевку дали со скидкой! — будто оправдываясь, добавил он.
Солнце заливало комнату, в которой, как в обычной гостинице, стояли две кровати, две тумбочки при них, два стула и журнальный столик, а на одной из стенок висел традиционный гостиничный офорт или литография — поди разбери.
«Новый Афон», — прочел Игорь Николаевич под аляповатой гравюркой, проходя к своей кровати и ставя чемодан на тумбочку.
И почему, вдруг подумалось Коровину, в который уж, впрочем, раз при вселении во временное жилье, гостиничному начальству так близка графика? Или живопись не по карману? Или что-то тут крылось другое, более тонкое, вкусовое? Черт их знает, конечно... Только если для кого-то из классиков конец России был связан с тем, что повырубали сады и стали заводить огороды, то у Игоря Николаевича похожие апокалиптические настроения вызвало вытеснение из будничной жизни живописи вот этими хотя бы бездарными гравюрками.
— Мне тоже путевку дали, — сказал дед, справившись с очередным ногтем и шустренько сгоняв за ним аж к подоконнику. — Бесплатно. Колхоз.
— Разве вы не на пенсии? — удивился Игорь Николаевич.
Все же как ни крепок был старик, а лет этак на семьдесят, пожалуй, тянул.
— Дверь открой, — сказал старик, усевшись, и кивнул на стеклянную дверь в лоджию. — Жарко.
«Позагорать что ли?» — подумал Коровин, когда в распахнутую дверь ворвался сухой солнечный воздух, звуки птичьего пения снизу и запахи южной зелени и близкого моря.
Он скинул рубаху и, выставив стул в лоджию, сел спиной к солнцу, стал разбирать вещи.
— У нас долго живут, — сказал дедок, с натугой налегая на ножницы. — И работают. Я такой, как ты был, овец пас. Чабан. Сейчас ноги болят. Табак сдаем. Трудная работа. Колхоз путевку дал. Зачем дал? Сюда молодым надо. Женщин красивых много. Ваши женщины любят с нашими...
Солнце ласково коварно впилось в спину, мягко обняло плечи, тронуло затылок. Ноги, правда, холодил ветерок, — все-таки чувствовался двенадцатый этаж, — но сверху было тепло. Да и море отсюда было видно — далеко, широко, просторно, как, наверное, с маяка.
— Слушай, почему так? — спросил старик, разыскивая зорким темным глазом далеко отскочивший ноготь. — Скажи, пожалуйста! Почему ваша женщин такая? Зачем разрешили?
Игорь Николаевич и знал, и не знал, что ему на это ответить, и чтобы не отвечать вовсе (да и обидные были вопросы какие-то), достал из чемодана тапочки, переобулся, рассовал кое-какие вещи по ящикам тумбочки, даже встал, сходил в прихожую, повесил на плечики в стенном шкафу рубашки, чувствуя, впрочем, что дед ожидает от него ответа.
— Я-то своей не позволяю, — вынужденно отшутился Коровин и вернулся на свой стул в лоджию.
— А зачем один приехал? — не унимался старик. — Зачем жену один там оставил? Ты из Москвы?
— Из Ленинграда...
«Уж лучше бы с Валерой поселили, что ли? С ним хоть все ясно... — подумал Игорь Николаевич с тоской. — Экий дедок неспокойный попался. Еще и храпит небось по ночам...»
Старик покончил, наконец, с ногтями, смахнул их с тумбочки в широкую ладошку и отнес в сортир.
— Знаю, — сказал он, вернувшись. — Там правнук на доктора учится. Хочу в гости к нему. Дела не пускают. Я под Москвой воевал. В Ленинграде не был.
Он долго молча смотрел то на Игоря Николаевича, то на свои ноги с остриженными ногтями, почесывал загрубелыми пальцами белую щетину на щеках, потом вдруг спросил:
— Как тебя зовут?
— Игорь, — ответил Коровин и повернулся к солнцу боком.
— Я — дядя Илларион, — представился в свою очередь этот странный старик и тут же спросил: — Понял? — не то подчеркивая тем самым что-то, не то кто ж его поймет, зачем. — Не оставляй жену, пока молодой, — добавил он и стал надевать черные мятые штаны, подпоясывать их ремнем. — Ноги болят, а то приехал бы я сюда! Что вы вообще за люди такие? Как можно за женщиной не глядеть? Эх-х! Русские...
Он застегнул ширинку, обулся и вышел из номера, а Коровин, положив руки на спинку стула, устал прикрыл веки, чувствуя спиной, плечами, затылком блаженное тепло солнца и думая вяло о них, о русских, то есть о себе, о том, какие они, то есть он сам...
«Старик в чем-то прав, конечно, — расслабленно размышлял он, блуждаю мыслью словно в тумане. — И мы женщин не блюдем, и они себя тоже...»
Впрочем, он, конечно, чувствовал, что все гораздо сложнее, понимал, что есть у него, чем возразить этом дяде Иллариону, но чувствовалось и понималось как-то леностно. Грело солнце, пели птицы, шумело море внизу, и его сморило не то от дорожной усталости, не то от Валериной болтовни, не то ото всего сразу. Он опустил голову на руки и не заметил, как задремал.
И навязался же он на ее голову! Клара еще тогда, на пляже, решила, что Валера к ней больше не подойдет. Ну, все же ясно было ему сказано, и вообще... Ан, нет! Сидят они с Матвеевной за своим столиком в столовке, какой-то салат жуют, и на тебе — этот, в красном костюме...
— Здрасьте-подвиньтесь! Так у вас и местечко свободное имеется... И не одно! Примите голодного балтийца — от самого Санкт-Петербурга маковой росинки во рту не держал...
— Садись, коли не шутишь, — разрешила Матвеевна, не подумав. — Все одно кого-нибудь подсодют.
Клара встала и пошла к шведскому столу. Не то чтобы захотелось чего в добавку, а надо же было как-то показать Валере, что ему не рады.
— Ты, Клар, и на мене там, на мене чего повкусней прихвати, — вслед ей шумнула Матвеевна и уточнила: — Свеколки там, лучку зеленого или че...
Когда Клара вернулась, Матвеевна уже мирно беседовала с Валерой о том, о сем, откуда он и чем занимается в жизни. Слово «хоккей! Она произносила с трудом и неправильно, будто выкашливала его, и всякий раз получалось по-разному, наособинку — когда «какхей», когда «кахкей», когда еще как-нибудь смешнее. Валера улыбался щедро и белозубо, но Матвеевну не поправлял, а все гнул к переломам, синякам и ушибам, все старался свести к тому, каким он мужественным и настоящим делом занят, ну, совсем, как в песне поется, мол, трус не играет в хоккей. Да и нужна ему была Матвеевна, ага! Ясно было, как белый день, и Клара даже не сомневалась, что это он к ней, настырный, подкатывается. А она-то его пожалела тогда, когда на пляже отбрила, искренне пожалела... Лучше бы уж Ромео — или кто там за него? — просветил бы этого Валеру, что ли, перепугал бы сразу, и делу конец. Ведь тошно же будет потом все понимать, смотреть, как станет он отползать, давать задний ход, что-то объяснять, врать, стараться так все преподнести, словно это он не потому, что узнал, а почему-то по-другому... В общем — тьфу бы на него и забыть, ан нет — встречайся теперь за одним столом четыре раза в день. Ну, вот что, вот зачем он лезет-то, бедняга?
— Вы, Кларочка, меня прошлый раз неправильно поняли, — вкрадчиво говорил он уже ей, забыв, конечно, о Матвеевне, которая с упоением трескала дармовую свеклу и зеленый лук со шведского стола, потому что ей объяснили в журнале «Здоровье», что это витамины, что по весне они полезны и что в вареной 1свекле чего-то там даже больше, чем в свежих и дорогих гранатах. — И я не сообразил, — бубнил-таки Валера без окороту, — что может же человек, в смысле, вы, захотеть просто побыть в одиночестве...
Клара подумала о том, что здесь, на югах, мужики в основном делятся на тех, которые легко тратятся на женщин, водят их всюду, катают на машинах, покупают цветы и безделушки, окружают собой, обволакивают незаметной, сладкой, золотой паутиной так, что вроде и неловко им потом отказать, и на тех, которые всего хотят добыть задарма, нахоляву, кто силой, принуждением, оговором, кто вот так, как Валера, болтовней, прилипчивостью, неотступностью своей. И ведь все они, ну, ей-богу, все до единого, со всеми их способами, методами и желаниями были сейчас Кларе как-то особенно, оголенно понятны и противны, противны, противны...
— ...Эй, Коровин! — вдруг крикнул и махнул кому-то рукой Валера. — Сюда подгребай, местечко свободное.
Еще одного несет. Мало им Валеры, как же! Теперь какой-то Коровин, рыжий, что ли? Да ей, впрочем, и дела нет, конечно. Нет, не то чтобы рыжий, а так — веснушчатый с рыжиной... А ей, разумеется, все равно! Клара огляделась в поисках официантки. Вот вечно ее где-то носит, когда люди есть хотят! Разве так можно работать медленно?..
Ну, подошел этот Коровин, кисло поздоровался, спросил, глядя на Матвеевну:
— Правда, свободно? Не возражаете?
И сел.
Матвеевна запоздало покивала ему.
Клара мельком взглянула на Коровина, — бледное, усталое, конопатое лицо, — и они всего, может быть, на полсекундочки встретились глазами, но этого ему хватило, чтобы тут же привстать со стула и представиться:
— Игорь Николаевич Коровин из Ленинграда.
Он слегка кивнул и опустился на стул, глядя на Клару вопросительно или выжидательно — ей-то что? как бы ни смотрел... Но все же почему-то она чувствовала на себе его долгий взгляд и была несколько раздражена уже этим. Ну, что, что уставился?
— Ты кто, Коровин? — спросил его Валера по-свойски, но было что-то странное в его таком обращении. — Просто инженер или главный? Как прикажешь дамам тебя рекомендовать?
— А никак, — вяло отозвался Коровин, — я сам, если надо...
Ох, ох, ох, какие мы! Клара взглянула уже на него сама, но Коровин, как нарочно, отвернулся.
— И где эта наша стряпуха-то сегодня запропастилась? — подала голос Матвеевна. — Уж лучше б раздача была, чтоб сами брали. Ждешь ее, ждешь... Придумали тоже, как в ресторане. А все чтоб с нас за путевочку подороже содрать!
— Вот этот человек, — начал Валера приподнято и тронул Коровина за плечо, от чего тот вдруг вздрогнул и поморщился. — Ты чего? — удивился Валера, но Коровин не ответил, и тот торжественно продолжил: — Он мне сумку спас. Да! От цыган!..
И так он это произнес, будто Коровин спас ему жизнь. Да и что значит, сумку спас? Что-то буровит этот Валера!..
— Вы не глядите, что он такой, в смысле, вежливый, робкий, — трепался Валера без умолку. — Как ты их, Коровин, а? Граждане, говорит, цыгане!.. А в сумке фотоаппарат, свитер — чистая шерсть, книга по фантастике. — Он взглянул на Клару и пообещал: — Дам почитать, если хорошо попросите...
Как же он надоел уже! И красный его костюм надоел!.. Клара, впрочем, слегка ему кивнула, чтобы этот Коровин из Ленинграда не решил, будто вежливые только у них там и встречаются.
— А это Клара, — продолжал Валера. — Ну, знаешь, Карл у Крали уркал калары... — И он громко захохотал ни с того ни с сего.
Подали, — наконец-то подвезла официантка на своей тележке с вихляющими посвистывающими колесиками, — первое, суп гороховый, кажется, со свининой.
— Я главный инженер проекта, — невпопад сказал вдруг Коровин, попробовав супу.
Тоже, что ли, хвастаться начал? Или до него доходит так медленно? Сейчас, наверное, весь ассортимент выпускаемой продукции начнет перечислять... Клара вспомнила своего недавнего воздыхателя шахтера (все у него «забой» да «на-гора», да какая-то «лава») и решила подначить.
— Начальство!.. — как бы уважительно прошептала она.
— Я? — простовато удивился Коровин и улыбнулся. — Да нет... Вы это в том смысле, что главный инженер? Какое начальство? Просто есть проект, к примеру, завода... Вы-то сами кем работаете?
— Я в чайной буфетчица! — так и выложила ему Клара.
— Ну, вот! — кажется, обрадовался Коровин. — А наш институт заводы проектирует. И за этот завод, в смысле, конечно, за проект, кто-то должен отвечать. Нас целая группа, несколько групп над проектом трудится, а отвечает за все и вся главный инженер проекта. Так что я тот еще главный... А вы уж подумали бог знает что, да? Мальчик я для битья, а не начальство! Ясно?
И что он разошелся-то, ей-богу? Хотя Коровин так добродушно, так трогательно говорил, что Кларе показалось неудобным просто так его слушать и есть этот суп гороховый. Зато Матвеевна вон нарезала, аж причмокивала. И к тому же Коровин не купился на дурацкую, с детства надоевшую, ненавистную шуточку про Карла и Клару.
— Коровин, Коровин... — машинально проговорила она, не то что-то припоминая, не то просто оттого, что вдруг подумала, какой, кажется, славный этот Коровин (ну, уж куда до него болтуну Валере!), и все-то у него, вроде бы, искренне, от сердца, без всякого темного умысла.
— Совершенно верно! — опередил он услужливо. — Константин Коровин. Был такой художник. Так вот мы с ним не родственники, нет, а просто однофамильцы. Знаете, меня почти всегда об этом спрашивают при знакомстве...
— А я и про художника такого не слыхал, — прорезался откуда-то Валера. — Из передвижников, что ли?
— Ага, из Кукрыниксов, — кажется, с подначкой ответил ему Коровин.
— Ты, Коровин, одеяло-то на себя не тяни, не тяни, — должно быть, почувствовал что-то Валера. — Дай и мне с Кларой пообщаться.
— Про художников я тоже не знаю, — подтвердила Матвеевна, промокая свои тоненькие сморщенные губки бумажной салфеткой.
Но Клара их почти не слышала, вернее, конечно, слышала, но как-то вскользь, боком, невнятно. Она вообще очень странно сейчас себя чувствовала — волновалась, не волновалась, а как будто что-то дрожало внутри, какая-то особая жилочка, от которой дрожь расходилась по телу, и в груди ее было неспокойно. Вдруг она даже поймала себя на том, что хочет этому Коровину понравиться, то есть не ради там чего-то, не собственно понравиться, а как бы угодить, что ли, потому что ведь он, короче, он за человека ее, кажется, считает, не за буфетчицу, не за бабенку, с которой можно... Нет, нет, она не ошибалась, потому что вот зачем он ей так все и объясняет? Или чего он смущается так, когда с ней разговаривает? Или... Да нет же, нет! Хотя, может быть, и такое, конечно, — просто ей почудилось что-то общее в том, что их привычно, навязчиво о чем-то спрашивают при знакомстве: его — не родственник ли он какому-то там художнику, ее — все про те же кораллы и кларнет... Неужели только на это пустое сходство откликнулась уставшая душа? Или уж она совсем тут одичала в своем горе-злосчастии?
— Помните в «Подростке» у Достоевского? — спросил ее Коровин, откидываясь на спинку стула, — Когда он представляется?..
Ну, откуда ей помнить-то? Читала она его Достоевского, что ли? В школе, кажется, проходили... А ведь зачем он так спрашивает, мол, помните ли вообще? Ведь чтобы не унизить, чтобы даже если не читала, то могла бы хоть вид сделать, кивнуть там или еще как ответить уклончиво. И Клара кивнула.
— Вот! — снова радостно подхватил Коровин. — Он там, помните, всем: «Долгорукий». А они: «Князь?». А он им: «Просто Долгорукий», — прямо в лицах изобразил он. — Вот и я — просто Коровин. Не художник, не родственник, однофамилец...
— Ну, ты, старик, даешь! — выдохнул Валера, что-то, должно, свое имея в виду, и потрепал рукой Коровина по плечу.
— Слушай, поаккуратнее, а!! — попросил Коровин и отвел его руку. — Я сегодня до обеда вот рубаху скинул, сел в лоджии спиной к солнышку и задремал. Кажется, обгорел. Плечи...
— Дает, да? — спросил Валера у Матвеевны. — Тебя, Коровин, за стол позвали как человека, обедать усадили, с Кларой познакомили...
Клара взглянула на Валеру с тихой надеждой, даже с мольбой, может быть, в глазах: «Заткнулся бы ты, что ли...».
— Спасибо, старик, что познакомил, — передернув плечами, простодушно ответил Коровин. — Я очень рад!
— Откуда вы такой взялись? Просто Коровин... — задумчиво сказала Клара, не обращая теперь внимания ни на Валеру, ни на Матвеевну, лишь непонятным ей самой бабьим своим чутьем уловив, что у Коровина к ней, кажется, что-то серьезное — любовь не любовь, может быть, пока одна невыясненная симпатия и только.
— Я же и говорю: из Ленинграда, — не понял ее Коровин.
Клара нервно усмехнулась. Нет, святой он, должно быть, или просто очень добрый человек, такой, от которых все отвыкли или уже стали забывать, какие они бывают, эти добрые люди. Знать, бывают, не вымерли, уцелели. Разве что в Ленинграде...
— Просто Коровин... — зачем-то повторила она бережным шепотом.
— Спасибочки, спасибочки, — запричитала Матвеевна, вставая. — Пойду я, Кларочка, после обеда вздремну часок. Да вы что же не емши-то сидите? — всплеснув руками, спросила она, наверное, их с Коровиным. — Эх-х, дело молодое!..
Валера молча подался за ней следом. Хотя нет, не выдержал, пробурчал что-то со значением, вроде «ну-ну!.. все с ними ясно...». И что там ему еще ясно, когда ничего не ясно как раз?
А у Коровина, — ну и что, что конопушки? — было лицо открытого, честного человека, были честные, зеленые, нет, серые с зеленым глаза, и голос его не врал, кажется. «Рыжий, рыжий, конопатый, — вспомнилась ей детская дразнилка, — убил дедушку лопатой... А я дедушку не бил, а я дедушку любил...» Ей даже захотелось вдруг, — да, безотчетно, стихийно, необъяснимо, взять, да открыться ему, пожаловаться, как бы пожаловалась она старшему брату, будь он у нее, все рассказать о себе, о своем горе... Нет, нет, она никогда, ни за что этого не сделает, но как же плохо будет, если Коровин узнает это от других. А он узнает!.. Вот они, — сколько много! — сидят, смотрят, осуждают, думают. Она и Матвеевна, болтливая старушонка, сейчас небось этому Валере наплетет с три короба, а тот уж Коровину... Господи, как же сильно они похожи с ее мужем, с Павликом, которому она и не знала, как предстать теперь пред ясны очи. Ну, как нарочно, будто кто выводит ее на таких мужиков! Клара огляделась по сторонам, ничего почти не замечая вокруг, лишь чувствуя неведомым чутьем на себе и на Коровине чужие взгляды, косые взгляды. Люди, кажется, выходили из столовой. Впрочем, что же теперь — узнает и узнает. И Павлик узнает, если все у ней там серьезно... А плевать она хотела, — расскажет мужу сама, и пусть хоть бьет, хоть пьет — сам отпустил, сам! — хоть головой об стену. Поймет, простит, притерпится — хорошо, а нет... Да что она, маленькая, что ли? Димку на руки и к матери в Коммуну. Так-то вот! И ничего не страшно...
— Вы, должно быть, замужем? — спросил Коровин осторожно.
Что он, не видит кольца у ней на правой руке? В том-то и дело, что замужем...
— Наверное, думаете, и что этот рыжий дурень пристает тут со своими вопросами?.. — развивал какую-то свою мысль Коровин.
В другой бы раз (или кого другого) она посчитала бы его занудой, и шуганула бы в сердцах от себя, но сейчас ей почему-то нравилось вот так сидеть с ним назло всем, — что, видели, все видели! — и разговаривать, ее устраивали, как воздух нужны были наивность и чистота помыслов Коровина, ей просто приятно было его слушать. Во всяком случае, она чувствовала, что этому и против Ромео с Айриком не слабо... Была в Коровине при всей его простоте и мягкости, ребячливости и вообще, была, угадывалась странная твердость. Ну, вот как он Валеру отшил, как сильный, уверенный в себе мужчина — чистенько, не грубо, с достоинством, а главное, удивительно естественно и просто. Ну, да — просто ведь Коровин.
— Вовсе напрасно вы так обо мне... — говорил Коровин тихо. — Я тоже женат. Видите, кольцо? Вот Валера... Мы с ним летели в одном самолете. Смешно! Нет, ей-богу, посоветовал мне кольцо снять или... Все это, разумеется, чушь собачья, и я разве сюда за эти приехал? Ну, согласитесь, неужели между мужчиной и женщиной ничего не может быть просто так? Без постели? Без измены? Ну, сами подумайте... Мы же люди, а не скоты, правда?...
— Дружат, Коровин, в пятом классе, — с грустью оборвала его нелепые слова Клара. — А на юга замужняя женщина... В общем, с мужем она должна ехать сюда. Не скажу про мужиков, им виднее, с кем и как. Но просто так ничего не бывает, товарищ просто Коровин!
Она, наконец, кажется, одолела свое оцепенение и огляделась. Кроме них, в столовой остались одни официантки, собирающие грязную посуду со столов, да какой-то загорелый седой дедок, который все поглядывал на Коровина и на нее из другого конца зала, из-под пыльной пальмы в кадушке.
— Это дядя Илларион. Из местных. Мой сосед по номеру, — вдруг, будто мысли умел читать, сказал ей заговорщическим шепотом Коровин. — И не поверите... Он вот то же самое, что и вы сейчас, — слово в слово почти, клянусь! — мне выдал. Мол, зачем без жены сюда прикатил? Разве можно женщину оставлять одну?..
— Он прав, ваш старичок, — сказала Клара, вставая. — Интересно, что он вам теперь скажет?
Коровин поднялся и молча пошел за ней следом. Обиделся, что ли? С него станет... Ее Павлик вот тоже часто так обижался, бывало, ни с того ни с сего. Потом отходил. Как мало, однако, она его понимала, собственного мужа. Странно, но теперь, тут, в горе, как-то обостренно, ясно думалось обо всем. И вовсе они не похожи — Коровин и ее Павлик. Глупости! Напридумывала черте чего! Да она бы ни в жисть за такого рыжего замуж не пошла бы.
— Вас кто-нибудь обидел, наверное, и вы людям верить перестали, — глухо в спину ей сказал Коровин.
Клара резко обернулась. Они уже были в коридоре, застекленной, заставленной кактусами и пальмами галерее, которая соединяла столовую с жилым корпусом, и солнце яростно светило, и колыхались тюлевые занавески на сквозняке... Умник нашелся! Все ему известно!.. Или кто рассказал уже? Но когда?.. Ей захотелось надерзить ему или даже накричать, как она кричала иногда на Павлика в приливе бестолковой, непонятной, рвущей ее изнутри злости, прогнать захотелось или уйти самой, но Коровин смотрел на нее, не отводя глаз, этих серо-зеленых, кошачьих, мудрых глаз, и он был, конечно, прав, и гнев ее тут же улегся, рассосался как-то, и она даже, когда он невозмутимо попросил, пообещала часа через полтора выйти и погулять с ним у моря.
Она была красива, нет, не этой стандартной, разрекламированной самопальными конкурсами красоты, готовой на все, хоть раздеться на людях, красотой, а какой-то естественностью, природностью, женственностью своей. Коровин проводил ее удаляющуюся, легкую, подвижную фигуру глазами и зашел в бар купить сигарет.
В нарочно созданном дымном полумраке, подсвеченном, как в фотолаборатории, настырно-красными лампами, гремела музыка, пахло крепким кофе и алкоголем. За могучей спиной матерого бармена — огромного, с волосатыми руками, лысеющего мужика в джинсах-варенках и бежевой («kiss me») маечке, из-под которой тоже перли по груди к шее, по плечам мохнатые черные волосы — в общем, за его спиной суматошно мигали в ритме музыки разноцветные огоньки, сияли этикетками фасонистые бутылки и коробки для бутылок, висели портреты известных артистов и кривляющихся, гримасничающих рокеров в черных одеждах с заклепками. На длинноногих пуфиках вдоль стойки сидели девушки и парни, медленно и небрежно тянули свой кофе из крошечных чашечек или сок из высоких узких стаканов. И это мигающее, гремящее, тесное и полутемное пространство мгновенно поглотило Игоря Николаевича, что-то было тут не его, нервное, бьющее по ушам, по глазам, что-то чересчур уж молодежное, из чего он давным-давно вырос, как вырастают в детстве из одежд. И он бы и рад был поскорее выйти отсюда, но у стойки, оказалось, не так просто сидели, а сидели в очереди, поэтому пришлось спрашивать, кто последний, и ждать возле узкой лесенки с железными черными перилами, лихим загибом уходящей куда-то вверх, на неведомый другой уровень, и там Игорь Николаевич, задрав голову, едва разглядел в почти полной уже темноте мягкие спинки хаотично стоящих стульев и краешек пластикового стола. Сигаретный дым снизу стремился туда, восходил плотной гущей, и, наверное, стоял у самого потолка, смешанный с темнотой. Над первыми ступеньками лесенки висела на черных веревках маленькая самодельная афиша и кричала зазывными оранжевыми буквами: «Сегодня в нашей видеопрограмме...». На половину шестого (значит, перед ужином) обещали «В логове смерти», на двадцать тридцать (после ужина) — «Козни дьявола».
Очередь еле двигалась, хоть лысоватый бармен с каменным, невозмутимо-важным и глуповатым от этого лицом вовсю суетился там, за своей стойкой, заваривал кофе в горячем песке, переливал его в чашечки, плескал что-то горячительное в крошечный рюмки-колибри, получал деньги, бросал на тарелку сдачу... Томили обожженные все-таки плечи, ныла спина. Игорь Николаевич попробовал получить свои сигареты без очереди, мол, всего лишь пачку и у него без сдачи.
— Всем только сигареты и у всех без сдачи! — огрызнулась очередь, и пришлось возвращаться назад, к загадочной лесенке.
От нечего делать и чтобы совсем не ошалеть в давящем, мигающем, гремящем и дымном пространстве, Игорь Николаевич прочел и приписочку на афише снизу: «Во время сеанса, Вам будут предложены: кондитерские изделия, вино, кофе, соки, мороженое».
«Сервис!» — подавляя невольное раздражение, подумал он, машинально отметив лишнюю запятую, и вдруг вспомнил о Кларе. Что с ним произошло там, за столом? Вот ведь забытые чувства и ощущения!.. Он уж и не помнил, когда так искал внимания понравившейся женщины. А может быть, это юг так действовал на него? Море, солнце... Он передернул плечами, чувствуя сухую, стянутую, покалывавшую и обещающую бессонную ночь впереди саднящую кожу. «Теперь волдыри, боль, рубашку не снять на пляже... — с привычной досадой представилось ему. — Одеколона надо бы купить...» А с Кларой все было, наверное, проще. Ну да, он даже вспомнил, о чем подумал, когда позвал его Валера, вернее, нет, не когда позвал, а когда он уже подошел и Клару увидел. Что-то сразу тронуло его в этой юной женщине, с каким-то странными испытующим испугом она взглянула на него и отвела глаза. И Валера тут что-то о цыганах, о сумке, о своей дурацкой книге по фантастике... А он, Коровин, сразу почему-то представил себе, как Валера будет нести подобную банальную дикую чушь этой симпатичной Кларе, мучительно думая свою примитивную думку: ляжет она с ним или не ляжет; как занудно и тошно станет косноязычно ворчать на что-нибудь или на кого-нибудь, будет часто повторяться, исходить завистью и желчью и как вдруг беспечно и глупо захохочет во все свое Валерье горло, обнажив крепкие (хоть проволоку кусай) белые зубы, какой-нибудь плоской своей же шуточке, типа Карл у Клары украл кораллы... Короче, ему мгновенно так жалко стало этой красивой женщины, так обидно сделалось за весь их женский род, что, конечно же, иначе поступить он не мог. Хотя какая-то мистика, необъяснимость тут все же присутствовала, и вряд ли он ясно мог назвать все своими именами.
«Отбил, называется... — раздраженно подумал Коровин созерцать бармена за стойкой. — дальше что? Водить ее по вечерам на танцульки или сюда, на «козни дьявола» по видику?»
Сколько же их расплодилось кругом этих крошечных видеозалов, салонов, кафе и баров, где показывают всякую муру, — примитивный сюжетик, погони, драки, ужасы, кровь, кишки по асфальту, — щекоча нервишки родному до боли, не избалованному маскультом, советскому обывателю! Все можно, сказали ему, хоть заголяйся, — прочь стыд! --все дозволено, что не запрещено. А что запрещено, то особенно сладко, к нему тянет, за него любые деньги не жалко... И ведь может статься, что все он насочинял себе про эту Клару, что ей и Валеры хватило бы с лихвой, что какие к чертям тонкости в этой зачерствелой, а может, и испокон простой и грубой — хлеба и зрелищ — жизни? Просто с годами, с веками, с тысячелетиями хлеб становился все хуже и хуже, а зрелища — массовей, зрелища — в каждый дом, на, смотри по своему телевизору, пугайся и смейся, истекай похотью и страстью, не слезая с дивана, а можно еще и на кухне, под жратву, под чай с пирогами — все можно!..
«Буфетчица в чайной...» — вспомнил Игорь Николаевич, но тут подошла его очередь, и бармен-гигант одарил его пачкой сигарет, заначив гривенник из сдачи.
Коровин встряхнул мелочь на ладони.
— Есть вопросы? — выпятив из-за стойки свою гренадерскую грудь, упакованную в фривольную маечку «kiss me», с миролюбивым бесстыдством поинтересовался бармен.
— Вопросов нет, — вяло ответил Игорь Николаевич, пряча деньги и сигареты в карман куртки.
«Ведь сочинит, подлец, какую-нибудь буфетную наценку, напомни ему про гривенник... — подумал Коровин подавленно. — Он вон какой дядя большой, ему на хлеб, на масло, на бензин, на девочек нужно...»
— Слышь, Коровин, — окликнул его Валера уже в коридоре. — Чего скажу-то, старичок, чего скажу!.. Я тут справочку навел...
Он заговорщически взял его под локоток и повел по коридору, устланному вытоптанной красной ковровой дорожкой, куда-то туда повел, где мальчишки стучали теннисным шариком по зеленому столу, перегороженному провисающей сеткой, где за огромными шахматными досками кучковались задумчивые мужчины, неуклюже передвигающие высоченных ферзей и слонов, в общем, в уголок, к двери с надписью: «Игротека. Бильярдная. I час игры — 2 рубля».
— Мне теперь, старик, даже не жалко, что ты Клару отбил, — сказал Валера сладострастно и непривычно щедро для себя. — Отбил же, отбил, не отпирайся! Другой бы на моем месте... — Он сделал угрожающую паузу и тут же хохотнул счастливо. — Но я тебе друг — ты мне сумку спас — и потому предупреждаю... Услуга за услугу...
Тут он, склонившись к самому уху Коровина, перешел на горячий, свистящий шепот, и из всей этой шепелявой, брызжущей слюной невнятицы Игорь Николаевич сумел понять лишь, что Клара — та еще Клара, что пронеси и помилуй, что она тут с каждым встречным-поперечным и что говорит, от нее можно запросто подцепить...
— Имей в виду, Коровин. Не исключено самое страшное! Так что, как говорится, не рой другому яму и скажи спасибо верному товарищу за своевременное предупреждение! А то он налетел, отбил, увел... В нашем опасном деле — разведка, разведка и разведка! — весело заключил было Валера, но обернулся и добавил с искренним удивлением на лице: — А вот посмотришь на тебя, Коровин, и ни за что не скажешь, что ты тоже ходок. Ой, ходо-ок!..
И он куда-то упорхнул своей бойкой косолапой походочкой, а Игорь Николаевич с лютой тоской (ведь точно помоями облили с ног до головы) подумал о том, что вот такие Валеры куда лучше приспособлены к этой жизни, куда прочнее стоят на ногах, чем он со своими тонкостями, принципами и нравственными запретами. И сама-то жизнь, ее основа, ее нынешнее нутро — все это идеально подогнано под них, под Валер, под Ларис, под лысых барменов, под хоккейных или нехоккейных тренеров, и они хозяева сей жизни, убогой и плоской, как фанерные транспаранты на демонстрациях, как рисунки и лозунги на этих транспарантах, потому что всегда точно знают, чего от нее хотят и добиваются этого маленького своего любыми способами. Вот та же Лариса: надо отдохнуть — что же, что денег нету? ведь надо же и — пожалуйста, потому что можно, если очень хочется, можно и без денег, потому что главное — цель и очень-очень захотелось, а средства...
«Да, да, — ухватил, кажется, ускользающую мысль Коровин. — Для них нет негодных средств — все хороши. Нельзя украсть сразу десять тысяч — крадут по гривеннику. Или Валера... Главное — разведка? Да нет, главное — своего ему добиться, не сплоховать, умыкнуть, урвать, не дать маху...»
Он очнулся уже возле теннисного стола и бессмысленно, долго наблюдал за перемещениями белого пластмассового шарика, звонко скачущего туда-сюда, туда-сюда... Вдруг один из играющих мальчиков неловко ступил, и, коротко, сухо и зло хрустнув под его ногой, шарик превратился в сплющенный комочек, в рваное белое пятнышко на полу.
Мальчишки, что стояли вокруг стола и, видимо, ожидали своей очереди поиграть, загомонили недовольно и резко. Сначала Коровин ничего не понял из их громких, обиженных и обидных восклицаний, но потом все же догадался, что весь сыр-бор у них разгорелся из-за того, кому идти за новым шариком к какому-то Ромео (они так и говорили — к Ромео), наверное, заведующему игротекой, который может шарика больше не дать.
— Полтинник готовь, козел! — крикнул один мальчик тому, виноватому, раздавившему шарик и прервавшему игру. — За полтинник даст.
«И тут свои драмы...» — подумал Игорь Николаевич и пошел прочь.
До встречи с Кларой оставалось около часа, и нужно было о многом подумать, и вообще сходить к морю, а то он моря еще близко не видел.
Да он просто сумасшедший, этот просто Коровин, добрый сумасшедший, как бывают же в сказках добрые и злые волшебники. Да разве можно быть таким? Ну, что он говорит-то?! Как? Он вообще как-то не так разговаривает, не то его интересует, что всех, не то для него главное, что для всех. А вот как с этим мертвым дельфином, вот возьмет, вытащит самое что ни на есть незначительное, мимо чего девяносто девять человек из ста прошли бы со спокойным сердцем и не заметили б, и вот уж накрутит, раздует, нагонит важности. Клара к таким не привыкла, — Павлик ее, конечно, не Коровин, словечек всяких разных, может быть, помене знает, книжек стольких не читал, да и сказать так гладко не скажет, а тоже, бывает, водится за ним похожее, — но ведь к этому, если честно, и привыкнуть невозможно. Ну, хотя бы с дельфином, которого выкинуло на берег, ну, выкинуло и выкинуло, другой бы мимо прошел, мол, чего не бывает, и люди гибнут, чего уж там дельфины (это ж все равно что рыба, только большая), а он, Коровин, завелся. Видишь ли, кто-то возле того несчастного дельфина сфотографироваться решил. Ну и что? Сама бы она не стала, конечно, в смысле фотографироваться. Но и людей можно понять: приедут домой, напечатают карточки, будет что вспомнить... Так Коровин их разогнал.
— Они же что делали, безумцы? Они кучкой возле трупа стали. А один, — ну, не мерзавец ли? — ногу водрузил, как охотник на тушу поверженного льва! Кощунственно! Дико! Каменный век!...
Клара хотела спросить, что такое «кощунственно», но промолчала, не стала подливать масла в огонь.
Они шли по гремучей гальке вдоль неспокойного края моря. Штормило не штормило, а волны все же набегали с шипением, треском и грохотом на берег, довольно высокие волны, гнали перед собой мелкие камешки, которые потешно, как живые, выпрыгивали из пены и в пене же исчезали. До крупной гальки волны дотягивались редко, вяло лизали берег вытянутыми языками, а все чаще просто гасили силу друг друга — одна накатывалась, другая с шелестом откатывалась ей навстречу, и белые буруны свирепо клокотали в бессильной ярости.
— ...И главное, представляете, Клара, — говорил свое Коровин, — они с такой неохотой от дельфина отошли. Вон там это было, за тем вон волнорезом. Идиоты бесчувственные!..
Слушая его, Клара вдруг подумала о вечности (она очень редко, почти никогда так вот отвлеченно не думала), то есть не совсем даже о вечности, а просто о море, о волнах, о том, как стачиваются, скругляются, ударяясь друг о друга, камни под их монотонными накатами и откатами. И все не вчера началось, а когда-то давно-давно, и не завтра кончится. В общем, рядом с морем о чем-то таком думается, об отвлеченном, пустом, далеком, о чем, наверное, Коровин думает часто.
— ... Я подошел, на колени опустился, взял ее на руки... Да, да, это девочка была. Я, знаете, сразу подумал о ее родителях. Ведь мечутся где-нибудь там. — Он махнул рукой в сторону рокочущего моря. — Зовут, ищут, исстрадались небось все. Они же, дельфины, умные, они, может быть, все понимают и чувствуют, как мы. А эти, — ну, дикари! — фотографироваться... Поднял я ее и, куда же, думаю, милая, тебя деть-то от них ото всех? Понес в камыши. Вон туда... Тяжелая. Положил, маленько отдохнул и яму стал копать. Прямо руками. Там, на глубине, песок крупный, зернистый и мокрый. Холодный — одно слово могила. Ну, сколько я отрыл? Не так и глубоко, конечно. Около метра будет... Там еще камыши, корни какие-то мешали. Положил я ее и засыпал. Я там камнями знак сделал, привалил маленько. Хотите посмотреть?
Клара взглянула на мокрые колени Коровина, на грязные, в песке, его брюки и плащ. Ну, что ты с ним сделаешь? Разве откажешься? Придется идти на рыбью могилу. И так все туфли полны песка...
— Пошли, — сказала она покорно.
На пол дороге, когда до камышей оставалось метров пять, не больше, Коровин вдруг нагнулся, схватил два больших камня и бросился вперед.
— Сволочи! — дико заорал он. — Фу! Пошли! Пошли вон! Гады!..
Клара ничего не поняла, и лишь когда Коровин запустил на бегу сначала один, потом второй камень и из камышей с треском и виноватым ворчливым лаем выломились две огромные черные собаки, она, подчиняясь странному страху или даже азарту, тоже схватила камень, швырнула в одного из псов и, что-то крича и почти не слыша себя, побежала следом за Коровиным, врубилась сходу в камыши. И что это на нее нашло? Клара, стоя в высоких камышах и глядя сквозь них на убежавших собак, никак не могла отдышаться.
— Сытые-то какие! — с шумом раздвигая сухие, похожие на бамбуковые стволы камышей, заполошно проговорил Коровин, не оборачиваясь. — Аж тошно! Вовремя мы. Не разрыли, слава богу!
Клара сделала несколько шагов за ним, но не дойдя до дельфиньей могилы, остановилась и отвернулась, чтоб ничего не видеть. Она лишь слышала, как шуршал песком Коровин, снова, должно быть, засыпая могилу, как, чертыхаясь, носил и кидал он камни, как бранился на собак, улегшихся тут же неподалеку на гальке, но не матерно, конечно, бранился. А и умел ли он о матушке-то? Клара, оступаясь и увязая в рыхлом песке, вышла из камышей и села на сухую гальку лицом к морю, высыпала песок из туфель. Ветер крепчал, и было пасмурно надо всем. Сухие метелки камыша едва различимо за рокотом волн шелестели в вышине. Топорщилась дикая шерсть собачьих загривков не то от злости на них с Коровиным, не то от ветра, и умные терпеливые морды у них были в песке. Пахло йодом и далью, серой, взволнованной до горизонта далью моря. Пляж был пустынен и скучен, и то, чем они тут занимались с Коровиным было ей непонятно и скучно. На всякий случай Клара взяла в руки палку, тяжелую, пропитанную соленой влагой, обточенную на волнах прибоя. Так было спокойнее, а то эти собаки... Они смотрели на нее и смотрели. Что-то человечье было у них в широкопосаженных острых глазах. Затих Коровин со своим мертвым дельфином. Клара подумала о том, что у нее в запасе осталось меньше недели, — как быстро и бессмысленно утекло время! — всего несколько денечков на этого странного рыжего Коровина, на Матвеевну, на сытых, страшных своим возможным умом собак, на страхи перед встречей с мужем, на все про все. А, может, она и не больна ничем? И Ромео с дружками только натрепались о ней повсюду? И как узнать? К врачу?.. Все равно придется Павлику сознаваться. А что, они с Димкой и у матери проживут, в Коммуне. Разводятся же люди... Нет, она не хотела бы разводиться, но кто же теперь знает что. Съездила... Отдохнула...
Сзади подошел Коровин, сел рядом, стал шумно отряхивать брюки, плащ от песка. Клара взглянула на него сторонними глазами — чужой, незнакомый, чудной мужик. И что их свело под этими южными небесами? Как вообще люди находят друг друга? А может, это только так говорят, что судьба и прочее, может, все проще, случайнее кругом? Случайно люди встречаются, случайно сталкиваются, тревожимые волнами, камни на морском берегу. Люди привыкают друг к другу, смиряясь с мыслью о судьбе, камни скругляются, обтачиваются, ударяясь один о другой, в беспорядке, шуме и боле штормов.
— Кобели тут, и те здоровущие, южные! — сказал наконец Коровин и швырнул в собак камень (те даже ухом не повели). — Почти ведь отрыли! Но теперь — черта с два! Теперь там гробница Тутанхамона, нет, выше — пирамида Хеопса!.. Что, скушали? — показал он собакам фигу и вдруг сказал задумчиво: — Жрем потихоньку друг друга...
— А кто у вас жена? — спросила Клара тихо, почти шепотом. — Как же она вас терпит? Или вы тут только такие? А дома тише воды, ниже травы?
Коровин сходил к морю, ополоснул в набегающих волнах руки, вернулся и снова сел рядом.
— Жена-то? — спросил он сипло. — Жена терпит. Она учительница, а сейчас, знаете, дети какие!.. Жена говорит, что я у нее самый смирный ребенок.
Собаки, видать, сообразив, что к могиле их не подпустят, поднялись, стряхнули, как воду, песок с себя и побежали трусцой вдоль берега, тяжело неся свои понурые большие головы.
— И дети у вас? — спросила Клара, вспомнив своего Димку.
— Двое, — беззаботно отозвался Коровин и прикрикнул на собак: — Давайте, давайте! Улепетывайте! Не обломится!..
— Что же дальше-то, Коровин? — спросила Клара, чтобы что-то спросить.
И пора было куда-то идти, и вставать не хотелось.
— Так дружить! — весело отозвался он, вставая и оправляя плащ, и подал ей шершавую сухую руку, помог подняться. — Как в пятом классе...
Что происходит с людьми, когда они взрослеют? Игорь Николаевич довольно часто задумывался об этом последнее время. Может быть, и нет тут прямой связи, не со взрослением это приходит, а вообще произошло со всеми с ними, живущими на этой тесной непрочной Земле в такое зыбкое, сумасшедшее время? Он ведь просто наблюдал за своими детьми, за Николенькой и Верой, сравнивал их с собой маленьким... Ведь как ярко, как свежо все помнилось теперь — отец, мать, сестра, их длинная, перегороженная не до потолка легкой стенкой комната, дверь с медной тяжелой ручкой, высокие окна, высокие мраморные холодные подоконники, желтые разводы по потолку в углах, где лепнина, плюшевый коврик над кроватью родителей, а на коврике — отец привез из Германии — старая мельница на запруженной реке, деревянное мельничное колесо с замшелыми, в тине лопастями, застывшее под ударом остановившейся в падении воды, а по верху — дорога, уходящая в буро-зеленую плюшевую даль, и по дороге идут девочка и мальчик («Как мы с тобой», — говорила сестра.): девочка старше, мальчик совсем маленький, но уже самостоятельный, с палочкой, перекинутой через плечо, а на палочке — узелок, наверное, с мукой, раз идут они от мельницы; у девочки в руках корзинка и на голове такая не то шапочка, не то косынка, аккуратно повязанная на немецкий, должно быть, манер... Еще помнились ребята, двор-колодец, девочка Таня из четвертого подъезда. Она с родителями переехала потом в Москву, будто перелетела на другую планету, и он ее никогда уже больше не видел. Он так тосковал по ней целую зиму и еще немножечко весной, так безутешно смотрел пустыми вечерами на их окна в третьем этаже, на чужие чьи-то алые шторы, на кровавые тени по этим шторам, тоже чужие, хотя ничего же не было между ними, и они с Таней вряд ли обмолвились за всю жизнь двумя-тремя десятками, ничего ровным счетом не значащих слов... Он помнил ее и тосковал потому, что кто-то из старших мальчиков от нечего делать пошутил, назвав Таню его невестой. Неужели и они, его дети, так тонко и трагически чувствуют теперь? И что же ждет их впереди? Озоновая дыра? Война? Авария? Радиация? Астматический зараженный воздух? Мертвые воды погубленных речек? О детях думать было страшно, потому что люди как-то незаметно уперлись в пустые прилавки. Вернее, в прилавки вообще: будут ли они пустыми или полными — вот что отчаянно всех волновало. Все были как будто в шорах. Мужчина желал женщину, женщина — мужчину (и чтобы замуж, замуж!), все вместе хотели мебель в дом и обои (чтоб моющиеся и финские!), сладкой жаждали жизни — чем слаще, тем желаннее. И никто не думал не только обо всех, обо всем, о земле, о народе, о родине, а даже и о ближнем своем. Вернее, думали, даже говорили, очень много говорили, даже кричали, стараясь перекричать один другого, но все это было жалким политиканством, актерством, и люди эти в земле, в народе, в родине, в ближнем своем видели лишь себя, свой крошечный хищный интерес. И это было противно, это выводило его из себя. Это и тревожило душу. Вот как могли они фотографироваться у трупа этой девочки, выброшенной морем в чуждый ей, гибельный мир, как посмели они — на фоне чужого дельфиньего неутешного горя, как довели себя до такого? Где упустили они друг друга, через какие пальцы оно ушло, просочилось, другое, прежнее, наивное, как тот плюшевый коврик над родительской кроватью, и доброе отношение ко всему? Кто научил всех холодному, дьявольскому расчету — «ты мне, я тебе»? Он был, конечно, и раньше, этот простенький, примитивный расчетик, в простых делах и в сложных, и человек по уговору отзывался на добро человеку (услуга за услугу!), но было же, было и другое — был порыв, бескорыстие, щедрость, и все без умысла, без дальнего прицела, без раскладки. Вот как в детстве — живешь себе живешь и вдруг подарок, яблоко ли, меч, машина на веревочке, велосипед или конфета, пряник... И ни за что, просто так, потому что ты есть на белом свете, потому что маленький. И ничем-то кроме улыбки или стеснительного, неловкого «спасибо» (через силу, под матушкину диктовку, мол, что надо сказать?), ничем не платил ты за эти маленькие для кого-то, а для тебя огромные, бескорыстные, полные волшебства и тайны радости, вернее, конечно, платил, то есть плата откладывалась на потом, на далекое-далекое, невидимое с высоты твоего детского роста потом. Просто где-то в тебе, в клетках твоего маленького тела, в генах, а может быть, в благодарной душе уже до конца дней твоих поселялось и жило это желание отплаты, желание тоже сделать кому-то хорошо и радостно, но не за что-то определенное, унизительное в своей конкретности — вот ты мне то-то сделал, а я тебе это — нет, а только по зову души, по тому, еще детскому зову, по стойкой и ясной (с годами ясней и ясней) младенческой, мальчишеской, юношеской памяти на добро.
Коровин лежал на животе, неловко повернув голову в сторону окна, слушал тихое и ровное, как у младенца, дыхание дяди Иллариона во сне, а сам никак не мог заснуть. Болели плечи, ныла вся спина, и в воздухе, забивая все южные запахи из приоткрытой двери в лоджию, стоял острый и терпкий дух тройного одеколона, которым дядя Илларион щедро смазал его спину.
«Слезет твой шкура, тут кислый молоко нужен, — приговаривал он, легко, щадяще касаясь напряженной, блаженствующей кожи на спине Игоря Николаевича. — Зачем раньше не сказал? В столовой взял бы... Твой женщин тебя бросит. Скажет, зачем мне этот облезлая курица? Какой ты быстрый будешь, однако. На солнце сгорел, красивый женщин познакомился... Только сюда не води — не люблю!»
Коровин так и не понял старого своего абхазца: не то он осуждал его и Клару, не то наоборот... Что-то не верилось ему и в то, что Клара тут с каждым встречным-поперечным. И не потому, что об этом доложил ему Валера, словам которого, похоже, грош цена, не потому даже, что имел же и он, Игорь Николаевич Коровин, какой-никакой, но опыт по этой части, — знавал ведь когда-то и он других женщин, кроме жены, — а потому как раз, что именно этот опыт и опыт вообще его жизни подсказывали ему, что тут не так все просто, и не такой, кажется, Клара человек...
А ведь странный разговор был у него после ужина с одним из местных. И вот он, этот разговор, сейчас вдруг всплыл в тревожимой болью памяти. Дурацкий, можно сказать, разговор, какой-то мальчишеский, петушиный, несерьезный, если учесть, что и Валера подходил к нему со своими уточнениями. Ничего, вроде, особенного, а тоже запало — две Валерины версии того, что тут было у Клары до их приезда.
«Бабы сказали, либо она сама о себе слушок, дура, пустила, — шепотом, шепотом, обжигая ухо, дрендел ему Валера, заведя в какой-то уголок. — Чтоб чистенькой остаться, непотоптанной, мужу верной... Ну, бывает, бывает с людьми! Либо кому из здешних приглянулась, да не далась. А они уж в отместку... Может, рискнешь? Как у тебя с ней, а?»
Коровин, конечно, промолчал.
«Хотя ты тоже прав... — как-то уж по-своему поняв его молчание, рассудил Валера заботливо. — Торопиться не стоит. Ей сколько еще тут? Неделю, две спящей царевной прикидываться? За неделю разведаем все в точности! Ты правильно, что не спешишь. Опасно! Все мы теперь, как по минному полю гуляем... Или у вас уже было?!»
Другой разговор был вот какой.
После ужина Игорь Николаевич искал Клару и случайно забрел в бильярдную. Два тучных, по пояс голых мужика в сползающих на бедра джинсах, истекая потом в пропахшей суконной пылью и мелом духоте, резались, похоже, не на жизнь, а на смерть — каждый по нескольку раз, будто дозором, обходя с тяжелым кием на плече огромное темно-зеленое бильярдное поле, подолгу прицениваясь к шару, щурясь и цокая языком, нервно чиркая мелом по кончику кия. Пальцы их были белы от мела, и белые полосы, видимо в азарте борьбы они, не замечая того, наносили себе на лица, плечи и крутые, упитанные бока. Игорь Николаевич постоял, посмотрел на увлеченных безумцев, но так и не дождался ни одного верного удара, двинул к выходу.
«Поди суда дарагой, — позвал его кто-то из полумрака потаенной комнатки слева от входной двери. — Садись, пожалуйста. Будет разговор...»
Игорь Николаевич разглядел крепкого парня, сидящего сгорбившись вполоборота к нему на крошечном стульчике, не то ящике, не то вообще так просто, на корточках. На нем были до белизны вываренные джинсы (вполне благородно сваренные — слышал Коровин от одного из ленинградских кооператоров) и черная пиратская футболка с белым японским иероглифом на спине, тесно облегающая его мощный торс.
«Саходи, — вкрадчиво сказал парень, — не бойся...!
«Мы с вами, кажется, не знакомы... Какой может быть разговор?» — спросил Игорь Николаевич, оставаясь в дверях.
«Это ничего. Садись! — велел парень, поднимаясь, и показал на такой же, как был и под ним, пластиковый ящик. — Боишься?» — настойчиво повторил он.
Коровин шагнул ему навстречу и очутился в небольшой комнатухе, скудно освещенной настольной лампой с гибкой, неестественно вывернутой шеей и почти вплотную прислоненной к стене.
«Они ее будто пытали, — подумал Игорь Николаевич о лампе, оглядывая статную фигуру странного собеседника. — Какие они тут все качаные, как любера. И света яркого почему-то не любят...»
Видимо, в комнате этой была кладовка и хранился здесь всякий инвентарь для различных игр. По проступающим из полумрака полкам расставлены были пустые бутылки с заграничными этикетками — «Виски», «Бренди», «Наполеон», «Шартрес», на крашенных коричневой глухой краской шершавых стенах наклеены были пустые пачки из-под сигарет — забава нищих студентов, оторванных от папы с мамой и угодивших прямо в вертеп общежития, или, значит, таких вот верзил, играющих в суперменов.
«Спасибо, я постою», — сказал Игорь Николаевич, не выдержав затянувшейся паузы.
Парень надвинулся. Пахнуло терпким потом и табачным кислым духом.
«Садись, говорю» — властно велел он и, положив тяжелые ладони Игорю Николаевичу на плечи, усадил-таки на этот ящик силой.
Коровин вскрикнул от дикой боли в плечах и отвел его руки.
«Зачем кричишь, дарагой? Кто услышит?» — спросил парень и, не оборачиваясь, лишь привычно протянув свою загребущую ручищу, захлопнул дверь в бильярдную.
«На солнце обгорел, — досадуя, что приходится как бы жаловаться этому верзиле, объяснил Игорь Николаевич. — Плечи... — Ему так надоело «выкать» на его «ты», что он нарочно добавил. — А ты меня рукой по больному...»
«Понимаю, дарагой. Прости!» — сказал парень, опускаясь на свой ящик.
«Наверное, о Кларе...» — подумал Игорь Николаевич, невольно трогая пульсирующие болью плечи и озираясь по сторонам в неосознанных поисках чего потяжелее — на всякий случай, если разговор не туда повернет.
И почему вот он сразу о Кларе подумал? Впрочем, чем же еще он мог заинтересовать этого вышибалу с руками гориллы? Не своей же неприметной персоной...
«Меня Айрик зовут», — сказал парень и очень больно сдавил ладонь Коровина своей потной горячей ладонью.
Глаза попривыкли, и Игорь Николаевич заметил в углу ломаные кии, увесистые дубиночки хорошего плотного дерева, отполированного руками. Оттуда же, из угла, грустно улыбалась с цветной фотографии грудастая голая девка с длинными желтыми волосами.
«Джентльменский набор...» — подумал Коровин, соображая между тем, что такой дубинкой, если что, этакого лося сохатого, пожалуй, не завалить, да и тесно, не размахаться будет.
«Ты Ромео знаешь?» — спросил Айрик мирно.
«И Джульету, что ли?» — усмехнувшись, уточнил Игорь Николаевич, хотя, конечно, вспомнил, что о каком-то Ромео говорили между собой мальчишки, когда раздавили теннисный шарик.
«Слушай, я серьезно спрашиваю! — кажется, не понял юмора парень. — Это мой друг — Ромео. Его мама с папой так назвал! Не знаешь еще?»
Коровин все же углядел в полуметре от себя маленькую черную гантельку с облупившейся местами краской и сразу упокоился. Нет, не оттого, что теперь было чем отбиться от Айрика в случае чего, а просто сообразил, как же это он его гантелькой-то? до чего же надо довести человека, чтобы он схватил железяку и опустил на чью-то голову? Да нет, он не ударит, конечно...
«Ладно, — сказал Айрик, не дождавшись ответа. — Ромео просил передать, чтобы ты больше с ней не ходил. Да? С этой, с Кларой. Ты с ней не надо! Понял? Порченый она. Сильно болеет. Да! Ромео тебе добра хочет...»
«Кто испортил? Чем болеет? Почем какой-то Ромео за меня решает, с кем мне ходить, с кем нет?» — начал терять терпение Игорь Николаевич.
В конце концов худо ли, бедно, а за себя он постоит, если что. И вообще это ни в какие ворота!.. Этот Айрик, некий Ромео и даже не из рода Монтекки... Что лезут они в его личную жизнь?
Айрик строго погрозил ему пальцем и сказал, вставая:
«Не шуми! Да? Я тебе говорил. Ты меня слушал... Иди теперь. — Он распахнул дверь в бильярдную. — Не надо тебе с ней. Все! Зачем много знать? Зачем спрашиваешь? Что хочешь? Зачем Ромео обидел? Почему сказал, что он какой-то там? — кажется, заводил, взвинчивал себя Айрик. — Я тебя предупредил? Предупредил! Иди, слушай, сам думай...»
Коровин шагнул к выходу и в этот момент Айрик нарочно, — ну, ведь нарочно же, как иначе?! — хлопнул его ладонью по плечу. Игорь Николаевич стерпел, через силу улыбнулся этому бугаю и пообещал:
«Ладно. Буду думать сам... — и добавил, тронув пылающее болью плечо. — А вот это ты зря!»
Но его отвлек один из игравших на бильярде мужиков, который шарахнул по шару, да видно, промазал и, упав на колени, воздел кий к потолку, завыл в голос.
«Бивает!.. — хитровато усмехнувшись, самодовольно изрек его счастливый соперник и положил свой кий поперек стола. — Двести пятьдесят с тебя. Или еще партия?..»
Вот и весь разговор...
В незашторенное окно глядели крупные глазастые звезды. Море попритихло, но были слышны его яростные вздохи и постанывания. Коровин попытался перевернуться на бок и невольно застонал сам от боли. Что же, так теперь и не сомкнуть ему глаз до утра? И лежать только на животе? Притих чуткий во сне дядя Илларион, но вскоре снова засопел ровно и глубоко, как море. Игорь Николаевич закрыл усталые глаза, и веки благодарно тепло расслабились. Теперь бы еще уснуть... Он подумал об этом Айрике, о Ромео, о бармене и вообще обо всех о них, рыцарях курортов, пиратах домов отдыха, флибустьерах теплого моря и буйной зелени, доблестно, сладко и целеустремленно живущих под этим звездным небом, подумал о том, ради чего они живут. А может быть, это он живет не так и не для того? Ну, проектирует свои заводы, ну, потом кто-то строит их, его заводы, ну, кто-то работает на них после и производит продукцию... Зачем, для чего все это? Чтобы вот так, по случаю, как счастье по лотерее, урвать эту путевку сюда со скидкой (да не в сезон!), приехать на две недели, послушать море, подышать им, загореть или сгореть на солнце? Чтобы отдохнуть и уехать? И снова — заводы, проекты, согласования... А они, а эти-то, у них не две недели, у них вся жизнь праздник!
Какой-то странный сон (или бред?) промелькнул в распаленном усталом его сознании. Нет, он не заснул, он продолжал думать, и мысли текли своим чередом, а сон — ленинградский мокрый двор, драная мокрая кошка серой масти лениво идет от помойки, вода, пенясь и завиваясь от крутизны водостока, бьется и растекается по черному асфальту... — сон промелькнул и погас.
«Две недели и вся жизнь...» — успел подумать он отчетливо и увидел новый сон, короткий и тоже странный, и тут же забыл его, и себя забыл, и дальше лежал уже без снов.
Клара тоже не спала. Храпела Матвеевна, как три дюжих мужика сразу. Далекая музыка, кажется, из соседнего Дома отдыха, волнами то накатывалась вместе с нескончаемым шумом моря, то затихала. Тревожно мерцал маяк сквозь неприкрытые до конца шторы, — вспышка длинная, пауза, вспышка короткая, — и в ясном черном небе низко висели звезды. Она неподвижно лежала на спине, смотрела в темное пространство окна между шторами и думала, что хорошо бы все уладить миром, чтобы ни Павлик не узнал, ни у нее бы там ничего не было (а то уж больно разводиться не хотелось!), думала о Коровине... И что она все о них да о них? Небось и с этим просто Коровиным его жена мается, как с дитем, вот как она со своим Павликом. И опять о них... Что хоть случилось с мужиком, с мужиком вообще, а не только с ее, — то он нервный вдруг, то сильнячает, на себя не надеясь, то пьет окаянный и потом ничего не может, то плачет, как баба... От него ведь, от нынешнего мужика, и родить-то ребеночка трудно. Ладно вот они с Павликом, у них Димка получился, но на то он, Павлик-то, и не пьет почти, не гуляет от нее. А вон Люська Порохова, ее сменщица, — уж скоро тридцать, во всех больницах полежала, отметилась, в Москву даже ездила с отчаяния, а на ребенка и намека нету. Резусы у них там какие-то, что-то с кровью... А оно, должно, все куда проще — это Петька ее виноват. Он. Пес тощий, каженной шелудивой бабенке норовит ручищу под юбку запустить, поприжать где, а сам с одной бы, со своей справился... Как там теперь Люська без нее? Все вздыхает небось.
Она представила, как выйдет из липецкого автобуса за мостом, спустится через ложок и поднимется к своему порядку, туда, в сторону старого кирпичного заводика, деревянные серые сушилки которого со ржавыми громоотводами над дырявыми крышами видны из окон их дома. Наверное, это будет ближе к полудню, потому что ее самолет из Адлера улетает рано-рано. Она пройдет мимо Михеенковского палисадника, мимо водонапорной колонки с вечной зеленой лужей на пол-улицы, мимо соседской скамеечки с неизменной — и зимой и летом — тетей Дусей на ней. Хотя, когда уезжала, тетя Дуся хворала и смотрела на них с Павликом из низенького оконца своего вросшего в землю дома, совсем как старая седая сова из дупла. Не померла ли, не дай бог?..
В дверь постучали. Клара вздрогнула и чутко села на кровати. Постучали еще, но, как и в первый раз, негромко, только, значит, для нее, стараясь не разбудить Матвеевну... Опять, что ли, Ромео? Она поймала в себе стыдное желание, вернее, нет, не совсем даже и желание, а так — подумалось вдруг: что, если это?.. Нет, не может быть! Босиком она стремительно порхнула по холодному паркету к двери и остановилась возле, едва сдерживая дыхание, но уже со странной уверенностью понимая, чувствуя, что это не Коровин.
— Клара?.. — спросили голосом Ромео из-за двери, тоже, наверное, почувствовав ее приближение («Как хищник добычу», — подумала она.). — Открой, я все прощу!
Он говорил хрипловатым завораживающим томным шепотом, слегка растягивая слова, и терся, должно быть, плечом о дверь.
— Я тебя приглашаю, — прохрипел Ромео чуть погодя. — Георгия бармена знаешь? Только для своих, закрытый просмотр... Хочешь? — Он помолчал, тяжело дыша и добавил: — Видео филм про лубов. Я дэсят рублей за тебя уже дал! Пойдем, Клара...
Знала она эти их фильмы про любовь, бабы рассказывали. Ну, весь срам наружу, все, как на самом деле... Разве это любовь? Она на такую любовь в детстве в коровнике насмотрелась. Нет, лучше не отвечать — скорее уйдет.
Ромео что-то сказал в сторону, наверное, своему Айрику, на непонятном языке и опять страшно хрипло зашептал:
— Рыжему твоему скажи: увижу с тобой — ноги вирву! Я ревнивый!
Она тихонько, на цыпочках отошла от двери и было легла, но Ромео еще что-то хрипел под дверью, и Клара, чтобы не слыхать его, не слыхать надоевшего храпа Матвеевны, сунула ноги в тапочки, накинула одеяло поверх ночной рубашки и, закутавшись, вышла в лоджию. Этому-то, Коровину, за что? Жалко будет, если они его... Господи, скорее бы всему конец. Будь что будет! Отъездилась она на эти юга... Сгинет, от пота сопреет у матери на огороде, а сюда — ни-ни, ни с Павликом, ни одна, ни с Димкой! А вот взять сейчас и прыгнуть вниз всем назло... И все бы! Только себя жалко... Хоть так, а жить еще хотелось.
Из-за гор взошла белая луна, малость не дозревшая до ровного круга. От шумящего моря несло прохладой и свежестью невидимого, таинственного распахнутого в ночь простора. Клара зачем-то вспомнила мертвого коровинского дельфина и подумала, где же они ночуют, бедные, в этих темных и стылых волнах? Вот ведь тоже у них жизнь — поди разбери...
За завтраком, точнее, уж под самый конец, после того, как откушали, удалились по-утиному вперевалочку Евдокия Матвеевна, а за ней и Валера в своем оптимистическом красном спортивном костюме, Игорь Николаевич сказал Кларе, что обедают они сегодня с вином и не здесь, а в ресторане, где местная кухня, где мясо готовят в твоем присутствии на особой жаровне, где рыбу (форель!) выуживают из озера прямо у тебя на глазах и, очистив, бросают на сковородку, где вообще все колоритно, броско и незабываемо. На этот ресторанчик навел его вчера вечером дядя Илларион, вернее, не навел, конечно, а надоумил сводить туда Клару. «Веди, веди! — увещевал он перед сном, когда Коровин, намазанный одеколоном, блаженствовал, лежа на брюхе. — Женщин надо внимание! Угостить хорошо, показать, какой ты мужчина — богатый, щедрый, веселый...» Дальше, уже засыпая, то проваливаясь, то выныривая из своего стариковского тонкого сна, дядя Илларион долго и путано объяснял, как найти этот ресторанчик, говорил про озеро у въезда в город (кажется, Коровин его помнил, видел из окна автобуса), про какой-то, наверное, Литфонд (старик произносил, конечно, иначе), про то, что все это возле самой дороги... «Шоссе... Автобусный остановка... Найдешь...» — выдал дядя Илларион под занавес и заснул. В общем, найдут, разумеется. Язык до Киева доведет. А вечером, до ужина, — и Коровин почувствовал, что этим особенно удивил Клару, — им надо быть на концерте органной музыки в местном соборе. Билеты он купил утром, перед завтраком у массовички-затейницы в холле первого этажа. «Новый Афон!.. Сухуми!.. Озеро Рица!..» — зычно кричала ему вслед, рекламировала массовичка, но больше ни на что Коровин не соблазнился.
За ночь он утвердился в том, что именно так ему надо ответить и Айрику, и его закадычному другу Ромео. А они чего ждут от него? Неужели, думают, он отступится, оставит для них Клару, струсит? Тут была для Игоря Николаевича самая, может быть, болевая, поворотная точка мира сего (жаль, что они-то этого не понимают!), тут проходил главный, самый чувствительный нерв его давнего спора с этим миром, с примитивным, хапальным, плотским, всегда эгоистически-наступательным способом жизни.
« Нет уж, ребята, — смело думалось ему среди ночи, когда угнетенное сознание плавало в трагически-туманном, бессонном мареве. — Черта с два! Вы тут не на того нарвались. Тут надо намертво стоять, как всегда. Потому что у меня принципы... И у вас они есть. Но ваши --сегодня одни, завтра другие, а у меня не так. Потому что дети у меня, и я их не для вечного праздника ращу, не для вашего вещного, нахрапистого мирка... Я хочу, чтобы женщина была для них женщиной, а не потенциальной шлюхой, Россия — Россией, а не кладовой природных ресурсов, не полигоном для новых мировых экспериментов, не жалкой служанкой когда-то отсталых окраин... Пусть долг будет долгом, а честь — честью... А вы как думали? Тут уж — либо-либо... Либо ваша возьмет и меня не станет за ненадобностью, зачем такие идиоты, вроде меня, либо мы еще поживем, как положено жить, по-людски...»
Как-то этой бесконечно, трудной, бредовой ночью, как-то длинно думалось ему, и, мучительно проснувшись, Игорь Николаевич был уже ко всему готов, и приняты были все решения. Да оно и не особенно требовалось ему — готовиться и решаться. Он больше обобщал ночью-то, подгонял, подтягивал частные, отдельные, разбросанные свои мысли к какой-то чистой и ясной закономерности, к системе, и вот под утро у него все, кажется, улеглось, спрессовалось, взвелось, как пружина, и готово было реализовать себя в деле.
А потом был этот хваленый ресторанчик на берегу тихого озера, вытянутого вдоль шоссе, была рыба, кисловатое белое вино «Вазисубани» в зеленых бутылках с жирно проштампованными этикетками, были шумные, поющие компании за соседними столиками и даже что-то вроде «от нашего стола — вашему столу»... И Клара вела себя правильно — непринужденно и была весела то ли от легкого вина, то ли от озерного гладкого простора, открывающегося с застекленной веранды, где они сидели, то ли оттого, что и впрямь Коровину удалось снять с нее оцепенение, напомнить, что она женщина, а не принадлежность чьего-то там ложа наряду с простыней или пододеяльником... Она благодарно смеялась на его незатейливые шутки, невзначай трогала в порыве веселья его руку своими чувствительными прохладными пальцами. Но пора было идти слушать орган, и Игорь Николаевич подозвал официанта, коротконогого шустрого крепыша с черными-черными глазами и большим — бабочкой — галстуком сиреневого, со стальной блесткой цвета.
— Восемьдесят девять сорок, — радостно сообщил им официант и застыл выжидательно, и улыбка его застыла на лице, превратившись в неживую, нелепую, будто наизнанку надетую гримасу.
«Почти мой аванс, черт побери!..» — весело и отчаянно (это от вина) подумал Коровин и невольно спросил:
— Он что у вас, ресторан-то кооперативный?
— Нет! — строго отрезал официант, прогнав улыбку с лица, и оно вдруг стало суровым и неподкупным, как у стража порядка.
Деньги, конечно, такие были, и Игорь Николаевич невозмутимо, вернее, стараясь, чтобы со стороны все выглядело именно так, полез в карман за ними, достал и принялся отсчитывать, медленно и хозяйственно. Было понятно, что весь их с Кларой обед не стоил и половины того, что спрашивал с него этот бдительный нахал в не очень опрятном черном костюме, окантованном по бортам пиджака сиреневой полоской, в белой мятой рубашке с эти нелепым не то бантом, не то галстуком и с салфеткой, небрежно переброшенной через руку, но таковы были правила игры, которую ему постоянно тут навязывали, и он должен был либо принимать их, либо утверждать правила свои.
«Как же! — подумалось ему между прочим. — Так я их пятиминутной моралью и переделаю сейчас!..»
Он уж было протянул деньги официанту, но Клара, до этого спокойно наблюдавшая за всем происходящим, вдруг перехватила его руку.
— Постой-ка, погоди! — сказала она тихо и, ласково взглянув на официанта, попросила: — Принес бы ты нам меню, дорогой, калькуляцию. И счет, конечно! У вас же тут не какая-нибудь чайная у дороги. — Она взглянула на Коровина: — Дерут, да? — И снова обратилась к застывшему, напряженно глядящему на деньги официанту: — Дерете, как ресторан наивысшей категории.
— Бог с ними, Клара, — сказал Игорь Николаевич неуверенно, и вправду не ожидая от нее такого.
— С кем бог? — преувеличенно изумилась она и коротко хохотнула в кулачок. — С ними? Да они бога забыли давно! У них вон, гляньте-ка, у них по железному рублю с профилем в каждом глазу сидит, им из-за рубля-то ни нас с вами, ни бога не видать!..
Коровин пожал плечами, не зная, что тут сказать и как быть дальше.
— Неси, неси! — велела Клара официанту.
Тот часто задышал, побагровел, перекинул салфетку с одной руки на другую и выдавил из себя:
— Да, у нас ресторан высшей категории! Не нравится, зачем ходил? — На Клару он, разумеется, даже не взглянул, а изливал все ему, Коровину. — Денег нет, надо дома сидеть...
«Ну, предположим, кое-какие деньги у меня есть...» — мысленно возразил ему Игорь Николаевич, озираясь.
На них скорбно, как на покойников, смотрели из-за других столиков. Веселье смолкло давно, и затихли песни. Из какой-то каморки выглянули еще два орла в галстуках-бабочках, но пока в разговор, видимо, решили не встревать.
— Это чтоб за две бутылки кислятины ихней, да аж девяносто рублей лупить? — спросила Клара у Коровина.
— Ви рибу ел? — тоже у Коровина спросил официант. — Ми его в озеро поймал?
— За жалкие три рыбьих хвостика?! — не унималась Клара.
— Может, это у них с выносом считается? — предположил Коровин, еще не зная, не найдя, как поступить. — С выносом дороже! Это я, знаете, в Средней Азии в командировке был, так видел...
— Автондил! — позвали их официанта те двое из коморки, и он послушно ушел.
«А и пусть!..» — отчаянно подумал Коровин, мол, чем быть, того не миновать.
Кто же знал, что Клару так разберет?
— Уступать еще! — совсем разволновалась Клара. — Они у вас лишние, деньги-то? Ну, вот... Пускай несет калькуляцию, ага! Тут тоже кое-что понимают в этом...
Вскоре появился их официант, решительно подошел и положил на стол перед Игорем Николаевичем какую-то мятую голубоватую бумажку. И что-то на этой бумажке было написано, не разобрать, что, быть может, даже не по-русски...
— Пятьдесят сем рублей давай, — сквозь зубы выцедил официант.
Был он уже без щегольской салфетки через руку, и пиджак расстегнул.
— А где меню? Накладные? Калькуляция? — спросила Клара ласково-ласково.
— Слушай, — взревел, взмолился официант. — Скажи ей, да!..
Коровин молча отдал ему деньги, взял слегка покачивающуюся Клару под локоть и повел к выходу. Что-то сказал им вслед, кажется, официант на своем языке, судя по тону...
«Плевать!» — мысленно отсек его от себя Коровин.
— Зря вы, ей-богу, зря!.. — лепетала Клара в остывающем азарте, но шла покорно. — Калькуляция... — повторила она магическое, видимо, для нее слово. — Зря! Накладные... Меню...
— Эти русские!.. — вырвалось у кого-то за спиной Игоря Николаевича, когда они уже миновали веранду, и он резко обернулся, но никто не встретил его бешеный взгляд своим встречным взглядом.
На улице было жарко, солнце припекало совсем по-летнему. Ох, уж это солнце!.. Зеленели легкой молодой зеленью незнакомые деревья и кусты. Откуда-то ветром принесло удушливый аромат мимозы, и он подержался в прогретом воздухе несколько секунд и исчез, как не было. Коровин снял только что надетый плащ и осмотрелся в поисках автобусной остановки. По шоссе туда-сюда шмыгали автомобили. Вдруг один — белые «Жигули» — тормознул, подал немного назад и, постояв, всего, может быть, три секунды, рванул с места. Игорю Николаевичу за дымчатыми стеклами автомобиля почудилась свирепая физиономия Айрика. А может, это был не он.
Черная «Волга» лихо влетела на ресторанную стоянку, затормозила уверенно, с ходу у самой стены. Из нее вышли два черноволосых молодца в почти одинаковых, как у братьев-близнецов, джинсах-варенках и куртках. Один степенно, с достоинством вошел в ресторан, другой помог выйти из машины белокурой спутнице.
«Неужели Лариса?» — чуть не вырвалось у Коровина, и он остановился.
Да, это была она, их с Валерой самолетная попутчица, в черном с серебром каком-то сногсшибательном платье, в туфлях на высоком каблуке. Она его тоже, кажется, узнала.
— Привет! — сказал ей Коровин. — Отдыхаете?
— А вы? — спросила она и окинула Клару с ног до головы оценивающим взглядом. — Так смеялись, так смеялись, чуть с кровати не упали? — напомнила она ему им же рассказанный там, в аэропорте, анекдот про французов.
«А-а-а!.. — с трудом догадался Коровин, о чем это она. — Запомнила, значит...»
Рядом с Ларисой, пока они переговаривались и переглядывались, скучал ее мальчик, смотрел поверх всего, вроде, даже не на озеро, а выше, на далекие горы за ним. Выскочил из ресторана его близнец, что-то гаркнул приятелю по-своему и теперь оба они так пристально и враждебно взглянули на Коровина, что он невольно смутился и опустил глаза.
— Пока! — сказала Лариса.
Он даже забыл кивнуть в ответ.
«Самцы», — почему-то подумалось вдруг Коровину, хотя при чем здесь это, и вообще, если судить по не то вчера, не то уже сегодня рассказанному Валерой анекдоту, все было наоборот.
— Это кто? — спросила Клара робко, проводив Ларису со спутниками погасшим взглядом.
— Так... — неопределенно махнул рукой Коровин и, отвернувшись, повлек ее за собой к остановке автобуса. — Вместе сюда на самолете летели... Валера ее тоже знает, — зачем-то добавил он.
— Из Ленинграда... — кажется, примирительно, во всяком случае как-то с придыханием, загадочно прошептала Клара, семеня за ним по шоссе.
А анекдотец-то Валера рассказал не смешной, препохабный, до омерзения жлобский и пошлый. Да Коровин и слыхал его уже от кого-то, а сейчас, вспомнил вдруг, как Валера его рассказывал и какая довольная морда была у него при этом. Суть была в том, что заговорили там два мужика, как всегда о бабах, и один другому: «Я тебе как мужчина мужчине...» — «Ты не мужчина! — возразил ему другой. — Ты — самец!..». А главное было, пожалуй, в том, как Валера произнес конец анекдота, стало быть, мораль сей нехитрой басни — сладенько, благоговейно, с полным пониманием и сочувствием (или почти соучастием), мол, мужчина здесь — это человек, у которого все есть: деньги, машина, дом, друзья, который женщину оденет, накормит, напоит, до койки довезет, а самец — это как раз тот, кто гол как сокол, но с принципами, короче, вроде бедного Адама, выгнанного из-за любопытства Евы из Рая, который ничего, кроме себя самого, женщине предложить не может.
Автобуса долго не было. Клара молчала. Игорь Николаевич безуспешно проголосовал нескольким машинам.
— Вот если бы вы отошли за кустик, а я одна им рукой махнула.. — посерьезнев, сказала Клара. — Но мы так делать не будем. Пойдемте. Время есть, да тут и недалеко, кажется...
«Совокупляйтесь, господа мужчины и госпожи женщины, радуйтесь жизни, купайтесь в удовольствиях. Вас не выгнали из рая, вас оставили... Да нет, вас тоже турнули оттуда поганой метлой. И тогда вы решили поиграть в рай на земле...» — думал Коровин, идя рядом с Кларой по обочине шоссе, и Клара, кажется, поняла бы его, скажи он все это вслух. Но он молчал, глядя на проносившиеся мимо разноцветные автомобили.
С концерта органной музыки они возвращались тоже пешком. Там, в старой церкви десятого века, переделанной в концертный зал, под Баха в исполнении заезжего артиста со смешной фамилией Сермягин, Клара продрогла, долго и после не могла согреться, и почувствовала противную слабость в теле. Ее то знобило, то подташнивало, и весь концерт почему-то было ужасно жалко себя и хотелось плакать. Фрески внутри собора почти не уцелели, стены закрашены были бежевой масляной краской, лишь купол, восстановленный после разрушения позднее, был расписан. Создатель смотрел с высоты бесстрастно, и лик его окружен был по ободку барабана шестикрылыми серафимами. Это нашептал ей на ухо в перерывах между номерами сильно разбирающийся в божественных делах Коровин. Еще он сказал, что чуть пониже изображены апостолы и что орган поставлен не так, поэтому и звук его идет не прямо, а как-то отраженно.
Клара слушала его вполуха, а когда он смолкал и органные басы всем весом обрушивались на них, ей делалось не по себе, ей казалось, что этот бесстрастный бог сердится на нее, грешную, она даже дрожала. Клара вспомнила свою старую боринскую церковь, разрушенную когда-то. Кажется, еще отец ее был маленьким и до самой смерти гордился, что помогла взрослым мужикам стягивать за веревку кресты с купола и сбрасывать колокола с колокольни. Впрочем, теперь, когда церковь дотлевала в развалинах под сорным кустарником и кривыми березками на красных, истертых в пыль кирпичных стенах, когда вон оно как с религией-то поворачивалось, отец вряд ли об этом вспомнил бы, конечно, ну, да всему, видно, свое время... Мать после смерти отца в церковь зачастила, да больно далеко приходилось ездить — либо в Липецк, либо в Петровское, в сторону Воронежа. Мать даже Димку недавно свезла, окрестила, чтоб нехристем не жил, а то вон один (она имела в виду отца) всю жизнь без бога прожил, а чего хорошего, даже дочь назвал — тьфу! стыдно кому сказать-то!... — в честь... в общем, не по-русски. Мать часто вот так ворчала теперь на отца, а пока жив был, в рот ему глядела — боялась, что ли? Да, вроде, он ее и не бил никогда...
Нет, не по ней был этот ихний орган — давил, сковывал, и думалось о доме, о матери, о муже с сыном, перед которыми она теперь виновата. Что скажет она им? Как будет у них дальше? А Димка? Нет, Павлик, если узнает... И как же ему не узнать? Нет, нет, все пойдет прахом. Это уж точно! Павлик, он, конечно, он все в дом, не пьет, не курит, не гуляет, но тут ее не поймет. Как же не поймет-то? Выходит, она должна была умереть? Он этого бы хотел?.. Клара посмотрела на Коровина, молча идущего рядом. Все они, наверное, одинаковы. Интересно, как бы этот просто Коровин поступил на месте ее Павлика?
— Вы бы отпустили сюда жену? — спросила она осторожно.
— Теперь нет, — сказал Коровин строго.
Клара сразу почему-то занервничала. Почему теперь? Это он на нее, что ли, намекает? Уже наболтали? А долго ли...
— А если бы... — неуверенно предположила она. — Ну, ведь по-разному бывает... Если она уже тут очутилась. — Она хотела сказать: «как я», но не сказала, слава богу. — Ведь бывает же, бывает!..
— Ну, — бесчувственно сказал Коровин.
Но Клара уже, кажется, завелась. Конечно, она об этом только и думала все эти дни. Нет, пусть уж он ей ответит, пусть!
— И вот приезжает она, ваша супруга, сюда без вас, — проговорила она в запальчивости. — А туточки море, солнце, у ней голова кругом... И вот они, субчики, здешние мужики-красавцы — большие, сильные и все пристают... У вас красивая жена?
Коровин неопределенно пожал плечами.
— Что значит? — возмутилась Клара. — Надо говорить, что красивая! Некрасивых баб мало, просто вы, мужики, смотреть разучились. И вообще — если жена, то красивая. Запомните! У вас нет карточки с собой?
— Я же не немец, — почему-то сказал Коровин.
Клара взглянула на него быстро и не встретила его глаз. Куда это они идут-то? Ах, да, в реликтовую рощу. Они нарочно договорились сделать небольшой крюк, чтобы посмотреть какие-то там необычные, особенные сосны, которые, как сказал этот все знающий Коровин, росли тут еще до ледникового периода. И при чем тут немцы? Что он имеет в виду?
— И к ней обязательно пристали бы, — сказала она о его жене и чуть было не добавила: «как ко мне». — Раз пристали, два... Вы меня простите, конечно!.. Они тут ко всем... На сорок седьмой раз она, глядишь, и уступила бы. Не обязательно, но могло же такое случиться. А? Вы, например, ведь пристаете ко мне... Ухаживаете! Ресторан, концерт, гуляем вот... А я вдруг да уступлю.
Что она несет-то такое? Клара потрогала ледяными, еще хранящими холод собора ладонями свои пылающие щеки. Или ее несет?
— Я как-то не думал об этом, — неудачно пошутил Коровин. — Вот она, — показал он куда-то, — роща!
— Ну, думали не думали — дело пятое, — гнула Клара свое, может быть, помимо воли. — И вот жена ваша возвращается домой...
Она остановилась, чтобы перевести дух, она захлебывалась, ей не хватало воздуха. Да, они и вправду стояли посреди сосен на асфальтированной дорожке, обнесенной низкими столбиками, между которыми чуть провисала железная цепочка. Тут даже были натыканы фонари.
— Видите, обыкновенные сосенки, только иголки длиннее, — глядя куда-то вверх, сообщил ей Коровин. --Раньше все было лучше, длиннее, больше...
О чем это он? Клара пошла по дорожке и, почуяв его шаги за спиной, продолжила:
— И все, как было, вам рассказывает, ну, как на духу, мол, грешна, казни или милуй. Как бы вы с ней поступили?
— Что она, совсем, что ли, рассказывать мне об этом? — удивил ее Коровин. — Даже если бы что и произошло, не дай, конечно, бог... Женщина должна молчать! Да и мужчина тоже.
— Ну, какой же вы бестолковый, однако! — возмутилась Клара. — Бывает, что не рассказать совсем нельзя. Разное... — Она хотела брякнуть про болезнь, но не стала уж, а то и без того слишком. — Не скрыть, не обмануть. Да и это ведь беда! Бедой делятся...
Клара, кажется, обессилела, пока говорила все это. Запах хвои, длинной, как Димкины ресницы, запах этот, кажется, доканал ее. Коровин, заложив руки за спину, уже шел чуть впереди и молчал, паразит. Ну, чего он молчит-то, этот рыжий Коровин? Кларе хотелось тронуть его за плечо, поторопить с ответом. Хотя какая разница, что он ответит. Это же не Павлик. Это просто Коровин, не родственник того, неизвестного ей художника, однофамилец, на котором она решила прокрутить, опробовать свое возвращение домой.
— Вы, Клара, за болвана меня держите? — вдруг спросил он, обернувшись и отведя рукой в сторону лохматую ветку сосны. — Это, знаете, в боксе — я занимался чуть-чуть — есть груша для тренировок, мешок с опилками... Я, простите, на эту роль не гожусь, потому что... — Он пощелкал пальцами и помолчал, подбирая нужные слова, а у нее дух захватило, как на краю, на большой высоте, у обрыва. — Потому что, кажется, знаю, о чем вы умолчали.
Вот тебе и просто Коровин! Чудак, ничего ему не надо, дружить предлагает, в бывшую церковь на орган вот сводил, в ресторане отметился, рыжий, рыжий, конопатый... Она остановилась, прислонившись спиной к шершавому теплому стволу сосны, примолкла в ожидании. Не так он и прост, этот Коровин...
— Вам ничего не говорит имя Ромео? — спросил он наконец, как будто она обязана была отвечать ему на все, о чем бы ни спросил.
У Клары тяжело и гулко затукало в висках, и ослабли ноги совсем. Господи, и тут они успели, и ему наплели!.. Обложили, ославили... Но она же знала, что так и будет! А все-таки...
— Только я не верю, что вы сами ему уступили, — проговорил Коровин безжалостно. — Ведь нет же, нет! Он вас заставил? Силой?..
— Ну, почему? — холодно возразила она, уже не чувствуя себя никак, лишь удивляясь, но как-то как бы со стороны, что откровенничает с по сути чужим человеком. — Они оставили мне выход. Я могла... — Клара усмехнулась через силу, чувствуя, как продолжает кривиться щека в неестественной этой усмешке. — Я выбирала... Могла, например, прыгнуть с балкона, с восьмого этажа. И уж тогда бы они меня... Тогда бы не далась, верность сохранила... Но не прыгнула почему-то.
— Почему «они»? — резко спросил Коровин. — «Они» почему? Он был не один? Почему хоть «они»? — закричал на нее он и больно сдавил ей руку выше локтя.
Клара видела, как побледнело его лицо, и на нем проступили, высыпали веснушки. Какой он хороший сейчас, этот Коровин, в своей злости!.. И она сначала сказала, а уж потом подумала о возможном последствии своих слов:
— Их потому что было двое. Другой стоял в дверях и смотрел.
— Айрик? — спросил, вскрикнул и погас Коровин и, как стоял, прислонившись к сосне, так и сполз до земли, сдирая коричневую, сухо шуршащую кору.
Что она наделала? Ведь он такой, он же сейчас пойдет и что-нибудь им скажет или сделает, а они его... Он из тех, которые идут до конца! Клара шагнула к нему и присела на корточки рядом.
— Рыжий, рыжий, конопатый... — ласково проговорила она, чувствуя, что вот-вот расплачется, и нечаянно провела пальцем по бледной щеке Коровина.
А ведь он ее понял, все он понял, и простил бы, кабы был ее мужем. Но он не муж...
Он так остро, во всех подробностях и болевых оттенках представил вдруг беду этой женщины, что какое-то время не мог сдвинуться с места. Горела потревоженная спина. Солнце пробивалось от моря сквозь стволы сосен своим прощальным красным светом. Золотая дорожка полыхала на воде, и гулкие волны садили в берег со всего маху. Игорь Николаевич посмотрел на тихо плачущую Клару и подумал о том, что она, верно, и не замечала сейчас всех этих красот, и солнце, и море, и прибой были ей не в радость. Она была одна со своим горем, одна-одна, растоптанная, униженная, оболганная, и на нее надвигался день отъезда, истекали ее две недели праздника и красивой жизни... Ну, вот еще он был теперь с нею. А что для нее мог сделать он? Но что-то же нужно было делать!..
— Солнце красное садится — к ветру, — проговорила Клара, шмыгая носом и промокнула глаза платочком. — Или у них тут по-другому?..
Игорь Николаевич промолчал от удивления. Впрочем, горе горем, а жизнь не стоит на месте.
— Уеду я отсюда, — сказала Клара и поднялась, чтобы идти.
Он тоже встал.
— Вам сколько осталось? — спросил Коровин.
— А завтра и уеду, — сказала она обиженно. — Утром. Сдам билет на самолет и поездом. И тут тоска, мука, и домой страшно. В поезде лучше, не так сразу... Уеду!
Назад они пошли вдоль берега, по шумящей гальке. По песку. Игорь Николаевич не знал, что ей сказать и молча, сжав зубы и играя желваками. Он закурил, но тут же выбросил сигарету. Солнце уже село в неспокойное море. Несчастная женщина шла рядом и прятала от него глаза. Коровин попытался отвлечься ото всего этого и огляделся по сторонам, но чужая беда не отпускала. А впрочем, кругом было пустынно, мир был знаком, жесток и равнодушен, и сейчас он не знал, как сделать его добрее. Хотя почему сейчас? Пора давно было понять, что мир переделывается только к худшему, но и усовершенствовать его в глупой, неистребимой надежде на что-то по-прежнему хотелось.
«Пойти, что ль, в морду Ромео дать? — туго подумалось Коровину. — Тоже, конечно, подвиг... Спасет это мир, как же! И Кларе поможет...»
— Прощайте. Спасибо за все. Я ужинать не пойду, — сказала ему Клара, когда они пришли, сухо вялыми губами торкнулась в его щеку и убежала, скользнула в подвернувшуюся кстати (или совсем некстати?) кабину лифта.
«Пижоны, сволочи, дешевки! — ругался он на всех и вся, проходя мимо бара в столовую. — Что им люди? Песок между пальцев, дерьмо, навоз!..»
Ну, уж нет, он не имеет права пройти мимо этой беды и ничего не сделать. Почему-то вспомнилась белокурая Лариса в черном вечернем платье, ее фирменное «пока», долгий, оценивающий (накладные, калькуляция?) взгляд, которым она окинула Клару...
«Мало им добровольцев! — подумал Коровин, проходя между столами к своему столу. — Силой берут... И со всем этим надо смириться!»
— Приятного аппетита, — пожелал он Евдокии Матвеевне и Валере, садясь за стол.
— А Кларочку куда задевали? — полюбопытствовала старушка.
Коровин промолчал.
— Он у нее украл колары, — пошутил Валера. — В смысле кораллы...
И сам засмеялся своей шутке.
Игорь Николаевич не чувствовал вкуса еды. Ну, предположим, найдет он этого Ромео, поговорит с ним по-своему, по-мужски. Еще там Айрик... С двумя ему точно не справиться. А что еще он может для нее сделать?
Валера, оказывается, что-то говорил, шутил, значит, дальше, развивал мысль. Коровин прислушался.
—... Сегодня после ужина «Их называли костоломы» в баре по видику. Про каратистов. Пойти, что ли? Развлечься? Вот у нас в хоккее, вот костоломы! — Он обращался, конечно, к Евдокии Матвеевне, видя полное безразличие Игоря Николаевича к своим словам. — Вот, как вы думаете, сколько у меня переломов на левой ноге?
— А запеканку-то подожгли, — заметила старушка.
— Целых восемь! Два было открытых! — в упоении сообщил Валера. — А на правой?..
— Ой, да ну вас, — махнула на него рукой Евдокия Матвеевна. — Страсти какие к ночи! Еще примстится... Кричать во сне буду. Кларочку разбужу. Она так спит чутко...
Запеканка была как запеканка. Игорь Николаевич съел и почувствовал. А вот кефир — хорошо, что вспомнил! — надо будет с собой прихватить. Дядя Илларион спину намажет. Обещал. Почему-то Ромео ему представлялся в этом баре, вернее, там, наверху, где крутили они своих костоломов, в темноте, в табачном густом дыму, будто тот вообще не выползал на свет божий, не оторвать его было от видика. Коровин и разговор свой мужской с Ромео, с Айриком мысленно перенес уже туда. Вот он подходит к ним в полумраке, а тут как раз бармен разносит объявленные в афише соки, вино, мороженое... Мороженое лучше! На подносе небось... И он спрашивает: «Ты Ромео?» — «Я», — отвечает ему тот. «Получи!» — кричит он не своим голосом, выхватывает у бармена поднос и опрокидывает мороженое на Ромео. Нет, лучше берет всего одну вазочку с этого подноса и в морду ему, в рожу, в харю! И Айрику, как соучастнику...
«Детство какое-то! — недовольно подумал Игорь Николаевич, вставая и беря стакан с кефиром с собой — Фантазии...»
— Приятного аппетита! — пожелал он Валере и Евдокии Матвеевне машинально.
— Быстро ты сегодня отстрелялся... — с каким-то намеком сказал Валера.
Коровин кивнул и пошел к выходу, почему-то вспомнив, как неудачно он занимался боксом в юности, как хорошенько дали ему один раз на тренировке и сломали нос, аж на бок своротили, и как потом в травматологическом пункте, засунув в обе ноздри два холодных, пахнущих железом и свежей кровью штыря, его носом больно хрустели, придавая прежнюю форму.
«Неужели драться?» — подумал он, выходя из столовой.
— Эй, эй, стакан потом верни! Да? — крикнула ему официантка вдогонку.
Возле бара уже клубился народ. Ну, кому, конечно, не интересно про костоломов, про суперменов, про бесстрашных, непобедимых, с нече6ловеческой реакцией, резкостью и прытью каратистов? Вот и сейчас, — сейчас, сейчас! — он отнесет к себе в номер кефир и спустится к ним разбираться. Он найдет этого Ромео и этого Айрика в черной футболке с иероглифом на спине, он им всем покажет!.. Только вот что? Ну, даже если ему удастся их победить, даже если такое возможно, в принципе если возможно, ну, разве это их изменит? И вообще изменится ли что в мире? Они же привыкли так, как живут, они пасутся при Доме отдыха, кормятся, делают свои деньги, работают в игротеке, играют на бильярде, выдают теннисные шарики (за полтинник!) и ракетки, спят с приезжими бабами... Им так нравится, они так привыкли и по-другому не умеют, а он тут со своей местью, — с местью, с местью, с чем же еще! — он с моралью, с поруганной женской честью (какие реликтовые, как их сосновая роща, неслыханные, глупые понятия!), он для них как с Луны свалился. Тогда что? Как быть ему? И Кларе что делать? Она сказала, что уедет... Ну, ладно, она не хотела, а с нею так обошлись. А сколько тех, кто с радостью, с песнями сюда, по доброй воле, кто, может быть, только за этим на юг и едет? Что с ними? Благородный нашелся! Вступается за чужую жену...
— Слушай, дарагой, зачем так? — услышал он знакомый до боли, до скрежета зубовного голос, и его снова ударили в плечо, так, что он чуть не расплескал свой кефир. — Тебе говорил? Не надо с ней! Говорил?
Айрик уже оттеснял его мощным торсом к бильярдной. Сзади Айрика суетился еще один, загорелый смазливый парень с капризно выпяченными, резко очерченными губами. «На подстраховке, что ли?» Игорь Николаевич взял в другую руку стакан с кефиром и попятился, чтобы увеличить дистанцию между собой и ими.
— Ромео, скажи ему ты! Он хочет, чтобы сказал! Я ему говорил, говорил, говорил, говорил!.. — распалялся Айрик.
— Ромео? — нервно обрадовался Игорь Николаевич и сразу даже успокоился («Наконец-то! Как удачно! Не надо искать».). — Тот самый? Покоритель женских сердец? Ты? — обратился он к тому, смазливому красавчику, который выступал из-за спины Айрика, вышагивал этаким гоголем, хозяином жизни. — Тебя Ромео зовут? Вот славненько-то! Ты мне и нужен.
— Меня так зовут! — гордо подтвердил Ромео.
Да что их, на одну колодку делают, что ли? Ромео, этот роковой мужчина, гроза оставленных на две недели супругов, этот неотразимый Ромео был одет в мятые белые брюки, подпоясанные тонким бело-голубой полосы ремешком, и тоже в футболку, только в зеленую с надписью «Rembo» наискосок на груди.
«Хорош!» — зло восхитился Коровин, не замечая, что продолжает пятиться.
Из-под футболки густо перли черные курчавые волосы, лезли от груди к шее, спускались на руки, и на правой его руке, на среднем пальце сиял жирным золотом перстень-печатка.
— Дай-ка, дай я на тебя посмотрю, — с нервной, вдруг вернувшейся отчаянной веселостью проговорил Игорь Николаевич, отступая еще на несколько шагов. — Роскошный экземпляр! Торс! Плечи! Загар! Волосы из-под майки! Неотразим! А это кто же с тобой? — резко взглянул он на Айрика. — Меркуцио верный до гроба?
Они — Ромео и Айрик — заговорили меж собой на своем языке, почти по-итальянски, и Игорю Николаевичу сделалось вдруг тревожно на душе.
«А что такого? — подбодрил он себя. — Я бы тоже, кабы знал, в минуты волнения мог небось заговорить на другом языке. А они на родном... Ничего особенного»,
—...Дай ему, Ромео, — вяло по-русски закончил свою тираду Айрик.
«Ах, вот они о чем...» — даже разочаровался Коровин.
— Пусть говорит, — царски разрешил Ромео и грязно выругался на счет матери и прочего. — Он знает, что я здесь работаю. Такой смелий из-за этого.
Игоря Николаевича не устраивал сей поворот мысли, в некотором роде даже задел самолюбие.
Снова Айрик что-то сказал Ромео по-своему и несколько раз оглянулся, будто прикидывая что-то.
— Ну, что значит, «дай ему»? — спросил, перебил его Игорь Николаевич, потому что совершенно невозможно было терпеть этого непонимания, незнания, о чем хоть они там. — Ромео благороден. Я сейчас сниму перчатку, брошу ему в лицо, а он поднимет... (Ему страшно захотелось плеснуть в Ромео кефиром из стакана, аж занемели пальцы от непереносимого, глупого желания.) Дуэль! Ромео должен принять вызов. С таким именем уклоняться от дуэли? Ты, конечно, догадываешься, несравненный Ромео из древнего рода Монтекки, за что я вызываю тебя на дуэль?
— Пойдем на море поговорим, — сказал Ромео, кажется, бледнея, и что-то добавил Айрику на своем языке.
Игорь Николаевич сделал, как оказалось, последний шаг назад и уперся чуткой спиной в стенку. Слева была распахнутая дверь в бильярдную (оттуда пахнуло мышиной, меловой пылью и застоявшимся запахом мужского пота), в которую, должно быть, они и гнали его, как шар в лузу.
— Прекрасно! — согласился он тут же. — Меркуцио -0 твой секундант. А мой...
Какой-то дикий, идиотский план созрел уже в его воспаленной голове и, увидев Валеру в красном спортивном костюме, выходящего из столовой, Коровин крикнул:
— Валера! Можно тебя?
Айрик с Ромео стремительно обернулись. Валере пришлось махнуть свободной рукой, чтоб заметил и, хоть неохотно, а все же подошел.
— Вот, Ромео, Валера, — улыбаясь, сказал ему Игорь Николаевич. — Мы будем драться. Решено! На дуэли. Я больше никого тут не знаю из серьезных мужчин, поэтому прошу тебя быть моим секундантом. Знакомься — это Айрик-Меркуцио, секундант Ромео...
— Твой друг? — коротко, кажется, озабоченно спросил Айрик и заглянул в бильярдную.
— Ты чего, Коровин? Ха-х! С местными ссориться? Ну, уж нет, знаешь... Шутишь, что ли? — спросил Валера, поглядел на Ромео, на Айрика, снова на Игоря Николаевича, и тот сразу пожалел, что позвал его, все рассмотрев в бегающих глазах Валеры и поняв нелепость ситуации. — Дуэль какая-то у них... Мы, старик, так не договаривались. И вообще я на видик иду... С бабой! Билеты купил...
«С Евдокией Матвеевной? — подумал Игорь Николаевич, впопыхах зачем-то пытаясь сообразить, с какой такой бабой Валера собирается на свой видик, но вдруг все понял. — Ничего-то ты не купил! Сам же за столом еще спрашивал: сходить, не сходить? Развлечься?..»
Ромео сказал какое-то непонятное слово своему другу.
— Иди, дарагой, ты в бильярд все равно не играешь, — хитро повернул дело Айрик.
— Ха-х! Я же сразу просек, что на пушку меня берете, — облегченно выдохнув, сказал Валера, но все же спросил, даже нет, не спросил, а как бы попытался уговорить Коровина: — Ведь шутишь же, шутишь!..
— Шучу, — согласился Игорь Николаевич брезгливо.
И Валера ушел. Его красный семафорный костюм просигналил уже из другого конца коридора и исчез в дверях бара.
«Даже не обернулся...» — тускло подумал Игорь Николаевич и серьезно спросил у Ромео:
— Какое орудие, сударь, предпочитаете?
Тот презрительно скривился и взглянул на Айрика, мол, видал идиота.
Айрик на это разразился тирадой на родном языке («Ругается, наверное...») и под конец перешел на русский, державный язык, так сказать, межнационального общения:
— Да он в тебя вот таким камешком бросит, и нет тебя...
— На камнях? — спросил Коровин, зная, что его уже не остановить. — Идет! Романтично — море, шторм, дуэль на морской гальке... Жаль, секундант мой струсил. Незабываемое зрелище! Да, впрочем, по нынешнему демократическому времени, в обстановке всеобщей простоты нравов... Сойдет и без секунданта. Расстояние оговорим? Как обычно, с четырнадцати шагов? Или ближе, наверняка?.. На камнях... Знаете, в этом что-то есть! Нет, определенно есть что-то. В древней Иудее казнили, знаете, как? Забрасывали жертву камнями! А мы дуэль... Вы не передумали?..
— Обижаешь, да? — спросил Ромео.
И они пошли к морю.
Вот здесь я и оставил бы своих героев. Я что-то устал болеть их болью, думать и чувствовать, мечтать вместе с ними. Особенно меня раздражает этот чистенький, этот совестливый, этот непробиваемый праведничек Коровин. Хотя я не совсем вообще-то уверен, — пусть многое и проверял, — что все именно так, до конца так было на самом деле. А впрочем, конца-то и нет в банальной этой, а может быть, кому-то покажется, неправдоподобной или возмутительной истории.
Чтобы не потрафить иным ретивым критикам, которые, однако, все равно скажут, подлецы, что «в образе Коровина очень много от автора», сразу разочарую их — себя в настоящем романе я вывел под именем Валера. И теперь посудите сами, откуда мне, то есть детскому хоккейному тренеру Валере, знать, чем там у них кончилось, ведь, то есть я, сидел в накуренном баре, во втором его ярусе и смотрел по видику американскую кинокартину «Их называли костоломы», ел мороженое, поданное барменом, пил горьковатый крепчайший кофе под крики «кья-а-а!!!» с экрана. Да мало ли... Я знаю лишь результат: Клара уехала, даже не выйдя на следующий день к завтраку, Коровина не стало... Не тот он сам утонул, не то ему помогли. Хотя все, что видел и слышал, я рассказал, конечно, где следует, и улетел по истечении отмеренных мне путевкой двух недель отдыха в Ленинград. Я даже не знаю, какова дальнейшая судьба Ромео и Айрика, которые видели Коровина последними. Знаю лишь, что больше всех горевал, убивался по странному этому Коровину какой-то старый абхазец, который жил с ним в одном номере.
Но, понимая, что роман как-то нужно завершить (иначе читатель может подумать, что я его не уважаю), я хочу просто поразмышлять, пофантазировать в меру отпущенных мне природой способностей. Наверное, все было так.
Они всю дорогу говорили по-своему, и Игорь Николаевич терпеливо брел за ними в темноте навстречу разбушевавшему к ночи морю. Белые брюки Ромео мглисто белели впереди. Зашуршал, поплыл песок под ногами. Это они вошли в полосу камышей. Потом загремела галька, вернее, он не услышал грохота, а лишь ощутил гальку под ногами. Айрик чиркнул зажигалкой, но она, лишь ослепив короткой сине-звездной вспышкой, тут же погасла. Свет маяка пробегал верхом, цепляя низкие, густые и тревожные облака над морем и землей: вспышка долгая, пауза, вспышка короткая...
Море бесилось, кричало, клокотало, стенало перед ними, невидимое и грозное. Ветром доносило соленые брызги, и они холодили разгоряченное происходящим лицо Коровина.
«Как же мы будем в полной темноте?» — подумал он, оглядываясь туда, где остался Дом отдыха.
Высокий шестнадцатиэтажный корпус, словно сквозь дымку, светил теплыми окнами в ночи, звал назад. Где-то за одним из этих далеких теперь окон сидел на своей кровати старый, еще бодрый абхазец дядя Илларион, который обещал намазать ему спину кефиром. Игорь Николаевич сжал ненужный, кажется, никому уже стакан и хотел было выбросить его, но вспомнил, что стоит на пляже — осколки обязательно порежут кому-нибудь ноги — и что его вообще-то просили стакан этот вернуть в столовую, лишь выплеснул из него кефир перед собой.
— Ти что?! — громче моря взревел Айрик, и Коровин только теперь, услыхав противный кислый табачный запашок из его рта, сообразил, что сплоховал, попал кефиром в кого-то. — Совсем обнаглел! — крикнул Айрик очень близко от него. — Ты где?
— Прости, я не хотел... — растерянно проговорил Игорь Николаевич, но вряд ли его услышали в этом аду.
— Джинс совсем новый, слушай!.. — орал Айрик, сквозь дикий шум моря.
Коровин шагнул на его крик, но кажется, наткнулся на Ромео, который что-то сказал ему на своем языке.
— Я нечаянно! — проорал им обоим Игорь Николаевич. — Начнем?
Ромео ловко закурил, прикрыв огромной ладонью трептное пламя зажигалки, и теперь красный воспаленный огонек его сигареты был неплохим ориентиром.
— Ти чем мне джинс облил? Кислый что-то... — крикнул Айрик откуда-то слева.
— Кефиром... — сознался Игорь Николаевич громко.
Он отступил было от Ромео, чтобы отсчитать положенные четырнадцать шагов, но вернулся.
— Что ты ходишь? — спросил его Ромео, будто видел в темноте.
— Надо бы договориться, — прокричал Игорь Николаевич. — Вы не передумали? Простите... Я сейчас отмерю расстояние. Кидать будем по очереди или как?
— Кефиром жирным? — спросил Айрик сорванным или очень обиженным голосом.
— Будем кидать, пока я не просажу твою дурацкую голову! — грозно прорычал Ромео и затянулся, так что сигарета вспыхнула красно и слегка осветила его надменное лицо.
— Кефир как кефир... — отозвался Игорь Николаевич. — Я пошел. Раз, два... — он снова вернулся, суеверно успев подумать, возвращаться бы не след, не к добру это. — Вот что!.. — крикнул он Ромео. — Когда отойду, ты сигарету выброси, чтобы по-честному было. Кидать нужно на голос.
— Скоро? — спросил Ромео нетерпеливо.
Игорь Николаевич пошел:
«Раз, два, три, четыре... одиннадцать, двенадцать, тринадцать... Почему обязательно надо четырнадцать: Наверное, как-то связано с особенностями старых пистолетов... Книжки повнимательнее читать надо!»
— Готов! — крикнул он им и увидел, как полетел в сторону моря горящий окурок, описав по черному полю ночи красную дуговую линию и сойдя на нет, столкнувшись, должно быть, с волной.
— А-а-а!.. — закричали ему оттуда.
— Начинай! — сбоку, со стороны камышей крикнул осторожный Айрик.
И первый камень пронесся неподалеку, и шум его падения тут же поглотило ревом моря. Игорь Николаевич нагнулся и взял гальку покрупнее.
— Почему не кричишь? Не молчи! Хитрый!.. — заорал ему, наверное, Айрик.
— А-а-а!.. — дико гаркнул Коровин и кинул свой камень в невидимого противника.
Нет, в этом грохоте решительно ничего не было слышно. Игорь Николаевич поднял камень полегче и снова швырнул.
— А-а-а!.. — донесся до него крик Ромео, и было не понять, попал он в него, или это условный сигнал.
— А-а-а-а-а!.. — длинно отозвался Коровин, нагибаясь за очередным камнем, и тут же кинул его, распрямившись.
Лицо окропили брызги очередной волны, но от них не стало свежее. Нет, это, верно, их камни столкнулись в воздухе и осыпали, расколовшись, мелкими острыми осколками.
— А-а! — коротко донеслось до Ромео.
Детская эта затея уже, кажется, исчерпала себя и жила в Коровине лишь на остатке упорства и азарта. Он даже не сразу вспомнил, оглушенный этой темнотой, ревом моря и собственным волнением, какого черта они тут делают на берегу. Вернее, конечно, было ясно, что они кидаются камнями, но ради чего, почему, с какой стати?
«Ах, да... — подумал он в последний раз, — Клара... Честь женщины? Месть? Зачем?.. Он же не вернул стакан в столовую!..»
Из глаз сыпанули искры, густо и мгновенно угасающе. Стало тихо, кромешно, страшно тихо кругом...
А может быть, все было совсем не так?
Он все же пошел, дурачок, с ними к морю со стаканом кефира в занемевшей руке. И по дороге, — какая дуэль?! — уже на берегу они до полусмерти избили его в темноте под гром и молнии разгулявшегося моря. Да, собственно, и ударить-то могли один или два раза по голове камнем, и он еще был жив, когда Ромео и Айрик затаскивали его тело на далеко вдающийся в воду высокий мол, даже не мол, а такую специальную штуку, на которой хранились в ожидании сезона лодки, весла, якоря и буи ограждения — все это пляжное хозяйство, и, раскачав, бросили в темноту бушующей воды, как дохлую собаку. Он успел почувствовать прикосновение моря к саднящим, истомившимся обгорелым своим плечам и соленый его, горький вкус на разбитых вдрызг губах...
Через два дня его прибило к берегу в нескольких километрах от Дома отдыха, изуродованного и распухшего до неузнаваемости, и в застывшей навсегда руке он крепко сжимал вымытый морем, чудом уцелевший в драке и во всех перипетиях этого убийства граненый стакан из-под кефира.
Местная милиция, как и положено, составила протокол, провела освидетельствование, опросила всех, кого было можно, и, скорее всего, списала эту нелепую смерть как несчастный случай во время ночного купания. Спасатели со спасательной станции от греха подальше и на случай всяких проверочных комиссий подновили щит у входа на пляж с правилами поведения на воде, администрация Дома отдыха сообщила семье Коровина, что случилось такое несчастье и что цинковый гроб можно получить в морге местной больницы, — кое-кто из отдыхающих даже видел их, женщину в черном и девочку с ней лет семи, мальчик был постарше и держался самостоятельно (вдову, значит, его, дочь и сына), как они долго стояли на берегу потеплевшего, поугомонившегося моря среди загорающего и купающегося люда и сухими нездешними глазами смотрели на легкие волны, на ласковую голубовато-лазурную воду, забравшую и вернувшую уже мертвым их Коровина, не родственника известного художника, а просто однофамильца.
Впрочем, об этом случае вскоре забыли, потому что люди приехали сюда отдыхать, забавляться в свои законные две недели, а не горевать о несчастном незнакомом им утопленнике.
***
Или, представляется мне почему-то, все вышло куда прозаичнее и реальнее, что ли... Просто этот Коровин поломался, поломался с этой глупой дуэлью, построил из себя благородного рыцаря, готового сразиться за свою Дульсинею, а уж когда пошли к морю, когда дело запахло керосином и эти здоровые, качаные южные хлопцы взяли его там за грудки, он и перепугался, и струсил, и загундосил жалобно, чтоб простили его и пощадили. Так ведь тоже бывает с гордыми людьми, которые держат марку почти до конца, до развязки, блефуют напропалую, и вдруг скисают на глазах, лопаются, как мыльный пузырь, без звука и заметных последствий, и превращаются в свою противоположность. Во всяком случае я не могу отрицать и такого исхода и знаю, что многих бы он устроил гораздо больше, чем два предыдущих. Ведь кому не хочется, втайне не желается, чтобы такой вот сильный, гордый, с принципами Коровин, чтобы обернулся он обыкновенным, как все или как многие, пугливым, мелким и жалким человечиком. И ведь оборачиваются, еще как, стоит лишь тряхнуть их посильнее. И вполне ведь возможно, что и Коровина постигла столь бесславная, понятная нам и до обидного желанная участь.
Но это вряд ли...
1988,1989
Голосование:
Суммарный балл: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
Нет отзывов
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор