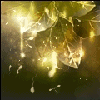-- : --
Зарегистрировано — 123 601Зрителей: 66 665
Авторов: 56 936
On-line — 10 422Зрителей: 2017
Авторов: 8405
Загружено работ — 2 127 153
«Неизвестный Гений»
Рассказ
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |

Дитя героина
Егор Ченкин
безграничное спасибо Юле Геншафт – за профессиональную врачебную информацию
и массу бесценных деталей
Легкость и необязательность – пожалуй, это главный ключ понимания напетого счастья: касания, взгляды, поцелуи и шепот. Все это есть... И всего этого нет. Любовь как полет, как взмахи крыла – сильный толчок, сильнее, еще сильнее, еще, до крика... Ощущение высоты. Но высота не хранит следов, она всегда чиста, она манит.
Легкость и необязательность, – а пульс как сумасшедший и температура плавления... Приближение издалека, нарастание, тряска, адский шум, заложенные уши, сжатые зубы, закрытые глаза... И вот тихо... Совсем тихо... И было или не было?
Никита Марзан
Здесь достаточно часто умирают люди. Живые, причем. От передоза. Не обязательно наркотиками. Передознуться можно и жизнью.
Здесь тусуют люди, которые понимают, что терять им в общем-то нечего, кроме своей собственной невостребованной жизни.
Ginn
детям любви и детям героина
. . .
Prologue
Маршрутка затормозила у перекрестка. Арина вышла и немедленно увязла по щиколотку в снегу, и начала пробираться – в ущелье протоптанного снега – на территорию клиники. Зима выдалась расточительно белая, хрусткая. Снег не вывозили. Отгребали на края тротуаров, подсыпали день ото дня, доводя сугробы до состояния утесов и крепостных игрушечных стен. Как здесь все – сегодня? Как будто полжизни прошло. Какие лица, из новых – в палатах? Какие она знала еще в декабре?.. Потеплее ли в кабинете. Сегодня снова будут ждать ее больные – после месяца перерыва. Это отвлечет ее.
Пареньки и мужичонки, с печальными сердцами, глазами битых псов, с истерзанными летописями жизни.
От вида наркологической лечебницы чем-то давило на сердце.
Тянуло нездоровьем, искалеченным мозгом, больными глазницами окон, нищетой.
Внутри все было так же, как месяц или двести лет тому назад – свежая вонь разбавленной хлорки, старинный лед кафеля, гулкие шахты лифтов, тапочки на цыплячьих щиколотках пациентов. Потолки уходили в колодезно-далекие своды небытия. В высоте их было что-то кафедральное.
Псориазный и сизый колор коридора походил на макияж лицедействующей старухи.
Шаги, еще шаги. «Здравствуйте, Арина Юрьевна. Рады видеть вас снова…» – «Тоже рада».
Глаза устали, слишком белки напряжены. Наверное, кровеносные сеточки... Так мало сегодня спала.
От палаты алкоголиков несло жуткой вонью. Хорошо, что ей не туда.
У нарков было легче. Не сказать, чтобы чище – но амбрэ гораздо сноснее. Вновь прибывшие глядели бодрячками, детокс их еще не взял за горло. Их почти не ломало. На третий день они скисали жестко. Ходили и сидели в испарине, – тормознутые, ершились, стучали зубами, бледные как утопленники, с расфокусированным взглядом. Хотя права продолжали качать: требовали «недоданный» им промедол, выцыганивали анальгетики помощнее.
«Арина Юрьевна! к вам на приемчик можно?..» – «Чуть позже, Кудыкин».
Шаги, шаги, шаги. «Второй уровень». Палаты реабилитаций. Здесь почище. Но лица грустные у всех, глаза тяжелые немного... У всех тяжелые глаза.
Зачем я пришла сюда, господи. Лежала бы дома. Лежала бы и думала о Шурочке…
Конец шагов.
Комнатка психотерапевта, сиречь ординаторская. Блин, здесь тоже люди, конечно.
Почему, когда никого не хочешь видеть… «Арина Юрь…» Провалитесь все, ненадолго, не нужно вопросов, потом, все потом, здравствуйте, да.
Это карточки новеньких?.. Ах, да, завотделением ей обещал! В качестве помощи. «Чтобы отвлечься». Хороший мужик – завотделением. Брусникин К.С. … Каэсик, добрая душа, свой в доску парень. Хотя она, Арина, здесь без году неделя – учится, интерн по психиатрии, не имеет еще права вести пациентов. Но, почему нет. Почему нет... Если можно не думать при этом о…
Ни о чем.
Часть I.
Интерны народ совершенно бесправный. Искать больного такому врачу – по сути, стажеру – медсестра пособит лишь в том случае, если тот сам, кровь из носу, не может больного найти.
– Наташа! я чего-то Кондратьева не вижу, – сказала Арина сестре. – Он, вообще, тут?.. Я два раза в палату заходила.
– Да тут болтался, видела его. Кондратьев!... На беседу с врачом. – Голосом гренадера выкрикнула в коридор медсестра.
Полминуты – еще полистать анамнез. О, да.
Мда.
– Э, доктор, здравствуйте... Я Кондратьев. А чего, это вы меня будете беседовать? Меня, вообще-то, вел Брусникин...
Арина подняла голову и внимательно посмотрела на вошедшего.
– А теперь вас буду вести я. Садитесь… Меня зовут Адулас Арина Юрьевна.
Наркоман оказался выше среднего роста, слегка мускулист, но больше поджар – джинсы на нем висели как флаг на шесте в безветренный день. Кисти рук были похожи на сильных белых сухих пауков. 29 лет, в анамнезе. «Наркотическое поражение нервной системы. Абстинентный синдром…» – гласил диагноз в медкарте. Он был похож на Джареда Лето из культового кинофильма «Реквием по мечте». Темноглазый, развинченный. Наверное, привлекательный. С руками и пальцами незадачливого виолончелиста. С индусскими, широко расставленными глазами, черничного цвета, навыкате слегка. Было видно – здесь из недавних.
К истории болезни была скрепкой пришпилена записочка от Брусникина. «Этот расскажет тебе правду. Держи обеими. Заноси в память. Особенный экземпляр».
– Кондратьев Александр Витальевич? – Спросила для проформы Арина.
– Точно так. Можно – Шура. (Адулас, вздрогнув, изменилась в лице). Или Кондрат... Как вы хотите. Так будет проще.
– Спасибо, – с усилием отвечала она. – Я буду звать вас Саша, если позволите.
Кондратьев пожал плечами. Оглядел Арину, цепляя глазом халатик. «Кнопка...», – назвал ее про себя. «Ты красивая, кнопка», – следом прибавил. Арина помахала авторучкой, раскрыла – заломом листов – свежую в клетку тетрадь. Сюда она будет писать всех новеньких. Всех, из своей новой, с листа начатой – сегодня – жизни.
Кондратьев поглядывал на Арину с иронией.
– Доктор. Вы такая свеженькая и симпатичная, может, не будем говорить о такой шняге, как наркота…
– Спасибо. Мы все-таки попробуем.
– А чего говорить-то о ней?
– Сколько употребляете?
– Ну, блин. Чего «употребляю»… Вы конкретные вопросы задавайте. Что именно вас интересует? Я вообще начал с булгартабака с 8 лет, тоже наркотик тот еще...
– Меня интересует героин.
Кондратьев поглядел исподлобья.
– А почему вас интересует именно он? Вы знаете, сколько я зла перепробовал, пока дошел до геры?
– Тогда расскажите.
– Да это ж как мужчине про роды рассказывать! Технически – поймет, а на собственной шкуре никогда почувствовать не сможет.
– А что, героин – это настолько круто, что чтобы понять, надо попробовать?..
Кондратьев глядел на нее, в его глазах стоял упрек.
– Вот, вот доктор... – упрек выпрыгнул из глаз Кондратьева, приземлился на тетрадку Арины, уселся между букв, помахивая ногой. – Сразу видно – молодая вы, зеленая. Что вы видели в этой жизни... Вот вы сейчас зачем со мной беседуете?
– Хочу знать, что вы собираетесь делать дальше…
– Когда это? через пару дней, когда свалю отсюда?
Арина изобразила на лице удивление. Авторучка затихла в ее пальцах.
– Так быстро? (Кондратьев скривился как от луку.) Вы не останетесь на программу восстановления?
– Солнце мое, сколько из нас остается на нее?
– Не переходите рамки, Саша…
– Послушайте. Рамки есть у вас. Я наркоман, у меня давно нет рамок – после того, как я дал своим дружкам угнать папин тарантас, за десять грамм. Ну, чего я делать буду, на этой вашей программе? Лепить пластилиновых зайцев, рисовать города будущего?.. Крестом вышивать? – Кондратьев вынул из джинсов пачку LM, постукивал ею по колену. Точно подумывал – закурить, обождать?.. – Ваша программа – фуфло, бывших нарков не бывает. Это вопрос времени – как быстро у кого все закончится. Героин всегда вернет к себе выпавшего из строя.
Он вскрыл сигареты, выбил одну: аккуратно и молча как снайпер. Вскликнул зажигалкой. Всосал щеками дым – исходную порцию, – углом рта пустил язвящую и точную стрелу.
О том, «можно ли», не спросил. Наезжать Арина не стала…
Она разминала пальцем сгибы тетрадных листов. И понимала, что прав наркоман, что он озвучивает ее собственные мысли. Конечно, не приходили они сюда излечиться. Снимали ломку – снижали дозу – уходили. Две недели – это вышка. Единицы оседали надолго и доходили до психотерапии.
– Как вы пришли к героину?
– Как все. Алкоголь, анаша, дальше винт, вода (бутират), потом гера.
– Во сколько лет начали употреблять алкоголь?
Кондратьев сбил пепел, неторопливо перегнал на лице желваки. Глаза его поблескивали начищенной ласковой медью.
– Рассказать тебе весь мой тернистый путь, крошка?.. Алкоголь был в ходу лет с девяти, травка с 10, все остальное уже после армии. – Он помолчал, кусая губы. Потом, как будто, спохватился.
– А, добавь в свои записи грустную тему о том, как я вернулся из армии, а моя девушка замужем за моим лучшим другом…
Он уставился в нее бледными жерлами глаз. Точно ждал, как среагирует Арина. Насколько пробьет ее. И как она в утешениях и соплях растечется.
Старый ковёрный прием.
Он стибется надо мной, подумала Арина. Гаер...
Кондратьев кивнул, предупреждая вопрос.
– Ага. Я тоже думал – это такие тупые песни и анекдоты… И что со мной такого никогда не случится. Ни фига – случилось.
Он осклабился, щелчком отправил с джинсов звездочку пыли. Скрипнул на стуле, закинул ногу на ногу. На ногах его были кроссовки. В больнице. Вместо тапочек... Ненавидел тапочки, наверное.
Он хочет вывести меня, подумала Арина.
– Так вот, героин, – продолжал Кондратьев. Затяжная сжатая струя дыма вынеслась из угла его рта. – Стаж четыре года... Доза – два с полтиной грамма в сутки. Бросить это невозможно. Да, в общем, и не собираюсь. Хотите что-то знать еще?
– Хочу. Например… Есть ли что-то для вас, что вы цените не меньше наркотика. Творчество. Музыка. Путешествия, не знаю... Любовь вашей женщины, наконец.
Кондратьев вздрогнул – как вздрагивают от стакана кипятка, внезапно прижатого к коленке. Сузил глаза.
Он подал плечи вперед, убил локтями поверхность стола, ртом в опушке нежной щетины прошипел в Аринины глаза:
– Любовь женщины?
Он толкнул к ней навстречу локоть. Смахнул углом его авторучку. Не достиг полсантиметра до тетради Арины.
– «Любви женщины» не существует, доктор…
– Есть желание женщины – твоего тела, – продолжал после паузы. – Это раз. И есть ее вкус – к твоей одержимости ЕЮ… Два. К твоей престижности и силе. К удержанию возле себя. К перспективе отношений с тобой… Заполучению здорового ребенка. К безбедному существованию, в итоге. Доктор, вам ясно?.. Это все.
Он откинулся и ударил снова позвоночник о спинку стула. Глядел на нее искаженно.
– Хотите сказать, не существует преданных женщин? – спросила Арина неловко.
Она почувствовала, что Кондратьев готов темно и сухо загоготать.
Стало как-то вдруг неприятно, немного холодно плечам. Росло ощущение, что он презирает ее – за этот ее безызъянный халатик, льняные ровные волосы, ее мир, полный трафарета, рассудка и благонамеренной ученической лжи. Ее принципы, правильные как обезжиренный творог. Ее чистые отправления тела и мысли. «Я ботаничка», – подумала Арина.
– Существует... – отвечал Кондратьев. – Пока ты рядом, пока силен, пока ты «блюдешь». Перестал быть рядом, перестал быть силен, перестал блюсти – фьють, нету женщины. Ищи ветра в поле…
– Но ведь любить…
– «Любить» – это только глагол, – сказал Кондратьев резко. – Доктор, все, давайте сменим тему.
Копье дыма он выдул небрежно и жаляще. Сидел, взглядывал сумрачно на Арину.
Арина была сухенькая как травина осоки. Строгие бровки. Кожа – йогурт, нежнее матового стекла. Светившаяся изнутри. Покусанные губы. Волосы прямые русые тонкие, не доходившие двух ладоней до пояса. Забранные в косу (косу тот заметил, еще входя). Белый докторский колпак. Нитка морщинки между бровями.
Не дитя героина, чего уж там. Цветик-семицветик.
– Да чего разговаривать с вами, – сказал Кондратьев. Он перебросил сигарету из одного межпальцевого промежутка в другой. – Чего вы время-то тратите? Я все равно уйду, переломаюсь – и уйду.
– Почему вы не хотите попробовать побороться за себя?
Кондратьев сидел, усмехался чему-то.
– Доктор, да вы вообще на практике знаете, что такое наркотики?
Арина подумала, оценила ожидание его. Отвечала:
– Я знаю.
Кондратьев снова откинулся на спинку стула. Осадил коленом колено. Макнул воздух носком кроссовки.
– Ну, что вы там пробовали? Травку один раз покурили, и не торкнуло? Вам лет-то сколько, доктор? двадцать?
– Двадцать три. И в моем возрасте не обязательно совать пальцы в огонь, чтобы понять, что будет больно...
Кондратьев затянулся. Секунда наслаждения никотином. Баллистический выдох.
– Да в том все и дело! Наркотики – этот тот огонь, который ваш ожог сделает мега-приятным. Вы знаете, что такое изменение восприятия?.. Что такое уйти от БОЛИ, от проблем. Неужели если бы вы знали способ, вы бы избежали его? Что вы пробовали, доктор? кроме алкоголя и травы?
Арина покусывала губу. Как дать ему понять, что она – на его стороне? Ослиный упрямец... Что она не инквизитор, не исповедник, не строгая тетя с указкой в руке. Что она хочет помочь. Помочь еще одному человеку, пустившему свой эшелон здоровья, разума, молодой солнечной ярости – под откос.
– Кокаин.
– Ого! да вы продвинутая. – Кондратьев выгнал тонкий и сдвоенный поршень дыма через ноздри. – И что скажете, доктор? вы поймали свою птицу счастья?
– Один раз.
– И вы б смогли от этого отказаться – предложи вам еще раз?
– Он дорогой для меня.
Еще одна стрела никотина ушла в саркастический и острый полет.
– Да бесплатно. Факт в том, что вы бы не смогли отказаться!.. Я это вижу в ваших глазах. Что вас останавливало? цена? А представьте, что кока стоит копейки? ну и где вы, доктор? по какую сторону – по свою ли, врачебную? – Кондратьев дотянул руку до раковины, вдавил туда окурок, сбросил в ведро. – Прекратите выспрашивать у меня, как я дошел до такой жизни, вы ничем не лучше меня... Вам раз попробовать героин – и через мои четыре года, если выживете, будете отсасывать у роты солдат за дозу и детей продадите в рабство...
Арине вдруг стало скверно. Хреново.
Начавшийся было бросок в наступление вдруг погрузился в песок, увяз по самые колени, сменился неожиданным упадком. Откуда-то наползли и вытекли слезы и застряли у истока ресниц, готовые выкатиться на тетрадь.
Кондратьев разжег сигарету еще. Снял с фильтра невидимый отпечаток воздуха, поднялся – вдруг и без повода. Втянул никотин особенным – тонкостенным – перекатом щеки. Смазал Арину пальцами по плечу.
– Не плачь. Ты же все-таки еще ее не перешла – эту грань. Все, я пойду, ты позволишь, ладно?.. За беседу спасибо.
С сигаретой в зубах он и вышел.
Арина осталась сидеть за столом, вдыхая следы и последствия его организма и его посещения.
Кондратьев вернулся в палату.
Кинулся с размаху на койку. Пружины кровати взныли, точно сетку – слегка – ударили по зубам.
– Что за девка, на мою голову. Я думал, там Каэс будет!.. Базар по-мужски, все такое.
Сосед его, рецидивный винтовщик Кудыкин поднял голову от рук. Это был крепкий, как вяз, пацан, бритый под ноль, простой и уже полностью «органически поврежденный».
От расхожего винта умирают быстрее и легче, чем от дорогостоящей «пыли». Сутками Лешка Кудыкин лежал в кровати – читал энциклопедию потолочных сосудистых трещин, бессодержательного движения собственных глазных планет: на том же, белом лице потолка.
– Да не, Кондрат. Она ничего. Она тут недавно... А мне – так нравится даже. Добрая и симпатичная.
Лицо Кондратьева бороздила усмешка.
– Ну да, зелена и добра, жизнь ее еще не ломала…
– Зря ты так. У нее полуторагодовалый сын умер. С месяц назад...
– О-опс, – сказал Кондратьев. И отошел к окну.
Он курил.
Глотал желудком табачный обман тишины, выдувал стрелы и кольца. Глядел в пустой, как черный пенал, дворик лечебницы, засыпанный чахоточным снегом.
«Ну, это я поврежденный. Точно». – Подумал о маленькой докторше, с косой. Чистенькой как кусок пластика, которым раскатывают героиновые дороги.
Он втягивал бронхами желчную истину никотина. Пролагал в дыхательный канал уверенную дымную жилу. Вспоминал дом и город, жизнь последней недели его – там, в реальной резервации жизни, перед тем, как скрутило его.
...
Тогда – за пять дней до больницы – он марафонил на квартире одного собоянщика. Мелкий барыга, что-то вроде. Кондрата влекло на хату, он предвкушал заранее оттяжку: два дня совершенной выключки из событий земли, – и мысль, что сейчас приду, ширнусь, потом еще! без промежутка для выныра сознания – она грела сердце как войлочный сапожок.
Хата для сходок была в доме-кораблик, в сраном подъезде с битыми стеклами, с лестницей, загаженной окурками и кошачьей мочой. Кондрат взбежал на четвертый этаж, позвонил.
Квартира была уделана в лучших традициях молодежного срача, то есть срач был великолепен – ушарканный, как баркасная палуба, пол, в доску самортизированная мебель, истертые, забитые пылью ковры, нездоровые золотушные пятна на занавесках, в которые разве что не дрочили и не сморкались. Стены, местами протертые до желтой подложки, в пучки цветов и в полоску, еще помнили страну молота и серпа.
Комната, куда он сразу вошел, была самая большая в квартире. И могла бы – точно! – быть побольше. Первое, на что наткнулся – как всегда, его взгляд – был засаленный диван. Напротив стоял телевизор с грязным монитором, коробка видака накрывала его как кепка грузина. В комнату влезла еще одна кровать и сервант. Посередине помещался стол. За ним белый, как лунь, мужик с усердием давил в плошке таблетки. Димедрол. Было вонюче и душно.
На диване двое пацанов невзрачной наружности, вихрастые, лет по 13ти, – деловито ляпали патроны с планом.
– Детскому саду «Чипполино» привет! – сказал Кондратьев. – Не рано детям.. Усы еще не выросли, – хозяину сказал.
– Ты сам-то когда начинал? А это наша новая кровь. «Молодая Гвардия», Фадеева в школе читал?
Новая кровь – в смысле новый источник дохода. Ну, да...
Кондратьев заглянул в малую комнату – полутемную, затхлую, с наглухо зашторенным окном; там спали двое парней, на голом матрасе и койке: в мятых футболках, штанах, упоротые в говно. Полумертвые тела, угловатые как остовы деревянных человечков, закостенели, казалось, в том положении, в котором владельцы их свалились в сон, подкосив о лежбища колени и локти. На голову одного из мужчин была напялена шапочка. В кухне чалилась Лика, числившаяся девушкой хозяина. Сам хозяин лениво бродил, сося сигарету, зажатую между большим и указательным пальцами, уже изрядно датый и подштыренный. Кондрат припозднился на пару часов.
Белый как лунь мужчина закруглялся: он ворочал в миске ложкой, размешивая истолченный димедрол – бодяжить чистое героиновое вещество. Хорошо не мелом и стиральным порошком, и на этом данке шён. Оба пацана закончили забивать штакеты. Взорвали по косяку.
Поддули.
Фугаснули.
План пыхтел неровно. Один из мальчиков подлечил слюной, макнув языком по кромке бумаги. Опыт проскваживал.
– Бабло на кассу, – сказал хозяин дежурным голосом. Кондратьев отдал ему пачку купюр. Тот пролистал со скоростью счетной машинки и сунул в карман джинсов.
Геру разводили на кухне. Банка общая, шприцы свои, – у двоих из компании был ВИЧ. Гепатит у всех, кроме девушки. Свои люди.
Отсыпав для раствора необходимое, хозяин осторожно сгреб оставшееся в миску.
– Это чистяк. Что разбавим – лохам толкнем… Пускай травятся девочки и мальчики. Ага?
– Само собой.
– Нах, где димедрол?.. – Вскричал хозяин из кухни. – Толкач. Натолок там?
– Вота.
– А ручки мыл? Не мыл! (Один из мальчиков гоготнул. Наверное, вспомнил, как самого заставляли мыть руки, перед манной кашей). Ну, ладно. Сыпь сюда!
Пырялись культурно и грамотно. Стаф был чистый, приходы солнечны, оглушительны и, как первозданный фохат, глубоки. Души были ужалены светом.
Всаживали – от широты сердца – очнувшимся в малой комнате парням. Один паренек все время падал. Никак, ну, не хотел догоняться. Обморочно заваливал себя, ломая воздух, набивая гематомы о стулья.
– Дениска! ты хочешь догнаться? Кусков?.. – Кондратьев его усаживал в кресло. – Щас, родной, щас все будет…
Он закатал рукав парня. И – присвистнул.
– Ого. Турбины... Фонари на взлетно-посадочную полосу. Страшно колоть! родимчик будет.
– Тебе-то страшно? – сказала Лика-борзая, девушка 22х лет, худая как щепа, с анемичной маской лица, с лунным шорохом волос, подколотых птичьей гузкой на затылке. С провалами врубелевских глаз. Все героини Врубеля, не исключая ангелов и богодев, выглядят на полотнах законченными кокаинистками.
– Ну, в «обратку» проколи. – Лика жевала пиццу, подхватывая ртом, с руки и запятнанной бумажной тарелки.
Кондратьев приподнял руку парня, оглядел жилу вены, полозом вившуюся вдоль тыльной части предплечья.
– Нда, канат. Качается, что ли, шварценеггер.
– Или вскрой ему пах. Чтобы в целиках не ходил... Он, чай, не пробовал еще.
Кондрат расстегнул парню джинсы, откатил кверху пройму трусов, нашел пальцами бедренную вену. Присосал к подкожному нежно-синему канатику жалящую плоскость иглы.
– Похоже, пробовал уже. – Ввел.
С раскрытой губы его, мокшей теплотой, оползало напряжение. Поршень достиг конца, игла, дрогнув выдохом, по-пластунски оттянулась назад.
– Это тебе догнаться, Денис.
Опустил обморочному трусы, запахнул джинсы. Тот улыбнулся – через фаталь чудесной дурноты, и поморщился, едва.
Второй мужик в малой комнате резко охнул и что-то забормотал, – пьяным бредом и слюнявой кашей несло от этого вскрика.
Кусков Денис – которого они ублажали сейчас дозой дармового герача – был никто.
Моль, ноль и копейка. Двадцатиоднолетний укурок, присосанный к сходкам к квартире по больной потребе организма. Он челночил в хату постоянно – брал товар, сбывал клиенту, крутился, башлял помалу бабки, а иногда оставался с ночевкой – торкнуться часов на семь, но не на буднях, потому что работал каким-то там траханым курьером сетевого маркетинга.
Денис был похож на стебель одуванчика, с горьким соком, оставлявшим коричные следы. Он был симпатичен Кондратьеву, тот сам не знал, за что.
Малина находилась на отшибе Петербурга – городская хулиганская тьма, озеро Долгое, полчаса пилежки от метро. Хату держал тридцатилетний мужик, с погоняловом Сын. Кусков и Кондратьев были так же неизменны здесь как цвет обоев, побитые молью ковры или застоявшийся воздух.
Сын был банальный фраер.
Там подмочь, здесь ножичком почикать. Доставить товар, сбить бабки с павильонов, тех, что под зоной контроля – шестерил на подхвате.
Еще он пас калек с Чечни.
Инвалиды огребали метрополитен, колченого таскаясь на костылях, катая культи на избитых дощечках. Их возили в колясках наемные девочки, прикормленные там же – на хате. Добрые и конченые души, с сизыми глотками, в одежде пост-секонд-хэнд третий отжим, такие же датые и обдолбанные, как их подопечные.
Мужичков было четверо, пятым был Вощенко, – тому срезало ноги по пьяни трамваем, но кто в метро об этом знал. У Вощенко была красная морда, глаза блудного пса и денатуратный голос. Ему давали меньше всех, за что Сын порол его душу наихудшим из наказаний: не отпускал вожделенное ширево.
Калек держали на другой квартире – с бабой, которая варила им, убирала, стирала.
В их распоряжении всегда были косяки, марафет и водка. Дорогой героин и мартини перепадали редко. Сын присматривал, чистил с них деньги, иногда давал коленом в морду. Водил к ним на отсос проститутку. Закидывал коробками дешевые продукты с контейнерного рынка.
Он был крепок по-крестьянски, с шакальей челюстью и мускулами, полусферами катавшимися под кожей. И был сентиментален не больше медведя гризли, расхристан, круторук и рисков, – готовый клиент на дощатую лавку в клетку городского нарсуда.
В его двухкомнатной хате кантовались 6 или 7 собоянщиков, давно сложившийся круг, – вместе сбрасывались, вместе делили-бодяжили кайф, варили винт, кололись ширкой, дули косяки, глотали фармацевтику от знакомого коррумпированного терапевта.
Ну, и конечно, героин.
Двое суток они всемером (девушка с ними) бродили в трансцендентных садах белой и пламенеющей вечности. Многократно летали они и перехватывались с вечностью поцелуями счастья. Догонялись, ловили за хвост «вторяки». Понятие времени стерлось и кануло.
Утро третьего дня было скверным, белым и сумрачным.
Сын сидел в кухне, Лика с ним; Кондрат дремал в комнате, – он обсадился до зеленых ежей. Белый как лунь мужчина ушел. Продвинутые дети свалили еще раньше. Денис Кусков и еще один мужик – в шапочке и в стоптанных ботинках – не подавали признаков жизни.
Золотое русло иссякло, и рог изобилия показал свое порожнее нутро. Кондрат поднялся и выполз из комнаты. Ощущение было нетутошнее. Голову явно сняли с плеч и унесли куда-то на хранение. Вместо нее пух и ширился шар испорченного света. Все-таки с герычем лучше лежать… Вертикаль никак не улучшала мироощущений Кондрата – тело функционировало в противофазе с душой.
Лика-борзая вколола себе из общей дозы винта, слитого в банку, и врубила немецкое порно по видаку.
Винт, сваренный из противокашлевого сиропа Трайфед, был дешев как никакой другой кайф, вдобавок с него реально перло, а потенция взлетала реактивно.
Давно уже умер первооткрыватель перегона микстурок от кашля в наркотическое вещество – мир праху его, сколько народу он экскурсировал до райских врат, а сколько скосил! а нобель так его и не догнал... Кондратьев пристроился рядом с Ликой. Порно было пару-тройку раз виденным, но под кайф пришлось в самую тютельку.
Сашка глядел в экран – в штанах твердело и нарастало, вздыхало инфарктирующим сердцем, в душе томилась никчемная бесстыдная солнечная нежность.
Как иногда хочется ЛЮБВИ, подумал он остро. Вот именно – любви. Потрахаться до чудовищного спуска сока, но чтобы потом – через это – остаться в любви, не утратить вот этого расширения в сердце.
Кондрат смотрел на немецкую видеоверсию make love, и понимал, что даже вантуз не работает столь активно, как эти хорошо сработанные организмы. Строителям надо бы поучиться забивать сваи у этих белокурых ребят, которые даже не вспотели, – агрессивно втыкая во все точки женского тела, способные служить ножнами для члена.
Кондрата заводили крики актрис, учащенные и с отдачей, как хук втыкаемого в плоть томогавка. Вызывали здоровую зависть и смутное соперничество ходкие задницы порноактеров... И очень хотелось женщину, а женщины не было, – борзая Лика была не в счет. Рук допустить было нельзя... Зачем тогда порно? Кондрат откинул пульт и пришел к Сыну в кухню.
Тот пил портер, сидя верхом на табурете, ускоряя реакцию прихода.
– Я, пожалуй, скоро двину, – сказал Кондрат, накатывая себе в чашку воды. – Бабон там беспокоится уже…
– Как скажешь, Шура.
Раздался условный звонок в дверь, – Сын, крякнув сильным телом с табурета, ушел открывать.
Пришел мент Леша. Расхристанный, как водится. «Защитка», ремень с бляхой, сигарета в искаженном зубном углу, ноги вразвал, уже, похоже, мягко датый.
– Ну, че, бабосы – на крышку рояля?.. – спросил он.
Мент Леша был сволочь и драл деньги как последняя шлюха, но его кормили, потому что он прикрывал квартиру от шаставших в опорник бабок-пенсионеров и мамаш голоногих прыщавых тинейджеров, живших в подъезде. Мамаши дрожали за сыновей и хотели бы выцарапать Сыну глаза, но не смели, потому что Сын был опасен и был ублюдочно красив, и дышал горячей смуглой силой. При себе он носил нож Protech, Леша это тоже знал. Но когда тебя сосут и лижут – бескомпромиссные боевые ножи как-то растворяются до размеров перочинных.
Леша небрежно смахнул деньги с краешка тумбы. Воткнул их – как носовой платок – в карман. Принял чек «пыли» в бесплатный довес, и на первой передаче, чмокая ботинками о бетон, поскакал вниз по ступеням.
Сын вернулся, морщась и листая пачку банкнот. Негосударственные сборщики податей отжимали его так же безболезненно, регулярно и равнодушно, как отжимает каждого из нас налоговый инспектор... Но в отличие от государства, мент Леша являлся когда хотел. Приходилось терпеть и платить.
Мутно восстал один из двух мертвяков в маленькой комнате, – пришел качаясь, размазывая листвой ладоней по лицу. Автомобильный щипач, мужичонка лет сорока, худой и мелкий как вошь. Шапочка его сбилась на затылок. «О, м-мать, как проняло-то!» – «Погулял в садах эдема?..» – «Более чем». Ушел опорожняться в туалет.
– Дениска в жопу дернул кайфа, – сказал оклемавшийся, вернувшись в комнату с ополоснутыми глазами. Подбородком качнул на Кускова. Кусков Денис лежал трупом, как весь последний час, с той лишь разницей, что его безжизненная кисть болталась не на ковре, а была приткнута Кондратьевым на джинсы.
– Как обычно.
– Динечка у нас торчок, – сказал Сын, войдя в комнату. Он зависал конкретно, его качало и мазало. – Регулярно наркуется мальчик. Вгонит в венку ширячок, а потом пялит мальчиков. И – девочек... И все планеты солнечной системы. Хе, хе, хе.
– Глотнуть бы аршин портера… – сказал мужичонка-щипач.
– Глотни.
– Да и пожрать схожу заодно, кишка проснулась.
– Валяй.
Сын был близок к аншлагу.
– И что такое Дениска, – продолжал он, хлебая из кружки вино. – Он никто. Помогала. Вшивенький. Банкует и шестерит... Там перепродаст весачок, здесь другому вдует. Кормится, в общем. Наш ноль, без палочки…
– Оставь его. Он такой же, как все мы, – отвечал Кондратьев.
– Как кххто?..
– Да ладно, Сын, это я так.
– Догонимся? еще дозу? – нетвердо сказал держатель квартиры. – Ужалься, Шура...
– Я нашпигован уже.
– Ну, как знаешь.
– Сын, я пойду.
Кондратьев поднялся, цепляя пальцами заскорузлый диван, ловя ногами уходящий набок пол. Ошлепывал ладонями качавшиеся стены. В коридор – собираться.
Шатаясь – травмированный оргазмом сердца и вечностью, – Кондратьев вернулся домой.
На лифте он поднялся на свой этаж – в старом фонде, без КПР, колонка, санузел раздельный, контейнер для мусора во дворе. Ущелье лифта громыхнуло отдачей.
Штопор заставлял Кондрата держаться за лифт. Перед глазами плавали неоны и радуги, прокалывали иглами света сетчатку. Звуки, как всегда после ширки, возрастали в мозгу умноженным саундом.
С боем врезалась в пустую лифтовую конуру отлетевшая назад дверь, хлопнуло дерево о дерево, сомкнулось капканом дерево и железо. Сотряслась легким ознобом решетка. Металловое эхо, ударившись о стены, скатилось на самое дно пролета, расшиблось о бетон и умерло там, плеснув – гибнущим талым броском – еще куда-то. С лязгом защелкнулась ручка.
Было холодно, и дуло от окна, глубокие тени сквозили, пустая лестничная клетка оглашалась, как надфилем, давлением шагов; кислый свет лампы, желтым глазом, мутил сознание.
Кондратьев вздыхал и пытался взяться за стену, как за женскую грудь – мягко и трогательно, пальцами сквозя по штукатурке, усиливая уверенность. Удивленно…
Кожа воспринимала волны тепла, исходящие от горячей трубы отопления, идущие с той стороны стены. Шар электрической лампы жалил темя головы, через шапку. Электричество ощущалось как подвижная и живая энергия.
Открыть ключом он не мог – тряслись руки и заплывали глаза.
Пальцы споткнулись о кнопку звонка и указательный лег в углубление.
И не хотел покидать гнездышка. Кондрат стоял так, слушая разлитие электрического дребезга в недрах квартиры. Он слышал и чувствовал бабушкины шаги, и видел, как идет она к двери, – в ватном своем стеганом халатике, видел на уровне сверхсознания. Точно растворилась – как сахар в дымящемся чае – стена. Щелчками затвора раскрылась дверь.
Перед ним стояла бабушка. Она и вынула уснувший в звонке палец.
– Бабон! – сказал Кондрат нежно. Растянул лицо в подобие улыбки. Так, наверное, улыбаются лори. Пушистые и мягкие. Лори, когда они пьяны. И обдолбаны.
Бабушка заулыбалась, протянула руку – сухонькое чистое запястье, в диабетных прожилках, чтобы схватить внука, не дать ему упасть. Тот нежно обошел ее, цепляясь за стену и косяк, подворачивая ноги, боясь задеть ее, хрупкую, в ночном слежалом халатике, и, наконец, падая всем телом – в нутро квартиры.
А!..
Он подломил стопу в ботинке, навернулся об угол и попал телом во что-то, больно полыхнувшее острым и солнечным. Грохот раздался. Кажется, это был коридорный торшер, как это некстати, – прости, бабон, я не хотел……...
Бабушка помогла подняться ему. В силу своих детских мускулов и высохшей девяностолетней энергии.
«Бабон! все нормально, мы выпили с друзьями». Ввалился в свою комнату.
Он не дошел шага до койки, качнулся и – вязким движением, как в киношном рапиде – подрубился о землю коленом. Он лежал так, падая в сны. В звездном мареве радости, заливавшем глаза. Проваливаясь в сахарное небытие.
А назавтра были гонки.
Кондратьева штырило и впирало. Но уже не кайфом... Отходняком и паранойей.
Его садило, он зверел, сознание ломалось на куски, душа разваливалась на части. Сцепило в мозгу все шестерни... Он бредил, метался, его давили кошмары. А еще через день он сам, добровольно, сдался Брусникину в наркологию. В гнилое место, истребительное лечебно-карательное учреждение, на Васильевском острове. Подальше от дурки.
В гренадерские ручищи медсестренки Наташи.
. . .
– Ну, как тебе, давешний персонажик?.. – Шепнул завотделением Брусникин в аринину макушку. Огладил ее волосы, и легким толчком – как дыханием – от ладоней отпустил.
– Кондратьев? – Арина замерла от суровости его ласки. – Необычный случай, правда.
– Не задержится у нас это случай... – Отвечал ей. – Ну, дерзай. Вот еще двоих тебе. Извини, я больше дать не могу, чем богат, мне других врачей кормить надо.
Он хлопнул карточками о стол и вышел, не дослушав аринино «спасибо».
Арина забрала медкарты и пошла в приемный кабинет.
В коридоре бродил Кондратьев, курил из-под рукава. Увидав ее, он прояснел лицом, навстречу шагнул.
– Арина.. э, Юрьевна. Ты не сердись на меня. Ага?.. Я в детстве свинкой болел. После нее бывают проявления.
– Я не сержусь на тебя, Саша.
Из палаты высунулся паренек лет 15ти, – юркий, ершистый, в бейсбольной кепке на одно ухо. Кондратьев кивнул в его сторону.
– Это типа мой брат, Арина Юрьевна... Познакомьтесь. Виктор.
Арина кивнула, с улыбкой.
Ей было некогда: ждали на чай в ординаторской. «Потом в палату загляну», – решила про себя. А когда, спустя час, заглянула, – Кондратьев был уже один. Брат ушел... Кондратьев сидел на кровати и выглядел не самым рождественским образом. Взмокший лоб, стиснутые пальцы, бледный как яблоко белый налив. Усмешка его имела вид уже воспаленный.
Ему было херово, Арина видела это.
– Саша, хотите – у меня время есть, – пойдем, поговорим?
– Если про наркотики, может, не стоит? – Кондратьев не трогался с кровати. Лыбился. Зубами скрипел.
– Пойдемте. Мы просто пообщаемся…
Они пришли в кабинет, сели. Кондратьев буднично раскурил сигарету. Арина закашлялась. Он здесь же загасил.
– Как ты чувствуешь себя? – Арина измерила Кондратьеву давление. Пульс частил, ну – это норма…
– Спасибо, бывало и значительно лучше, – отвечал ей.
– Какие планы у тебя...
– Планы. – Кондратьев усмехнулся. Арина поймала себя на том, что привыкает уже к этой его манере. Ожидает ее даже. – Мои планы. Паббароть зависимость, доктор... – Со смешком отвечал. Торжественно и угрюмо. Глумился, прикалывал снова.
– И как?
Он переплел на груди худую силу пальцев с веслами предплечий.
– Ну, вот перестанет тошнить меня – начну бороться. – Он глянул на Арину как на законченную клиническую идиотку.
– Да никак, – уже серьезно сказал. – Неграмотная ты все-таки, доктор... Мы, опиатные нарки, прямо-таки обмечтались, чтобы начать снова курить анашу и пить сухое вино. Нам нужен этот бычий кайф?.. Настоящий кайф в игле с маком. Поэтому больничка для нас позволяет только «завязать дозняк».
– Не поняла тебя, Саша.
– Ну, значит не завязать совсем, а лишь сократить минимально достаточную дозу... За год вольной жизни мой дозняк «распускается», и лучшее дело его завязывать, когда я бываю в «калечной». А для меня, наркомана со стажем, «расфуфлить дозняк» – вообще дело месяца.
– Ты где-нибудь работаешь? – спросила, покоробившись, Арина.
– Контора по дистрибьюции компьютерной техники. Что-то вроде администратора...
– Расскажи мне о своей семье.
– Блин. Ну, что семья. Папа богатый у меня. В бизнесе рулит, – мама на подхвате… Оба, сутками, в фирме. Им не до меня всегда было. Доставал их, доставал: мам, пап, побудьте со мной. В один прекрасный день бросил. А теперь уже и сами не достают – я на другую квартиру свалил. К бабушке. На младшем брате теперь отсыпаются. Витьке... Ну, брателло крепкий у меня. Выдюжит.
– Твоя бабушка на пенсии?
– Бабон-то?.. А, да. Уже давно. Она у меня первоклассная... Такая же крейзанутая как я. Бывшая искусствоведша, да. Две книжки издала. «Балет Петербурга», и одну еще – о театре тоже. С Барышниковым за ручку держалась. Живого Нуреева, до эмиграции его – еще когда на сцене Кировского прыгал солистом, – видела, да… До Мориса Бежара вот не добралась.
– Выходит, бабушка правильная у тебя…
Кондратьев усмехнулся. Душевно, незло.
– Куда как «правильная». Она-то мне и сказала, в мои восемь лет: «Ну, чего, Шурка? Все равно ведь в школе с пацанами закуришь. Так давай, ну, попробуешь дома... Под присмотром. Моим. И я – вместе с тобой». Сама до этого сигареты в рот не брала. Так закурили. Вместе. Ага.
– А семейное положение твое?
– Холост, открыт для общения. Пойдешь в кино со мной, Арина Юрьевна?
– Саша, я вообще-то на работе. Соблюдай дистанцию, по возможности.
– Ну, не знаю! Я вижу – в целом – хренового доктора, но вот – девушка... Девушка лучше в разы. Что ж, я не могу ее в кино пригласить?
– Спасибо, Саша. Я обещаю подумать над этим... Не будем события торопить.
Стандартный ответ-динамо. Кондратьев кивнул с пониманием. Опустил – молча – предъявленную подробность: легкое движение пальчика. Безымянного. Опоясанного колечком.
– А учился ты где?
– Ну, отец хотел меня тиснуть в университет, на юрфак. Но там надо было пуп развязывать, экзамены сдавать. Хули мне было, при его-то деньгах. Я пошел в частный вуз, на платный курс... Заочка. Полгода проучился – в армию замели. На Северный флот. Морозить яйц… простите, уши.
– А девушка твоя… Когда ты понял, что что-то не ладно?
– Да на второй год армии где-то и понял. Год еще верил ей, туда-сюда. Письма строчил, – как два идиота. Весь второй год только и делал, что подозрениями мучился – она мне редко писала, звонила, а дома я вообще ее не заставал. В отпуск меня не отпустили тогда... А мой лучший друг – мы с детсада вместе – вот он ко мне приезжал. Уже будучи женатым на ней. Да, да. Я в его глаза смотрел, и не знал, – кого он трахал тогда… Я это потом все узнал. Большой для меня был fuck, – и постфактум.
– А что ты делаешь по жизни. Ну, помимо работы администратора... Как ты борешься с наркотиком. Чем.
– Арина Юрьевна, ну вы пропагандист. Какая борьба?.. Сколько мне еще там осталось. Лет пять-семь? При моей активности приемов... Зачем бороться за жизнь, – когда все равно помрешь раньше многих. Выпрыгивать из штанов.
Он докурил, забычковал в пепельнице окурок, встал, отер ладони о джинсы. Взялся за дверь.
– Кстати, Арина Юрьевна, видели в истории, – у меня ВИЧ и гепатит С... Так что если согласитесь в кино – берите презики, я вас предупредил.
Вышел.
Арина сидела и думала, – да, он привлекателен. Не только из-за глаз. Почему-то всегда привлекательна неторопливая наглость и честность. Сила организма, пускай испорченного злоупотреблением и болезнью. Наверное, его губы на вкус достаточно мягкие. Он красив, хотя и некрасив он вовсе. Неканонически, конечно... В греческом зале ему не стоять. Не между антиноями и дискоболами.
Ладно, пора собираться, Артем уже наверное дома. Голодный и необласканный. Пора.
. . .
Артем Адулас сидел в кухне, не обращая внимания на включенный телевизор. Убивал время, дожидаясь, пока Арина моется в ванной. Читать не читалось, в компьютере не сиделось, – он разглядывал свой любимый талисман, пистолет системы «смит и вессон».
Иногда он подумывал – хорошо бы, чтоб Арина была царевной Будур... Поменьше мыться любила.
Артем приложил дуло к щеке. Прохлада была чудесна, проста и внимательна. В душе мягко расцвел цветок силы. Уверенность ствола ласкала кожу энергией красоты.
Он с наслаждением потрогал прямоугольный затвор.
Сдуть, легким выдохом рта, с металла, несуществующую пыль, почти коснувшись дула губами. Холодный поцелуй, закаленная steel. Огладить, холмом под большим пальцем, бескомпромиссный ствол, простой и чистый – как чиста справедливость. Лаская фалангой указательного пальца гильотинный прогиб спускового крючка. Предохранитель не подведет, и выстрела, of course, не будет.
Артем оглядел экстерьер «чемпиона» – калибр 11, модификация смит и вессон, модернизированная американская модель, с передергом затвора за переднюю часть. Поворачивая всеми плоскостями в руке, неспешным взглядом эксперта: отстраненно и безошибочно, с блеском усталой любви на дне глаз. Любви, которую он испытывал к оружию.
Пистолет был красив и суров как религия. Спокойные линейные очертания, с нежным льдом бесстрастия. Рассудочный экстерьер, с одним лишь легким строгим поллуэллипсом – рукоятки.
– Играешься? – Арина вышла из ванной. Закинув руки, закручивала на макушке косу. – Сколько нам лет уже? Три?.. Или двадцать три?
– Не понял. Я с вами играюсь разве меньше?.. – отвечал ей. – В чем упрек.
– Вот, Ариша, смотри… – продолжал Адулас. – Кусок металла, а сколько в нем силы. Можно в тире стрелять, а можно ушлепать кого-то. Ты берешь в руки оружие, и что-то смещается в тебе... Возникает мощь, неудержимость. Человек с оружием и без него – это два разных человека. Хотя они сделаны из одного и того же мяса, и мозгов в головы налито одинаково. Совершенно не значит, что я иду по улице и думаю, кого бы ухлопать. Но спина у меня при этом в несколько раз прямее, голова выше, звук шагов тверже. Знаешь, если б оружия не было, – его бы стоило придумать... Короче, зацени машинку, жена.
– Машинка, нет слов, хороша. Но зацени жену, – сказала Арина и распахнула халатик.
Адулас поднял глаза.
Умытая, Арина была чиста глазами и лучилась кожей: электрический свет – через прорези абажура – ласкался к ней, обертывая теплым воздухом венецианского кружева. Легкие полукружия грудей вздохнули и стихли, аккуратно напряглись наконечниками из мятного шоколада. Свет с них падал и торопился в прохладный плачущий пупок, стеклышком влаги блиставший над животом. На лобке, воткнувшись копьем амазонки, струилась черная узкая язвящая оторочка.
Царевне Будур шло к лицу это – мыться.
– Дочь наша... Мы не разгневаны, – сказал Адулас, не переменяя тональности. Вессон – мягко – лег на стол. Нежнее и тише пера. Артем подошел и сжал ее шею.
Ввел курок языка между теплых и сильных зубов, ввинтил себя бедрами в горький стебель ее тела, прорисованный нитями и узорами вен.
– Аладдин. Ваша пряжка весьма холодна, – задыхаясь, сказала Арина.
– Уберите ее...
– Вы полагаете?
– Вне сомнений.
Потом, уже после, они лежали – дело шло к полуночи, но бра горело еще, – Артем скисал, его гнуло в сон, но Арина разгорелась, и он чувствовал – десяти минут разговора не избежать.
– Ну, чего твои укурки? – спросил, поглаживая ее. – Как день прошел... Был кто интересный?
– Да! мне Каэс подкинул случай, – отвечала Арина. – Хочу включить его в мою писанину... Я за завтраком все расскажу тебе. Идет?
– Идет. – Артем загасил свет. – Спи.
Арина не спала: тело сухо ныло.
«Кука, ты способна расслабиться?» – стоял в голове голос Артема. – «Я – да». – «Ну, и где ты... Что с тобой».
Тогда – ему в ответ, – она попыталась воссоздать теплоту внутри себя, переживание водопадов энергий, текущих через ее тело, ощутить мускулы и арыки своих внутренних чудесных женских садов – дать увлажнится им и взорваться цветами, послав ее сознанию, телу – спазмы света.
И снова – за головой мужа, целующего ее, – Арина увидела робкое белокожее лицо сына. Будто проступившее из темноты. Сжимавшего губы грустно, как пятачок новорожденной ягоды. Сын садился на корточки, глядел внимательно на нее – и во внимании этом сквозила печаль. Там, во сне, он уже умел говорить. И он сказал ей:
«Папа обижает тебя. Он делает больно тебе…» – «Нет-нет, детка! нет. Маме приятно». – «Ты кричишь и плачешь, мама». – «Это раньше! я больше не делаю так».
Шурка рассек между ними путеводные нити, которые отвечали за вхождение Бога в аринино сердце и тело, – то, что на языке земного человека называется оргазмом.
Наутро Артем проснулся раньше, сидел на постели, растирал глаза пальцами. Встряхнул головой. Сидел так с минуту.
– Мне снился Шурка, – сказал он Арине, просыпавшейся рядом.
Арина раскрывала глаза, потягивалась немного. Муж был теплый и родной... Она приподняла голову, услышав беспокойное «Шурка».
Артем смял веки снова, отпустил. Теплота разливалась на его лице.
– Лет пяти уже. Совсем лопушок... Подсолнух. Каким я был в мои пять. Полминуты всего, я сразу проснулся.
Арина напряглась и перестала дышать.
– Послушай, может, правда – давай, кончим предохраняться? – сказал, наклонившись над ней. – А то и мне он сниться начинает. А? Ну, тебе же легче будет… Тебе нужно заботиться о ком-то. Переключиться с… (не смог произнести). Не все же печься о своих нарках и психах.
– Никогда не будет такого второго как Шурка, – отвечала Арина.
Как отрезала. Холодом цинка. И – голодом сердца.
В горле стояла вата и влага: величиной с детский кулак.
– Тогда еще покупаю таблеток? – спросил Артем глухо. – Этих, твоих, для предохранения… Ты название только напомни.
– Я сама куплю, – отвечала мужу, бесцветно.
Он отдернул одеяло, поднялся голый. Добросил – коротко – одеяло назад. Вдел в тапки босые ступни. Ушел в ванную, молча.
За завтраком ни она, ни он не произносили ни слова. Рассказ про пациента Кондратьева остался ждать лучших времен.
. . .
Но не ждал сам пациент.
Он стоял в коридоре больницы, с пакетом в руках. Одетый для города, улицы. Стоял и выглядел обособленным – в оживленном этом коридоре. В городе. В жизни. Как будто не прирастал к ней – к этой жизни – ничем.
Арина окликнула его. «Куда вы, Саша?...»
– Меня Брусникин выписал. Я ухожу, – отвечал ей.
– Может, останешься все-таки. Ты раньше срока…
– Да нет, зачем, сейчас попроще будет. Итог-то все равно один.
– Тебе бы тут помогли... Несколько дней продержишься – физически уже отпустит.
– Героин никогда и никого не отпускает.
Кондратьев закатал рукава – рубашки и куртки – обнажая локтевой сгиб.
– Смотри сюда. – На сгибе локтя дышал свежий, как ласковое пламя порока, синяк. – Вот мои документы гнусной реальности.
Арину точно пнули между лопаток.
Мужской и точной ладонью. Без трепета. До глухой отдачи в сердце. В глазах стемнело на четверть секунды.
– Саша, ты чего? Ты подкалывал?.. здесь?!
– Ага, мне Витька притаранивал... Братишка. Ну, помните, я знакомил вас как-то.
Арина вычертила – плечами и телом – 180 градусов. Расставания.
И пошла прочь. Честно, яростно, холодно. С руническим спокойствием.
Ну же, гад. Поверила, дура! А этот наплевал… На беседы. На ее участие. Тактику! Сострадание. На……
Кондратьев сделал движение к ней, скачком догнал ее. Сказал ей быстро, чуть в сторону глядя:
– Да ладно тебе, Арин Юрьевна! Ну, не серчай… Ну, чего ты. Я надеюсь, ты не подумала, что меня яблочко в темечко стукнет, и я забуду о гере.
Арина не слушала его. Летела и шла вперед. Полы халатика развевались.
Он отстал. А она шла, красивая и чистая, ее колотило. И было тошно и горячо. И гадко. И жалко… И больно, что все так. И что вот этого – не спасти тоже.
И никого из них не спасти, никого! Пока кто-нибудь из них – сам! – в жесть не захочет.
И все это вранье: «Я вылечусь, я брошу». Вульгарное вранье. Приходят свежеуколотые, зная, что бабла на следующий укол может не хватить, или депресс их гонит конкретный. Триста тыщ раз скажут, что героин – зло злоебучее, что они хотят с этим покончить.
А спросишь такого про будущее его… Каких он тебе замков тебе не настроит! Рыдать от умиления хочется. У теток повально: «Трахаться больше ни с кем не буду – ни за дозу, ни за деньги, опекунство над ребенком верну, на работу приличную устроюсь, полдома родительского из ломбарда выкуплю...» и т.п.
А ты ешь, ешь, Арина Юрьевна! ешь и верь им – не зря же Брусникин доверил тебе работу с больными тебе: девочке-интерну. Который не доучился еще... И опыта у которого – голый ноль. А только вера, и гребаная его, интерна, ботаническая чистота. И красный диплом. И муж – красивый и правильный. За что-то любящий даже.
И……….
. . .
Кондратьев вышел на улицу.
Нет, он не ошибался, полагая, что эта молодая врачиха, Арина, бишь ее – семицветик который – она не знает подкладки этой больницы, еще не нюхала пороху в ней. А он, который бывал здесь уже не единожды, нахлебался этой каталажки по самое, знал все ее медицинское дерьмо.
Отделение наркологии сами нарки считали за семинары по обмену опытом и называли «санаторием». Эффективность лечения в «санатории» всегда была близка к нулю. Кондрат ненавидел – и вместе с тем считал избавлением – это угрюмое здание, где решетки армируют окна, и где амбарные замки на дверях.
Где палаты на десять человек, а вечерние интересы сводятся к просмотру старенького полусдохшего телека, который кажет все программы одинаково красно-зеленым. Где верхом телеэрудиции считаются Танцы на голольду, борзой Малахов, Камеди, Новые Русские Бабки и Петросян.
ВИЧ-инфицированные и гепатит С, – все вместе, одна процедурная, общая ванная, работает раз в неделю. Санитаров нет, полы моют пациенты в режиме трудотерапии, иногда их моет буфетчик. Облупленные стены – протечки, известка, поганочные грибные пятна, плесень.
У таких же, как он, наркоманов, татуированных перстнями, ножи; героин не переводится, отработанный чифирь выливается литровыми банками. Все контакты и встречи происходят в сортире, который дополнительно еще и курилка.
В сортире налажены «дороги», поблескивают – нередко – жальца шприцев. Откуда берут?.. С Большой Земли, вестимо. Особенно фартовым подгоняют родственники, друзья.
Алкоголикам – тем скармливают таблетки, колят мощную терапевтическую дрянь. Бедолаги заваливаются в сортире, в постороннем ссанье, или ползут по коридору. Один, плача, спросил у Кондрата: а какой здесь срок лечения? Тот ответил – ты, главное, дядя, не хавай этих таблеток и уколами не порись, а то пиздец тебе.
Пиздец, как и всем нам.
Сестры там, пожалуй, такие же, как и везде. В процедурной не церемонятся, напиваются под вечер, погавкивают в коридорах.
В сортире-курилке неторопливо плывут разговоры.
– Выписался через 10 дней, так ширанулся четвертью дозы – перло весь день!
– После этой больнички от барбитуры придется два месяца отходить…
– Такое впороли, что полночи искал туалет, как в компьютерной игре; обоссался – вон, трюли сохнут…
– А сколько на жену записано… теперь все отберут, б**, овца дырявая! – И кулаком в дверь, где хозяйственный инвентарь. В треск.
Иной раз Кондратьев смотрел телеигру. Поражался.
– Бля, какая память у людей на имена! Тут три раза повторишь и х... запомнишь!
Тогда, в свой первый свой раз, в этой наркологической больнице – уже день на пятый – Кондрат отказался принимать лекарства и пищу, потребовал звонка домой. Мобильники отбирали еще при поступлении. Он сказал, что уползет, вцепившись в кого-нибудь зубами – битый, истерзанный, закованный в цепи, но уползет. Видения и глюки его забылись, они отступили, ошарашенные. Они сменились новыми, которые уже не покинут его никогда.
Он вернулся домой похудевшим кило на десять, заросший волосами до плеч, абсолютно деморализованный и готовый расплакаться по ничтожному поводу. И поклялся себе, что больше никогда туда не попадет.**
И, конечно, загремел туда снова.
Но как загремел, так и вышел. На улицу.
Мороз пощипывал лицо и было свежо и остро, как бывает всегда, – когда под небом ниже 15ти.
День, и воздух, и морозец – и переживание кожи лица, – напоминали ему тот день, когда он первый раз попробовал героин.
В подъезде, на сигаретной пачке. Только что выйдя от продавца. Он разделил тогда героин на две дороги.
Отсек лишнее телефонной карточкой и сбросил в пакетик. Скрутил из девственной сотки нюхательную трубку. Выбирал дозу, вжимал ноздрями растворимый экстаз, впитывая порами легких прохладный дух, шедший через бумажное дуло. Отсасывал носоглоткой нежную космическую пыль.
Тогда на нем была кожаная куртка с мехом. По пояс. Молния расстегнута, потому что подъезд, и на улице минус 15.
Через пять минут куртка все еще расстегнута, на улице всё те же минус 15, но уже неважно. Проводишь рукой по лицу, медленно, и этот жест остается на долгие годы. Как будто лицо его ужасно устало, и его хочется оттянуть вниз, как в каком-нибудь мультфильме, а оно со щелчком и реверсией встает обратно, но усталость не снимается. Тебе так только кажется. Глаза прикрыты, их внешние уголки опускаются вниз, ты суешь руки в карманы.
Говорить о чем-нибудь не хочется. Кайф настолько сильный, что закладывает уши. Минус 15, куртка расстегнута, но это неважно, сигарета в руке, она предпоследняя – и думаешь, что надо купить простой LM – они покрепче и именно то, что нужно.
Ты чувствуешь себя охуительно. Как будто рай можно пощупать руками. Он в каждой клетке твоего тела.
Кондрат стоял и погружался в новый для себя мир.........
Он однозначно был лучшим из всех миров, в которых он успел побывать.
Двери познания открылись и он заглянул туда – на другую сторону. Он расчесывал свой нос и блаженно улыбался в никуда. А потом он проблевался.
И после рвоты на него накатила новая волна кайфа.
Он стал оглушительно счастлив и самодостаточен в своем эгоцентрическом счастье.
Пришло забвение собственной слабости. Все худшее в нем умерло. Истлели, стерлись страхи, неуверенность в себе, в собственном будущем.
Постепенно – стэп бай стэп, – гера избавляла его от всех вокруг – даруя взамен себя. Себя и ничего больше.
И это напоминало служение.
И он отказался от всего, ради того, – чтобы становиться единым целым с Нею день ото дня. Все остальное перестало иметь свое значение.
Она заменила его личность своей собственной, – собственной, готовой абсолютно на всё, лишь бы задержаться в мире, а значит и в его теле, на как можно более длительный срок. И он стал Ее раб.
Раб, – который за удовольствие поглощать духовную пищу, шаг за шагом, лишался своего собственного духа. И это была высокая пошлина.
. . .
Оружейный салон «Арбалет» был элитный и крохотный: пять человек персонала.
Небольшой зал, дверь и напротив прилавок, изогнутый буквой Г, окно во всю стену – слева от двери. Касса и стул охранника – оба у входа. Стеллажи с оружием, у двух продавцов за спиной. Свой тир, договор с концерном UMAREX, доступ к серьезным и лучшим игрушкам, непыльная мужская работа.
Артем Адулас работал здесь второй год, закончив юрфак. Юристом и – на паях – продавцом.
Он любил холодный воздух салона, шедший от черных плиточных полов, от угольных графичных оружейных стволов, прорезавших витрины, макеты и стенды. Их красивую честную статику смерти.
Артем был рыж как опаленная пожаром трава.
Шея его была вытянута, жилиста. Некрупные уши, прижатые к голове, волосы ершом, поднятые кверху. Джинсы – провально пустотелые – на совершенно плоском заду. Исколотое угрями и веснушками лицо. Неровная кожа на скулах и резьба двух или трех мимических складок возле рта. Плоский, сухой и непомерно костлявый – вешалка вешалкой.
На свой первый оклад в «Арбалете» он купил пистолет. Смит и вессон, калибр 11, тот, что в ходу у американских армейцев.
Выдирая пальцами картон, он вынимал пистолет из коробки, стараясь не сломать уголки, и ломая их непроизвольно. Он разворачивал росу полиэтилена и выпрастывал из громкой шелухи обертки крепкий и нетронутый остов «чемпиона». Тот был прекрасен как сама невозможность. Его можно было гладить и прикладывать – чувственной лаской к щеке; тот отзывался прохладным пониманием.
Инструктор Леня Осадчев – маленький парень без возраста, румяный как школьник, с нитями лунных волос в голове, спортивный стрелок, кандидат в мастера – учил Артема стрелять.
– Артем. Спокойно! Оружие – это женщина... Твоя кожа, твое ощущение себя. Мускулы сердца, ты понимаешь? Управляешь им четко, уверенно.
Рука медленно привыкала к оружию, его балансу, положению в руке.
Отрабатывал хват – максимально фиксировал рукоятку без тремора мышц. Сжимал пистолет в руке до появления дрожи, затем ослаблял силу хвата, пока не исчезало дрожание оружия. Закреплял кисть – жестко – в лучезапястном суставе.
В тире он выводил руку в цель, не глядя на нее. Добавлял выхват оружия из-за пояса и досылал патрон левой. Отделывал чистоту хвата двумя руками и одной рукой. Спуск в холостую, до автоматизма. Скорость удара. Технику спаренного выстрела, строенного выстрела, серии из 4х и 5ти.
Жена Аринка пришла в его салон лишь раз: с целью поразить его сотрудников.
Почему нет? Поразить, и при этом не обнаружить свой статус. Такая маленькая замечательная женская игра. Артема она не предупредила.
Зато подготовилась всесторонне. Взяла полушубок у Светки, искривший собольим серебром. Причепурилась… Лиловые узкие джинсики, бандана, из-под которой сыпался шок ее волос. Слегка кинула брошку, туда-сюда колечки, специально поперлась зачем-то в солярий.
Ногти Аринка красила с удовольствием и упоением. Сделала долгий и прихотливый мэйк-ап.
В таком драматическом виде она подошла к прилавку Артема.
– Мне нужен пистолет, – заявила она, блистая серьезно глазами, полными чайных слез, с лавиной волос до крестца, залитого джинсами стрейч.
– Вам? Пистолет?.. – сказал Артем, слегка изумившись. – По мухам стрелять?
– У меня строгий муж. Мне нужна защита. От него...
– Му-ууж, – сказал Адулас, не переставая изумляться. Слегка.
– Любимый, кстати, – прибавила она.
– Электрошокером его, – отвечал он улыбаясь.
Арина красиво и талантливо возмутилась.
– Вы продавец? Продайте мне пистолет.
Инструктор тира Леня Осадчев глядел на них с любопытством.
– Девушка, ну зачем вам пистолет? – Артем обпер о прилавок локти, сделал гримасу. – Вы что: в состоянии стресса сумеете быстро выключить предохранитель? Дослать патрон в патронник? прицелиться?.. Берите револьвер! Это проще и безопасней. Направили на человечка. Нажали на крючочек. С человечком – муэрто. Опять же – в сумочке носить легче.
– Покажите, – приказала она.
Артем достал с полки умарексовский Викинг – травматическую игрушку, бьющую резиновыми пульками, баловство чуть-чуть пострашнее баллончика. Умарекс хлебнул с ним по полной, из-за прописанной в законе об оружии пресловутой «бесствольности». Но не спасовал перед этим.
Арина повертела револьвер, слегка подкинула в руке, сделала вид, что намерена забрать. Адулас высвободил игрушку рукой за ствол.
– Арин, ну все. Шагай домой... – сказал ей негромко.
– Поцелуй меня.
– Послушай, Осадчев меня не поймет.
Леня маячил за прилавком, перебирал что-то в ящиках, наблюдал за ними искоса в отдалении.
– Пускай он думает, что ты плейбой, – настаивала Арина. – Поцелуй...
Артем перегнулся через стойку и мазнул ее губы ртом. Снял револьвер с прилавка и убрал его на стенд.
– Знакомая? – спросил незначительно Леня, когда Арина ушла. Адулас приподнял бровь, подержал ее две секунды. Вернул бровь точно на место.
– Моя Аринка… – обыденно отвечал. – Жена.
– Мушкетер, не будь я сам женат, я б за такую лег на асфальт, – сказал Осадчев негромко. Как бы между прочим. Поглядывая в товарные чеки.
– Асфальт уложен, Леня, – отвечал Артем улыбаясь. – А, впрочем, спасибо, брат...
С того дня за Адуласом закрепился ярлычок «счастливчика в браке», а он не отрицал.
Тем паче, что это была правда, – ащще и совершенная правда, да и льстило это, в общем. Потеря ребенка только прибавила весу золотой монете: браку его. Вместе несли, вместе с болью сражались.
Подводные камни своего брака камнями он не считал. Так, надводные мелочи…
Арина была никакая хозяйка, готовил ужин почти всегда он, – подчас это в корягу Артема напрягало. Иногда он пинал плиту и хлопал дверцей СВЧ (зарраза). Но куда было деться ему?.. Арина приходила отжатая, – после учебы и после смены в больнице: ни руки, ни ноги не поднимались.
Молодую ячейку общества спасали супермаркеты и фастфуд. Бесперебойные пельмени, картошка фри, окорочка и двухминутная овсянка Быстров. Овощи из пакета и такая вонючая лазанья, что запирало дыхание. Но Арине нравилась эта жуть, и Адулас терпел.
После ужина у него доставало еще сил расспрашивать Арину о текущих зачетах, о преподах, очередных кавалерах подружек и ее собственных больничных клиентах.
– Ну, как там твой отец-героин Обкумаренко?.. Ну, этот, твой случай знаменитый?
– А. Он уже ушел... Раньше срока.
– Мм! У Обдолбащенко случилась внеплановая линька... Много пера потерял? Жаль порхатого, от сердца. Ну, туда им всем дорога. В конце концов.
Артем варил Арине кашу.
Заправлял маслом, кидал здоровую ложку клубничного желе. Ставил перед Ариной на стол, следом подкатывал к тарелке не менее здоровую чашку горячего чая. Добрасывал кусок хлеба с сыром – на блюдце. Домашний макдональдс работал как часы, с перерывом только на выходные.
Одним словом, Адулас Артем был весьма неплохим чуваком.
…
Таблетки купил все-таки Артем – Арина, конечно, забыла.
Десять минут, пока таяла капсула, Артем накрывал рот Арины поцелуями. Сажал поцелуи осторожно на теплую почву ее губ. Потом переплелись. Раскрылись легкие внутренние крылья ее сердца. Сердце Арины плакало загубленным счастьем…
Спокойный бивень его сострадания лег в мускулы этого сердца. Замок их был почти совершенен. Они не могли расторгнуть его несколько горьких и сильных минут.
Под утро Арина снова видела сон. О сыне.
Шурка был тихий и серьезный, лет уже пяти. Каким снился Артему тоже.
Сын подошел к ней: внимательный, рыжий, глазастый и деловитый. Без улыбки почти.
Он поднял ручонки и открыл дверцу, за которой отстукивало аринино сердце. Морща губки, он достал сердце и подержал его так – с великим напряжением – минуту. Как какую-то драгоценность: бесценную машинку там, или солдатика в полной боевой амуниции. И сказал: «Мама, ты не бойся. Я не уроню!» И – не дыша – он нес прочь аринино сердце: на вытянутых руках.
Сон ударил по ней...
Арина оползла на пол – без лица, с глазами красными, точно в белки были выдавлены две капли брусники. Пальцами, прозрачными как гильзы из папиросной бумаги, она перехватывала свои колени и зажимала рот – попеременно – чтобы не рыдать.
– Я больше не могу! я не могу, не могу…
– Я скучаю по нему. Не могу спать….….... Он стучится в мое сердце, – плакала Ариша.
Она твердила. Шепталась. Кусала пальцы, обнимала Артема за шею. Влагала губы в нежный надкушенный порез его рта. – Он был – ТЫ... Он был ты, только маленький! КАКТЫ.
– Артемка! мне нужно в церковь…
Артема отпускало; она плакала, а он вздыхал, сжимал и целовал ее сандаловые горькие волосы.
– Ну, чего ты… У нас еще куча будет таких как я. Куча!
Он обнимал ее кольцом рук.
– Ну, тише, все… Ты хочешь в церковь? Ну, давай еще раз сходим в церковь. И давай купим тебе успокоительных каких-то. Ну, кто из нас доктор? Вон твои нарики – пырнутся, и жизнь прекрасна… Мы-то чем хуже? валерьяночка? Пустырник? Что там еще… Ты спроси у Брусникина – какая таблетка помогает от стресса. Пускай он выпишет! мы купим.
Нарики? Арина обтерла глаза... А ведь – нарики, правда. Наркотик это не то, что транквилизатор. Это мощнее, и это – разово! – быстро поможет.
Артем – того не зная – сам назначил выход. И вспомнился вдруг – Сашка Кондратьев.
. . .
Почему-то ему она доверяла больше всего.
Но спрашивать что-нибудь «для забвения» – у Кондратьева… Как он среагирует на это. Конченый этот стебок.
Арина подняла в архивах его телефон. Два дня она рассматривала цифры, покусывавшие бумажку. Дозвонилась на домашний с третьей попытки, почти растеряв присутствие духа, – дважды она попадала на бабушку.
«Ого!» – сказал Кондратьев, когда услышал, кто звонит. Он обалдел.
– Могу я поговорить с тобой, Саша? – сказала Арина. – Я не хотела бы в стенах больницы...
– Ну, давайте. А о чем…
– Ты мне расскажешь, как ты живешь сейчас... Чем дышишь. Мы пообщаемся в неказенной обстановке. Скажем, в парке Муринский ручей... Я там живу недалеко. Это не займет много времени.
– Типа, чего я делаю битыми днями? – усмехнулся Кондратьев. – Я вроде даже работаю. В смысле – пока еще... Ну, ладно, валяйте, доктор.
Встречались в полупустом и простуженном парке. Не жарко было, конечно.
Начало апреля, чуть ветер, но уже полностью сухо. Чудесные нагие деревья: сухопарые как насекомое палочник. Небо в полгоризонта. Птицы – как клочки и росчерки сажи. Подножная грязь, с зимы, таращилась и лезла отовсюду. И казалась почему-то особенно беспардонной – в отглаженных простынях веселого солнца.
Арина ждала Кондратьева на скамье, кусала губы, мяла сумочку. И думала – как она расскажет ему о деле. О том, зачем позвала. И что сказать?.. А что опустить. И вообще, какой он теперь – месяц-то спустя?
Не начнет ли стебать ее и подкалывать… Усмехаться как отъявленный школьник-оппортунист. Упирая на пиковость ситуации. Нежнейше лыбясь в глаза. Ага, вот так… И еще – куря вот этими стрелами, и вот так делая пальцы.
Блин, уйти совсем, что ли…
– Привет! Ты извини, я в пробак на микрашке попал…
Кондратьев подскочил – на редкость свежий, в путевой куртке. Неплохо острижен. Не сказать, что наркоман. Если только на дне глаз – известковые отложения потаенной тоски. Абортированные последствия свиданий с Богом и вечностью.
– Здравствуй, Саша, – отвечала Арина. – Как ты?..
Пахло от него силой, упрямым теплом, крепким холодом воздуха, неизвестностью. И, конечно, была в лице усмешка, – но немного как бы тише, вопросительнее, что ли.
– Я нормально, я в своей колее, и этим счастлив, доктор, ты ведь не за этим позвала меня, а?..
«Нет», – отвечала себе самой Арина.
Он всунул сигарету в угол рта, разжег ее. Слил на воздух первую и сильную стрелу. Никотин вылетел и погас нитяной белокурой торпедой.
– Я – в системе. Мне не соскочить. Да и не могу. Нет замены гере, нет, понимаешь... Нет другого рая – для меня.
– Саша, ты не пробовал жить «скучно»? Иметь постоянную работу, друга хорошего, семью...
– Я?? – Кондратьев скорчил гримасу. – Лучший мой друг – это я сам. – Сказал через зубы, не вынимая сигареты. – Кто не с наркотиком – тот мне не друг... С тем мы говорим на разных языках. А те, кто сидят на кайфе – тем я не верю тоже... В любую минуту подставят, заложат. И придавят, если что не так.
Он приблизил к ней лицо, прошептал очень ласково. Отведя сигарету в руке:
– Если выйти из их круга. Перестать давать им – барыгам и дилерам – наживаться на себе… Понимаешь меня, доктор?
Она все понимала. Этот мир…
Мир Кондратьева, мир таких как он. Этот мир не имеет принципов. И, прежде всего, казалось ей, – принципов любви. Кристалл наркотика для них – безотказная религия и наилучшая любовница. А для барыг они – ребята, девочки, – пыль и мусор, способ накачать деньги. Машина по отсосу денег.
– Чем я могу помочь тебе, Саша?
– Помочь?.. Мы разве не выяснили в больничке – что ничем? Доктор, я не начал подростком, я сформировался. Все это было сознательно. И вытаскивать меня – неблагодарная работа... Можно только упасть, со мной вместе. Ничем, Арина Юрьевна. – Он похлопал ее по руке.
Арина не могла решиться. Перебирала варианты его – Кондратьева – реакции, и то, как она ответит на возможные издевки его, и приставания, если там что…
Наконец превозмогла.
– Саша, скажи, ты мог бы… Помочь мне достать что-нибудь из кайфа.
Что-то в ней заколотилось, холодком задышало, задрожало солнечной дрожью. Внезапно запотели ладони, подмышки. – Мне нужно что-то… чтобы отключиться.
Кондратьев усмехнулся, перекинул сигарету – из угла в угол – во рту.
– Ого! Доктор, да вы радуете меня… Какая резкая и славная перемена курса. Что-то случилось?.. А чего, медицина не может себе выписать рецептик?!
Это был тот же Саша – честный, циничный, изломанный.
– Медицина может многое. Но не может всего... Пожалуй, я пойду.
Арина поднялась, Кондратьев перехватил ее за пальцы.
Черт, и это было первый раз – пальцы – у них.
Арина не знала, что у него такие упрямые, дикие – серьезные – насмешливые пальцы. Как пожатие радости, которая кончится через вздох.
– Сын? – спросил Кондратьев коротко.
– Ты откуда знаешь... – В изумлении сказала Арина.
– Мне Кудыкин рассказал.
– Да. Шурик. Сын... Знаешь, я вижу сны. Их трудно переносить. Они не уходят. Саша, мне нужно вырубить себя из реала. Хотя бы раз…
– Хорошо, давай. А что бы ты хотела…
– Мне нужно что-то. Что обычно принимают в начале?.. Вот ты сказал: «медики… сами». А я не умею даже подделывать рецепты! Для меня это – петля. И я даже спиртного не пью... Только шампанское, три-четыре раза в год. И кроме кокаина – тогда, единственный раз – я не пробовала ничего.
– Смотри, ты подсядешь. Нужны будут деньги... Раз от разу все больше.
– Я не стеснена в деньгах. Муж полностью меня обеспечивает. Не подсяду... Мне только раз. Ну, пару, может.
– Вот, вот. «Пару». А за парочкой – десяток... Но я не против, я молчу! нужно так нужно. Здоровья, я так вижу, тебе не жалко?
– Ты что, не понял – мне один раз... Просто – раз. Снять напряжение.
– Хорошо, тогда давай попробуешь буту… Кислоту, может. Потом, ну… догонимся чем-нибудь. Это для старта.
– Давай. Ты только скажи, сколько взять денег. Какие расценки.
– Ну, пару тысяч возьми. Там – как пойдет... Это на круг.
– Где ты передашь мне? здесь?
– Я приглашаю к себе… – отвечал Кондратьев. – Я живу с бабушкой. Только давай ты не будешь – там – исповедовать меня, как я дошел до этой моей жизни. С богатым папой и элитной бабкой, державшей за руку Барышникова. Почему я каждые два месяца меняю работу. Не имею семьи… Дую в вены всякую срань. И почему один раз я сп** дил у бабушки серьги (а ты думала). Когда нечем было перекрутится. Воздержимся от исповедей, ага?..
– Воздержимся, – сказала Арина. – И еще: я могу только в субботу. Я учусь и работаю. Больница выматывает меня. Вдобавок, ночами я пишу. Работу тоже... Большую, научную. О наркоманах.
– В субботу? Отлично! О, так я же – плацдарм для изучения. Опытный, так-скать, экземпляр... Опробируешь меня. Ага? Или – я те…
– Ты не экземпляр. Ты – трепак и клоун. – Арина поднялась со скамьи.
Кондратьев не слушал – он щелкал телефон.
– Давай назови номер мобилы. Я тебе скину адрес эс-эмеской.
Назвала. Условились на десять утра в субботу. До метро он ее довел, а по пути трепался и дважды – легко и беззастенчиво – брал Арину за пальцы. Присваивал ее пальцы себе.
Полдня еще оставалось у Арины незанятых, и она поехала к Шурке на кладбище.
. . .
В принципе, рассуждала Арина, – Кондратьев, наверное, встретит ее по-кавалерски. В постиранной рубашке, свежих штанах. Разве что не с цветком в зубах… как там еще женщин встречают.
Когда она позвонила в дверь, он открыл ей через полторы минуты. Неторопливо открыл, в общем.
Глаза были у него мутные, он качался.
– А! проходи… – Он был уколотый.
Жестом он указал ей на крохотный пятак прихожей. Арина надела мягкие войлочные, наверное, бабушкины тапочки. Огляделась. Теснота, хлам и длинный коридор, потолки с темнотою и пылью, коробки на высоком шкафу. Резко пахло коммуналкой. Они прошли небольшую раскрытую комнату – два арочных окна, кушетка, стол и книжные полки. Накидано там было не пойми чего.
– Это вот моя нора, – кивнул туда Кондратьев. – Пойдем, у бабона отметимся…
В другой комнате – дальше по коридору и большего размера – стены были покрыты картинами и эстампами, стояла оттоманка, буфет, телевизор, пожилое фортепьяно «Красный Октябрь». За круглым столом, посередине комнаты – под желтым абажуром – сидела бабушка. Она раскладывала пасьянс.
На окне росли и ветвились калеки-растения, какие бывают они у глубоко пожилых. Вроде бы здоровые и нормальные, но каждое с каким-то увечьем, – мумифицированный лист, песком подсохший стебель, опавший мертвым птенцом или насекомым цветок.
Бог весть когда и кем протертые поддоны. Среди растений белелся кувшин с водой, старинный, с надутыми, как щеки лебедя, боками.
Дарья Кондратьева имела два высших образования, цистит, болезнь суставов, две изданных книги, множество учеников и публикаций, обветшавшие связи в культурной среде Петербурга и 91 год от роду.
Кондратьев взял Арину за плечи и втолкнул в свою комнату. Подтащил стаканы с кухни, бутылку воды, извлек из шкафа пакетики с чем-то толченым.
Арина отдала деньги, Кондрат сунул их в карман джинсов. Никакого миндаля он не выказал – точных подсчетов, сдач и тд. Деньги разумелись.
– В венку будешь? – спросил он, как спрашивают: «чаю или кофе». Запер дверь на шпингалет.
– Мне нельзя колоть. Артем увидит руки. – Отвечала Арина.
– Ну, «один раз – не пидорас»…
– Один раз – это м н о г о раз после.
– Ты права. Ладно. С венками позже тогда.
Кондрат что-то бодяжил в стаканах, потряхивал, взбалтывал по кругу, – Арина не следила за технологией. Спидбол – кажется, так называется это. Она секла в арго наркоманов, но арго был подвижен – обрастал, как плющ, дикорастущими словечками.
– Ну, как живешь? – спрашивал Кондратьев Арину. Продолжал размешивать, сравнивать, отмерять, добавлять. Протирал стакан пальцами, вертел им, брал на просвет.
– Ты думаешь, я скажу тебе: «айм файн»? – отвечала Арина. – Ошибаешься. Я не живу айм файн. Я живу плохо, Саша Кондратьев…
– Сюжет знакомый, – отвечал он. – Знаешь, помню, раз – я болел. Аж целых три недели! Валялся в четырех стенах – ужас был тогда для меня. Едва дождался, когда на улицу разрешат нос показать. И вот когда показал – после – я понял: НИЧЕГО не изменилось!.. Только птички пели громче, потому что гнездовались. А мир вращался точно так же. Он не заметил бы, если б я не вышел еще сто лет... Никто не ждал меня, Арина.
– Тогда я понял первый раз, – продолжал он. – Мир бесстрастен к тебе как к единице. Мы все ждем, что кто-то ВДРУГ посмотрит на нас… Оценит нас! сделает к нам шаг. Полюбит нас и не предаст. И – будет в нас верить. Верить!.. Арина, я готов был горы свернуть за того, кто верил в меня! И что, в результате, нашел? Измену, обман, равнодушие, ложь, гуттаперчевые души паяцев…
– Я понял дальше! Жизнь внешняя – это параша. БОЛЬ. Предательство, равнодушие, насмешка, страдание… Юзание друг друга под маской дружбы, любви. А больше – в целях комфорта, морального удобства. Люди присасываются друг к другу как инвалиды – встречаться, жить вместе, обнимать тела друг друга, кормить тела тостами по утрам. Размножать их... Следить ревниво, чтоб не размножались с другими. Создают отдельно взятый рай на тридцати квадратных метрах. Но рай живет и существует ТОЛЬКО внутри… Жизнь души – вот единственная ценность. А все, что вовне – говно в шоколадной обертке. Пустопорожний спектакль. Реальная жизнь дерьмова, Арина...
Сашка растряс бутылку, оценил консистенцию и остался доволен.
– Живешь, – отвечала задумчиво Арина, – и не думаешь, что счастлив... Так – день за днем. А посмотришь назад – после, потом! – и видишь: да это было попросту блаженство. Маленькое чистое блаженство. – Он помолчала. – Я поняла тебя, Саша. Все бы ничего… Но только для своей души – ты убиваешь свое тело.
– СВОЕ, Арина! – Кондратьев ударил себя ладонью в ключицы. – Я никому не делаю вреда. Никого не трогаю, никому не лезу в душу... не порчу тоже никого.
– И все-таки... Считаю, что жизнь – это счастье. – Как зомби ему отвечала.
– У тебя сын умер… счастье!
Лицо Арины помертвело. Свет соскочил с ее лица – точно задернули занавеской окно. Она сжала пальцы, впилась в плед ногтями.
– Он у меня был, – проговорила с трудом. – Я его ЗНАЛА! Я видела эти глаза. Эти руки! Я держала их – в собственных руках... Я слышала стук его сердца. – Губы Арины задрожали, затряслись. – Бог надел его тело, и обнимал меня – ИМ. И если он перестал обнимать меня через ребенка – значит, он мне готовит что-то другое. Он обнимет меня – иначе!.. Через другое тело и другие глаза. – Арина напряглась, смотрела в одну точку. – Ему знать лучше, к а к будет лучше для меня. Для моей души, ее роста… Моего развития! блин, иди к черту, я ухожу.
Волной она поднялась с кровати.
Кондратьев – коротко – влепил в ее плечи обе ладони. Неторопливо к себе повернул.
– Арина!
– Арина, прости. – Задержал в руках плечи. Отпустил. – Я сволочь, уебанец. – Стоял, кусая губы. – Но я не всегда был таким... Я был честен! я верил. Я страдал, черт, веришь мне, Арина! это дорогого стоит... Я на этой вот шкуре знаю – ч т о такое страдание.
Он сгреб свой ворот, тряхнул. Сел – мешком – на койку.
Арина опустилась рядом, совершенно молча.
– А знаешь, почему все?? – продолжал он. – Потому что мир – суки… Потому что в этом мире все тебя предадут. Только кто-то тихо и не палится, кто-то громко и с вызовом, что прав. Скажешь нет?!.. Знаешь, если бы меня еще раз спросили «за что», – я бы ответил: за то, что по натуре человек – блядь. Мужчина тоже, но особенно женщина!..
Он сжал зубы и свел в единое пальцы.
– Да! я нашел мой рай – в гере. И это есть мой наилучший роман. Я честно плачу за это, Арина! Мозгом… Жизнью, кровью. У меня раздерганы нервы, мое здоровье сыпется. У меня бывают гонки... Меня режет и глючит. Ужасы давят меня. Бредовые мысли разнимают на части.
– Но у меня есть высшие минуты, – Кондрат взглянул на нее резко. – И это такой экстаз, какого ты во сне не можешь себе представить... Я продал жизнь – за эти минуты, ты понимаешь меня?
Он отвернул лицо от нее, окунул глаза в ладони.
– Понимай меня, Арина. Не говорю уж – люби.
– Я хочу помочь тебе. Но как?..
Он молчал, глядел перед собой.
– Никак. Может быть, просто – не суди.
Он взялся снова за бутылку, двумя взмахами докончил разбалтывать. Разлил на две порции.
«Пей». – Протянул ей стакан. – «Что это». – «Пей, не спрашивай. Ты расслабиться хотела. Растаешь как сахарная вата на солнце».
Он включил магнитолу. Ударом пальца послал в эфирное путешествие невидимый CD. «Билл Каулиц. Том Каулиц. Токио хотел». – Так и сказал Арине «хотел». – «Немчики забойны по части вокала. Эти младенцы особенно».
Младенцы, точно, забивали. Арина слушала, потягивала из стакана коктейль. Кондратьев пил и посматривал на Аринино стройное тело, на ее ногу, качавшую в такт музыке носочком туфли.
– Потанцуешь? – искоса спросил.
– Бабушка ведь услышит твоя.
– Что услышит бабушка? Как мы танцуем?.. Моя Даша – лучшая бабка во вселенной. Она сюда не войдет, – даже если мы на вот этой люстре трахаться начнем. Да и на ухо она туговата…
Неплохо для первого раза, подумала Арина. Но чего ожидала она, раз сама пришла сюда…
Пришла – расписалась в доступности. И здесь уж не лги самой себе, Арина Юрьевна.
Она молчала, глядела в одну точку – точка мутнела и расплывалась.
Арина отекала глазами – Кондратьев казался ей ангелом, ненароком испачкавшим крылья в гудроне, – руки, ноги: все человеческое, а крылья – ангела… – гудрон вязко капал с пуховой чешуи сашкиных перьев.
Кондратьев замедлился, он залип и завис – его взяло с пойла тоже, хотя он без этого был накачан. Он глядел в аватар арининых щек, татуированных нежностью.
– Как ты? Получше?
Он засмеялся, ему полегчало – наркотик пробил кровь.
– Расплетешь свою косу, ага?.. – Сказал ей слегка подтопленным голосом. – Я хочу посмотреть. Ну, чего ты... Давай.
Арина развила – запинаясь фалангами пальцев – белые, как неотбеленный хлопок, волосы. Наркотик укладывал ее в горизонталь, она вытянулась на сашкиной койке, – койка казалась плотом, текущим в софитами слепившую вечность……….
…………………
«У меня в голове облака, а не мысли». – «Тоже». – «Я хочу чистого снега... лицом зарыться. Тронь меня, я жив?»
Откинул, бережно, руку ей на грудь. Тронула. Был жив – как уходящее небо. «У тебя рука такая белая и с сеточкой», – сказала ему. – «Сними. Она такая безобразная».
Слил исколотую руку с груди. – «Тогда ты положи мне. На живот... Свою щеку. Я почувствовать хочу. Не так... Рубашку задери». – Арина смяла его рубашку, заголила пупок. Сползла к нему, примкнула щекой. Затихла, слушая его пульсации. Жизнь билась в его животе слабыми и солнечными сгустками. Нежность за горло взяла. – «Кондратьев, я не могу». – «Лежи так! не убирай»…………..
Остановилось и склеилось с вечностью время.
Поднялись с кровати – нежные как два цветка, перевившие стебли. Он гладил ее, распускал руки. Ворошил ее волосы. Влагал в них пальцы, нанизывал, путал.
– Гнездо кукушки у тебя. – Засмеялся. Подержал ее ворох, короной на голове. Опустил, растрепал. Оборачивал ее шею – признанием пальцев. Легкими, как дождь или свет. Целовал, точно слизывая воздух с ее рта. Едва.
Едва слышно.
Едва.
– Мне пора. – Арина, с мукой, от него оторвалась.
– Погоди, у меня человечек есть один... Щас подбросят тебя домой.
И, выйдя из комнаты, он говорил. «Рома, денежка нужна? Ну, давай ко мне... Мою подругу хорошую отвезешь. Такса как обычно. Часам к пяти давай, под аркой... ага?»
Арину побросил домой в Мурино мужичок на красных, пропыленных – как палатка бедуина – жигулях.
И в квартиру Арина вошла веселая, расслабленная и живая.
– Чего довольная такая?.. Откуда ты? – спросил Артем.
В глубоких карих зрачках ее не заметил расширения. Соцветий нежности. Последышей стыда, загубленной совести, кайфа.
«У меня в «Арбалете», сегодня, – начал рассказывать он…….……. Да ты не слушаешь».
. . .
Ночью Арине снился Кондратьев.
Она не раскрывала глаз, сознавая, что сон, – продлевала ощущение, зарождавшееся в спелом и мятном, как цветочное дыхание, ободе матки. Там заплеталось слабое биение.
Кондратьев вступал в ее сердце, похожее на сумеречный театральный зал, – с багряным бархатным занавесом по краям; – он раздвигал занавес широким протестом распахнутых рук – жестом фашио, гильотиной диктата, – распахнув, Сашка входил так, и стоял, глядя в ее глаза – Аринина одежда истлевала под его глазами……....
Ей снились фантастические картины.
В них был Сашка, – она шла в эти картины, похожие на гаремно-расточительные, иноземные ландшафты кинолегенды Аватар… Арина натягивала стрелу сердца, чтобы отпустить тетиву и пригвоздить Кондратьева к небосводу своей ломкой перламутровой нежности.
Он, безусловно, был ее раб, – еще со времен мезозоя, когда волны заката золотили ее кожу.
Ей снилось, что он шел рядом, повинуясь безгласному щелчку ее пальцев.
Готовый в любую минуту издать трубный рокот, и рыком своего голоса поднять клубы страха на загривке встречного зверя... Ужас зверя дыбился, шкура позади шеи поднималась ершом, мурашки прокатывались по телу зверя укусами москитов. Зверь осаживал лапы, жался к земле тряпицей безвольного тела с горевшими страхом глазами, – а он, вильнув тяжелым упругим хвостом с медной кистью, медленно встряхивал гривой и благодушно смыкал клыки. Выдыхал облачко горячего воздуха.
Там, во сне, они гуляли – странная пара, несоразмерность во всем... Тонкий аист ее фигурки был точным перпендикуляром его остова, упругого как жгут смерча, красивого как свирепое полдневное солнце, – золотоцветный лев с красной гривой, волокнами лучей разметанной вокруг замшевой морды.
Дни вырастали, смешались континенты, темнели ее волосы, завиваемые ветром, сужались от ветра глаза, – черты лица ее, похожие на маску юного бэтмена, обнаруживали в себе что-то сарацинское – махаоны насурьмленных ресниц предвещали бедуинский плач.
Морда льва теряла свой охристый теплый бархат, загар густого ворса мутировал в батист нежнейший кожи, – позвоночник обретал вертикальное положение; он обращался в юношу, до холодной смерти прекрасного, завернутого в хлопок пустынного плаща, с тюрбаном поверх непокорных волос, пятнавших плечи черными кольцами.
Они оба были дети пустыни.
Дети разбойничьего племени, промышлявшего в песках грабежами. Дед их был старейшина рода, отъявленный сорвиголова; отец сложил голову в схватке. Сын не унаследовал от них страсть к скитаниям и бретёрству – он был меланхоличен, нежен, рассеян и хмур. Не скакал по щекам барханов, с ружьем наперевес, не разрывал воздуха сатанинскими гиками. Не гремел сбруей и карабинами оружейного ремня. Не вспахивал пустыню в фонтаны желтой порошковой слюды.
Днем мать и прабабка заставляли ее ткать – вместе с другими сестрами. А вечером он катал ее на старом верблюде, покрытом седой волокнистой шерстью.
Они были погодки, исход семнадцатилетия – глаза их отражали огни и клинковые тени песчаной тоски.
Он был одинок… На закате лежал он спиной на циновке, приручая желтые звезды, а она ложилась рядом. Расправляла складки своего платья, запутывала его пальцы со своими, слегка отняв от своего лица покрывало. Она не стыдилась его – он был брат. Они лежали так и смотрели на звезды. Незаметно перемещала она руку на его грудь, переплетала руку со складками его холщовой рубашки: она ожидала ответа его… Он лежал без движения и только дышал, поднимая свое дыхание к звездам.
И потом он целовал ее рот, – и загибал назад ее голову, продевал в волосы пальцы – простым и точным движением. И совершалось проникновение. Они переплетались – прекрасные, гибкие, сильные. Тела их, горячие как влажный сок каучукового дерева, застывший во времени, походили на двух нежных дельфинов.
Так продолжалось какое-то время.
Пока на загривке его не начинала пробивать горячие волокна шерсть, мешая ее пальцам, – нос хладел и обнажался вдруг влажной темной кожей, зубы вытачивались в форме резцов – раздвигая губы его в безобразную маску, а глаза наливались волчьей нефтью, вытесняя полностью белки.
Завидев испуганные глаза ее, с пятнами страха – ее оторопь, острую как под горло воткнутый кинжал, зеленый ужас зрачков ее, – он отряхивал шерсть, тяжело поднимался и уходил по-звериному молча. Оставлял горькие, гордые следы на песке, – вогнутые пятилистые цветки, которые путал ветер, постепенно занося их песчинками, погружая в эти выемки тонкое пение воздуха.
Она оставалась облегченно и бесполезно плакать в обе ладони.
На плач ее приходил сын Шурка – закутанный в бедуинскую простынь: рыжий, маленький, с отцовским пистолетом за веревочным поясом. Закопченный солнцем, до бронзы целованный ветром. Целомудренный как осколыш сердолика. Он говорил ей: «Мама. Шурка – это Я!.. Ты любишь МЕНЯ». ……….. Арина стыдилась. Она запахивала свое пустынное платье, она пыталась привести волосы в порядок. Чувствовала, что на ней нет белья – там, под ее покрывалом. Задергивая вуаль, она отрезала глаза, – от нежности рта, куда целовал ее Кондратьев.
…………………..
– Кукуня, что-то снится тебе? Эй, проснись. Ты зубами скрипишь...
Артем будил ее, разворачивал к себе. Дожидался едва раскрытых глаз. «Чего ты? Шурка снова?..» – «Да». – «Ты мое бедное», – шептал он, и облекал ее бедра в свои. Твердел сам и угнетал ее живот – скольжением нежности. Кусал ее рот и гнусно мял одеяло. И она едва успевала вспомнить о капсуле.
Кончался май, – в небо уходила и гибла тихая недвижная весна, не надорванная ветром – чудесной своей леностью воздуха напоминавшая такую же прозрачную ясную oсень: двенадцать лет назад.
...
Тогда стоял замечательно теплый, пронизанный таявшим солнцем сентябрь.
Медленно и замирающе – сваливались, ложились тонкопало на воздух – отекали к земле – слегка пергаментные листья. Очень медленным и очень разреженным дождем. Солнце вылизывало парты и утомленно повисало на прямоугольниках окон. Учебники хрустели от новизны.
И в класс Кукиной Арины, 5-й б – пришел новенький. Феноменальный новенький, чтобы не сказать больше. Прибалт по отцу – фамилия Адулас, рыжий как кора горящего дерева. Огромный, как показалось Аринке. И ей почему-то подумалось тогда, что он второгодник.
Артема посадили с двоечником Рудневым – наверное, чтоб уравнять потенциалы обоих.
Мальчишка оказался яростный хорошист. Иногда он краснел и резко заикался, а еще он превосходно бился на палках и раз в неделю ходил драться к серьезным взрослым дядям – в рыцарский клуб «Камелот». Он был выше всех в классе, неуклюж и беззастенчиво белокож. Авторучкой он рисовал в тетрадях фантастические персонажи – драконов, кельтских воинов в шлемах и плащах, ладьи викингов – лонгшипы и драккары. Еще мечи, эфесы, прихотливо кованое оружие, современные пистолеты.
Четыре года он и Аринка существовали в одном классе элегантно и порознь. Аринка называла его не иначе, как «этот оранжевый». И особенно в спину – когда тот не мог обернуться и дать по ушам: «Вон пошел Жуткорос Кипарисович Телебашенный».
Артем был застенчив так же, насколько огромен. И даже шариками из бумаги в нее не пулялся.
А трудовой лагерь под Лугой, на исходе девятого класса – свел их заурядно и просто.
Случайно, Артем пропорол гвоздем руку. А, в общем, нет! не случайно. Просто игрался – мальчишески – лихим своим жеребячеством. Таскал ящики с овощами, закидывал их на самый верх штабелей. Ящики ложились идеально. Артем играл ростом, играл мышцами, играл глазами и всем чем можно, и получал от этого истинный кайф. Пока один из ящиков не пропорол на его запястье серьезный рваный рубец. Рука же осталась цела. Не зря, при переноске, надевают перчатки. За перчатку гвоздь и зацепился. Было не столько больно, сколько странно видеть столько крови на плетеной белой ткани...
У кого-то нашелся носовой платок, им пытались обвязать руку. Платок оказался гораздо меньше, чем кисть руки, – кровь лилась и лилась, капала на рабочие штаны. Артем припустил в сторону медпункта.
– Ну, чего случилось у нас? – спросила Артема сходящая с крыльца медпункта медсестра.
– Да вот руку! гвоздем… И, ржавым, похоже!
– Ого! да сильно у тебя… Ну, ты проходи. Там обработают тебе.
Сестра ушла, и Артем взбежал на крыльцо, зубами разматывая с запястья носовой платок. В чудесной и сильной горячей крови. В избе сидела Аринка и почитывала книжку. Шлепала мух, садившихся на коленки.
– О, Кукина. – Артем перестал рвать зубами платок. – А ты че делаешь здесь?..
– Помогаю убиенцам... Таким, как ты, – отвечала с сарказмом Кукина, откладывая книжку.
– Круто. Моя тебе уважуха…
– Ну, присядь. – Указала ему на колченогое подобие стула.
Артем повалился на подобие. И Кукина промывала и терзала нежно его рану.
У нее были легкие пальцы: как лепестки или слезы левкоя. Коса была похожа на выкинутый на спину невод – запутанный, многослойный. Но йод Адуласа все-таки доконал. Он дернулся, чтобы не заорать и не выдрать руку из аринкиных пальцев. Задуть очаг возгорания. Затрясти кистью – точно вспыхнувшей ветошью.
Колени их встретились. И Артем он впилился в аринкину ногу.
– А противостолбнячную введешь?.. – спросил, закашлявшись, он. Коленки Кукиной были красивые и круглые.
– Неа! – Смеялась. – Дождусь первых симптомов. Красных глаз там... Или температуры.
– Ржавый же гвоздь, – сказал Артем. – Че, даже руку мне не спасешь?
– Да на что мне она? Спасу, а ты – лапать начнешь... Ну, я подумаю.
– Вот чуть что – сразу лапоть... А мы из городских! вот как есть, из городских, – отвечал ей пародическим голосом.
– Да у тебя и с юмором в порядке...
– Дак и не только с юмором.
– Слушай, а тут глубоко. Давай еще раз йодиком, а?
Артем полез на стены, – он улыбался стенам мужественно, как Сергей Лазо в топке паровоза. Безобразно громко скрипя зубами.
– А ты чего… во врачи собралась? – спросил он, чтоб не заорать.
– Ага. Доктором по головушке, – отвечала Аринка, закусывая кончик бинта.
Она перехватила бинт – с ловкостью удава, захлестнувшего кольцами свою жертву; перетянула запястье Артема кандалами узелка.
– Это кем?
– Психиатром.
– Зачем...
– А я мысли читать умею. И будущее знаю. И вообще – я ведьма.
– Ну, и о чем я думаю? Ведьма...
– Ты-то? – оценила его глазами. – Так это ж, ватсон, элементарно... «Вот дура Кукина, выставила коленки, еще и психами интересуется – а глаза красивые у нее, что за гадский гвоздяра, на дискотеку бы ее позвать».
– Ну, ты, – только и нашелся, что сказать Адулас. – Да нафиг совсем!
– Вы свободны, Га Ноцри. Ваши стигматы больше не кровоточат!...
Артем скатился с гнилых ступенек медпункта с ощущением, что получил носком ботиночка в солнечное сплетение.
А потом была дискотека.
И, конечно, круче и серьезнее всех танцевали гопники и оторвяги: десятый и одиннадцатый класс. А еще, в клуб навалила местная гопота – с глазами и рожами малолетних рецидивистов, чуть-чуть не в сапогах на дискотеку пришедших. И все они – попеременно – выбирали Кукину Арину. А танцевали под треки столетней давности, из которых единственно сносными были Basic Element и А-ha. И Артем подошел к Кукиной и сказал:
– Ну че, пойдем пообжимаемся?
– Пойдем.
И они танцевали под этот дешевый дискарь. И было неловко и темновато, потому что Артем был высок и велик, а Кукина ему годилась подмышку. И он задевал подбородком макушку ее, а потом, в конце, когда дали тьму – наклонился и смазал губами в краешек ее рта. И Аринка странно улыбнулась.
– Ты как – может, сходим в кино? – спросила она через день. – В клубе какую-то ботву офигенную крутят, пойдем оторвемся…
– Ага, давай дернем, – отвечал он.
Кинофильм был первоклассный, назывался «Авиатор».
Выйдя на волю, они ржали как кони Пржевальского. Над режиссером и сценаристами. Сюжетом и кастингом. Над беспримерным героем ДиКаприо... Строившим острые и гневные, разящие – как фатум – самолеты. Горевшем в этих самолетах. И, видимо, от переизбытка CO-2 сошедшем все-таки со своих героических салазок.
Все удовольствие обошлось в полста целковых на двоих, потому что Адулас просочился без билета. И еще – два часа кряду они держали друг друга за пальцы.
Пальцы – не грудь, понимаю. Но это был большой уже прорыв.
Назавтра Артем Адулас вовсю разворачивал плечи, кидал на меже ящики, бесперебойно оттаскивал ведра с травой – все это одной рукой. Всех доставал, задирал и мажорил, как и положено влюбленному человеку.
Друг его, Руднев, сказал ему: «Артюха, ты чего, врезался в Кукуню?..»
И получил кулак под самый нос.
А потом, с поля, все потянулись на обед. А они отстали, потому что Артем заартачился пилить в лагерь стадом. И сказал – я под небом вольным поваляюсь... И Кукина осталась с ним, хотя он не приглашал.
И они лежали в траве.
И бороздили глазами небо, а еще обсуждали любимую музыку, косяки «Авиатора», – Артем рассказывал о рыцарском клубе, Аринка мела пургу насчет своей психиатрии. Артем разбросал свои руки как весла – руки мяли веерно стебли, – вертел в зубах травинку. Волосы его пахли силой и теплом.
– Как рука твоя?.. – спросила Аринка.
Артем потряс ею в воздухе. Бинты его имели вид перчатки автогонщика.
– Да вот, все думаю, оторвется или нет... – отвечал ей. Аринка наклонилась над ним на локте.
Вглядывалась в глаза. «Короче, стой, сейчас я все узнаю про тебя...»
«Я как бы лежу», – хладнокровно отвечал. И разинул глаза нарочно и конкретно навыкат. До напряжения склеры и красноты белков.
– Че там видишь? – спросил ее гаденько. Красиво плюнул травинкой. Губу облизал.
Было жарко, и очень. И хотелось ее лица еще ближе. Чтобы совсем стало слышно дыхание. Его беспокоила Аринкина близость, пугали – влекли? – сливовые ее глаза и то, что шло от нее...
И еще, он был в напряжении. И думал, что у нее очень красивая грудь и очень короткие шорты. И что она ведьма.
Аринка отпрянула – усмехаясь криво и магнетически.
– Да ниче. Ну, и будущее у вас, дорогой товарищ…
– Какое.
– Беее. Не скажу… А то забьешь меня левой.
– Умру, что ли, в расцвете лет? – сказал Адулас, переставая таращиться на нее.
– Подсвешником хочешь по голове? – серьезно сказал Аринка.
Он смолчал.
Аринка взяла Артема за руку – перевитые пальцы, ноготь к ногтю, фаланга к фаланге.
Она дышала в них, и его сердце делало кульбиты. Она держала его руку с нежностью хирурга, – не больше, чем было нужно, чтобы он почувствовал, холодный зной в паху, слабые сжатия нежности, прокатившиеся по узлу его тела серфингом сладкого и медленного испуга.
В холодном ознобе, он глотал свое сердце, а она высвобождала его от майки. Он дотянул майку с торса – крупно, неловко, зацепившись за пуговицу джинсов – и просунул ее под аринкины бедра, чтобы не было колко...
– Ты не б-бойся только, ладно? – он дрожал, успокаивал ее и себя. – Я осторожно все... – Волнуясь, он все еще заикался.
Он знал, что табу любви, натянутое в средоточии ее, – похоже на алое крыло бабочки. Что оно испугает его на мгновение, едва он его ощутит.
Он выдохнет, ресницы поглотят упавшее в ее зрачки солнце – и он сделает короткий толчок бедрами, точно и коротко, неожиданно, остро – и провалится в тугой и тесный вакуум. И тот ожгет его красотою. Его накроет, и сердце забьется в солнечном сплетении, подсасывая медленно и скатываясь в пах………..
Никакого табу не оказалось в помине. Но это даже не было важно.
Адуласа затянула глубина, ему было страшно аринкиных глаз – они топли и тонули в его взгляде. Они звали и закрывались, давали ему карт-бланш на все, молили, поощряли, оправдывали, плакали. Ей было странно и что-то неясно, – он видел и не хотел этого видеть; он закрывал на это глаза. Его затылок палило падавшее солнце, ворошило сильное и влажное небо. Трава шеборшала горькой стихающей прелестью.
А после – он гладил Аринку, ронял тяжесть рта на незримые лунные рубчики кожи, на завитки волосков, каждую гладь, и каждую впадину……..
И было грустно ему оттого, что в ней побывал уже кто-то. И кто бы ни был он там, думать об этом Артем не хотел.
Зачем.
Обратно в лагерь они шли молча, – Аринка впереди, он сзади; он был почему-то ужасно счастлив, – все тело была одна музыкальная фраза – наверное, джаз; ноги шли легко и гибко, руки были нежны – хотелось ближе к Кукиной прислониться, прижаться еще, хотелось еще окунуться, опять почувствовать запах, кожу – близость ее грела… Артем не знал, куда девать себя от ощущений.
Они шли, – и в носовом платке, вложенным Аринкой в шорты, было липко, и она беспокоилась – не протечет ли влажное до пятна. Потому что были светлые шорты... И была еще нежность: к этому красивому нелепому мальчику. И, наверное, она бы пошла за ним на край света – если б край света кончался Петербургом.
Лето кончилась как оборванная кинолента.
На месяц они разъехались – ни одного звонка, ни письма. Аринка писала ему, но мяла и рвала. Артем не писал и не рвал: околачивал балду у московской тетки.
А потом – осенью, вдруг – нечаянно между ними выросло что-то. И это что-то, накрыло тогда неокрепшие их души.
Дети решили, что сказка возможна: они играли взрослые партии, они не продвигали фигур – локтем, на клетках, – не держали тузов в рукаве; они доверились друг другу. И мальчик, выросший без отца, вдруг стал опорой и тылом для стыдливой и насмешливой девочки. Ему понравилась новая должность. Янтарный мальчик со щитом бойца ливонского ордена.
Аринка залетела в предвыпускном классе.
Денег на мифегин у них не было, а с вакуумом они опоздали. Артем, с колотьем в душе, признался матери; та – посидев молча на стуле (полчаса прошло, должно быть) – дала им денег на прерывание.
Аринку вычистили в каком-то левом роддоме. Отслоили ей что-то, при этом. Воспаление было жутким: ее ломало и крючило. А врач потом сказал – девочка, вот с детьми теперь навряд ли...
Как она плакала об этом нерожденном, неизвестном ей рыжем – об этом знал только плюшевый медведь, ее камрад с трехлетнего возраста. Артем покорно слушал выговор матери, – на хрущевской кухоньке величиной со школьную географическую карту мира.
На первом курсе они поженились.
Артем целовал Аринкины пальцы, и риски на сгибах ее фаланг казались ему зажившими порезами от ножа, – воткнувшего ее плоть под его сердце. Все было так.
В загсе на Аринке было то же платье, что на школьном выпускном: тонкое шелковое, цвета шампанского. Из гостей – обе матери, Аринкин «воскресный» отец да кучка необщих друзей. Помпы не было. Как и два года – детей после этого.
И был как-то день – обоим тогда было по двадцать – когда все у них складывалось идеально.
С утра они купались в Озерках, трубить до Кавголово им было лень, – ловили караты первого летнего солнца, потом они пришли домой обедать: усталые и сильные как два тонких зверя, и Артем кормил Аринку с вилки картошкой. Ночь была прорезана чистым жестокосердием нежности.
Наутро царевна Будур пожелала помыться (из жизни вычеркнуто сорок минут). Артем варил кашу и кофе.
– Графинюшка!.. не желаете кофею? – спросил Адулас, просовывая голову в ванную. – О, нет! промашка. Кофеек подождет.
Кофеек ждал, закисая, на плите, рядом с сыром, поднимавшим обветренные крылья. Пока Артем отмерял для своих рук маршруты движений, задевал плечом дверь, нарушал недолговечную порядочность простыни...
И вот, кажется, в этот день соединились их клетки – по крайней мере, Артем Адулас тогда все сделал для этого.
Аринка раскрылась ему. Ее питательные емкости, русла, цветущие жертвенной кровью, ожидали его дар. И он исторг в них, спазм за спазмом – белоглазое заплаканное солнце. Капли кишели тысячелетней любовью. Аринка приняла их. Она позволила восстать им – в ней – и оголтеть от жажды цели.
Артем выдохнул и затих, точно как выброшенный на берег тюлень. И потом он целовал ее ушки, ее щеки – в надежде, что зацепится хотя б одна его микроскопическая жалящая клетка – за ее ворсистый женский неповоротливый шарик, вытолкнутый ее организмом в путешествие по трубам…
Ночами царевна Будур продолжала просиживать за письменным столом, завесив лампу полотенцем. Она писала работу о наркоманах.
Артем ворочался, скрипел матрацем, щурил глаза, растирал их пальцами. Подымал голову, он видел профиль жены, кусавшей губы, листавшей статьи и циферки, бегавшей пальцами по клавиатуре ноутбука. Снова рушил голову на подушку.
– Миноносец «Неспящий»… Спать ложись, сердце сорвешь.
– Я фигею, Артемка... – шептала Арина. – Я вижу причины, ПОЧЕМУ. Что ими движет. Я – изнутри. Ты понимаешь?.. Я понимаю, как если бы я ТОЖЕ.
– Ох! не дай тебе «тоже», – отвечал, Адулас, засыпая. – Мне б с тобой и такой справиться. Без тоже.
Когда тест показал две полосы, Аринке показалось, что она бредит. Артем орал как индеец чероки, звонил друзьям, полошил и брехал про свое счастье, – Аринка не могла его остановить.
Беременность она не носила – лежала. Доползала до санузла, выблевывала в каолин унитаза желтоватые остатки желудка, обтирала лицо, за стенки и углы передвигалась обратно. «Мальчик», – констатировала свекровь, Артемова мама.
Сын Шурка родился через кесарево сечение: у Арины было слабое зрение.
В год Шурка был рыжий как солнце Марса. Совершенно безбров. Белые ресницы и синие глаза – калька с Артема, уменьшенная вчетверо. Глядя на собак, Адулас-младший хохотал как помешанный, глядя на бабушку – принимался буянить. Аринкин палец на прогулках Шурка зажимал кулачонком – точно викинг свой излюбленный меч.
В год он жевал и мусолил яблоки, выдирался с горшка и утяжелял памперсы добросовестным бойцовым трудом. Словарный запас его содержал пять слов: «Агтем», «Агиша», «мудык», «водай», «нигачУ». Мужиком он был с пеленок. Отдавали ему все, что он просил. А не хотел он всего, что ему пихали в рот на ложке.
Артем закончил юрфак и ушел работать в салон оружия «Арбалет».
Платили там хорошо – Артем поднялся, деньги завелись. Аринкина мать жила тогда с ними, помогала по мере. Аринка бегала учиться, академический не брала. А потом учеба закончилась. Аринка Адулас получила свой красный диплом. И ей остался – только дом.
Шурке стукнуло полтора года.
Четырехстенность, перегрузки ухода и одномерность быта сыграли с Аринкой свою необходимую ритуальную роль – она восстала. И сказала, что идет работать. А Шурочку она записала в ясли. Артем фыркал целый день.
– Зачем в ясли так рано… Топтыгин малой. Ему мамка живая нужна, а не тетка в фартуке, – с горшком, песочницей, бибиками и кашей. Ни один твой упоротый нарик не стоит волоса с Шуркиной головы!..
– Я не поэтому, Артемка. Меня заели четыре стены… Я тупею, я не вижу людей. Мой интеллект к нулю катится. И еще – я работу доделать хочу. Про наркоманов… Это важно для меня. Это смысл и цель... Помочь этим людям.
– Помочь – КОМУ?.. Объебосам и анашистам? У тебя сын грудной, об этом ты думать должна! Собственного ребенка растишь, пани доктор... Это так, между прочим. Нового человека, извините, вселенной. Некстати – полностью зависящего от вас. Задумывались над этим, хер айболит?
– Дурак.
– В общем, ты поняла меня. Я против... Что выберешь – на твоей совести будет. Но только ты ребенку нужнее, чем твои алконавты – тебе. Никто из них спасибо не скажет...
И Аринка сделала выбор. Наркоманы тоже ее волновали – она продолжала писать о них.
Забивала компьютер статьями. Черновиками и фотоснимками, от которых передергивало Артема – лепрозорий казался после них лучезарным пансионатом и побережьем Сен-Тропе.
Брусникин ждал ее, – она приглянулась ему еще в институте.
Шурика отнесли в ясли.
Три дня Адулас-младший орал в яслях без продыху. Он достал всех.
Он закатывался трубным воем – голосовые связки были каленые, как полагалось связкам наследника двухметрового прибалта-отца. Артем забирал его полуслепого и красного от рева. Последним из всех. Аринка не успевала к шести из больницы, он срывался из «Арбалета» и гнал тойоту через полгорода: к детсаду «Журавленок»…
Шурка протестовал, что взрослые нарушили его миропорядок. Вторглись в устойчивость его безызъянной вселенной. Матери больше не было рядом, а те часы, что она была, никак не вмещались в понятия Шурки о счастье...
Арина нервничала на лекциях и дергалась в больнице, думала о сыне. Прибегая домой, она схватывала Шурку в охапку, целовала его щеки, поднимала на руках в потолок. «Мой свиненок! топтыжка…» – твердила она, улыбаясь как подсолнух в мультфильме – во все щеки. Шурка лепетал, щерил мордочку и прилеплялся к ней как клеящий карандашик.
Укачав ребенка, Арина закидывала в стиральную машину ворох бельишка. Запиралась с книгой или пачкой медсводок в туалете. Сидела там до первой звезды. Артем качался на стуле, засыпая. Выходя, она восклицала:
– Артемка! факты еще… Быстро поджигай ноубук. Да скорее, мне мысль пришла!! Вывод века, срочно.
Артем подчинялся, втыкал в сеть машинку, освобождал стул от барахла. «Ага, – очередная планетарная находка из жизни наркоманов...» Шел спать, закрывался с головой скафандром одеяла.
Артем злился – оттого ли, что он и Шурка были ею, Аринкой, обделены?.. Или к работе ее ревновал? К этим обдолбанным неизвестным парнями – синякам и торчкам; к фиолетовым теткам, которые приходили к ней и гнули душещипательные истории, – о своей загубленной жизни. И которым она помогала.
Артем и Арина ссорились. А по ночам к ним приходило раскаяние. И раскаяние это заставляло содрогаться Артема.
Глаза Аринки покрывались – от раскаяния лишь! – уходившей патиной небытия. Она напрягалась и падала... Она сдавала побежденное свое тело – радостному хладнокровию грешного стрелка… Как забиваемая лань, она делала свой последний бессодержательный рывок к жизни. Пальцы ее чертили борозды на его плечах, и пьяные судороги – подземного свода мускулов ее – говорили ему: Адулас, ты – Бог.
И еще.
И последнее движение. И он доканчивал – принуждая лань – дождевым вздрогом век, – смыкать глаза и откидывать лилейную голову на пригвожденной к бессилию шее.
Один раз Аринка пришла очень поздно: ее задержали в больнице.
И дом, когда вернулась она – был переполнен электричеством раздражения и упрека. Артем ворчал, мазал кашу в тарелке, успокаивал Шурку... Подбирал игрушки. Пахло всепоглощающим детским страданием.
– Ты вообще-то в курсе, что есть ребенок у тебя? – сказал он не глядя. – И муж, как бы, тоже... Но мужа здесь можно в расчет не принимать!
Топтыгин путался посреди игрушек на ковре. Мохнатом и зеленом, как его сопли.
Он заходился плачем, кричал, разевал десны, в крапинах зубов, – живая теплая плоть, обернутая и запакованная в памперс, ползуны, рубашонка из фланели – год и пять месяцев, ботиночки, семь зубов, три слова словарного запаса, уже бегает. Канареечный пух на макушке, легкая зябь, сквозь которую светит теплая кожа, пальчики-слизнячки, постоянно во рту, мокрый нос. Беспрестанный ринит. И голос – треснутый щелью, ничем не смазанной, по нарастающей набирающий громкость, особенно когда недоволен.
Арина подняла его на руки. Положила на сердце. Он присосался ручонками к ее шее и стих. Раззявил рот – полный соплей, облегчения, радости. Он не мог без матери, а мать не могла без него. И это было всем очевидно.
– Тебе мало было интернатуры? – сказал Артем сумрачно. – Училась бы, в ус не дула... Без психов, нариков и прочего расходного материала. А с Шуркой мама бы помогала… И все довольны.
И вот тогда Арина решила – снимаю Шурика с яслей.
Но не успела.
Топтыгин заболел. Допротестовался. Чтобы услышали.
Ведь не сразу услышали. Он покрылся температурой, стал похож на печной шкафчик.
Цветом лица – на раскаленный кирпичик. Его везли куда-то ночью, – в холодной как ледник скорой, кутали в ватное одеяло. В насквозь глухую и спящую детскую клинику на Литовской. В приемном боксе смурной медбрат снимал с них – Артема, Аринки, – данные, заполнял медицинскую карту. Шурку кукожило, пузырило жаром, он хрипел, дергался. «Вы можете побыстрее, – твердила Арина. – Он задыхается». Медбрат копался в бумагах. «Где врач вообще… – чуть-чуть не кричал Адулас. – Где бригада!» Какая ночью бригада…
Пришел заспанный врач, украшенный синяками под глазами, в халате мятом как туалетная бумага. Осмотрел корчившегося Шурку. Велел унести. Арина плакала. Артем был седой лицом как пепел. Он глядел на спину медбрата, уносившего ребенка, и мечтал о порции стрихнина: для кого, зачем?.. Бог весть, разное в голову лезло.
Артем поехал домой – наутро было в «Арбалет». Арина осталась ночевать под дверьми в реанимацию, куда забрали сына.
Она позвонила Артему наутро. Сказала одно-единственное слово.
– Шурочка.
И колокол тишины ударил Артема по глазам.
Вошел в зрачки и смял их в жижу канцелярского клея. Докатился до сердца и пал ниже – в желудок. Там сцепил кишки – скорпионом конца. Ушла и откатилась земля под ногами.
Пятнадцать секунд Адулас сухо рыдал, не зная, что сделать с лицом.
Лицо расползалось в раздавленный пластилин боли и ужаса. Кисель лица нельзя было собрать. Наконец, Артем выдохнул, обтер жесткой ладонью глаза и поехал к Аринке.
За три дня Аринка поседела на два волоса, а Артем, в двадцать три года – постарел на пять лет.
Ее душа перестала отзываться на имя Аринка. Душа изменила лицо. Из черного яйца боли, ломая скорлупу, холодными укусами толчков – вышла новая женщина: Арина…
Вернувшись со Смоленского кладбища, эта женщина легла на кровать и не сходила с нее двое суток. Лежала. Лежала. Лежала. «Я не хочу есть. Не надо мамы. Не трогай меня… Принеси полотенце. Выключи свет». Не сводила пустых брусничных глаз с Шуркиной кроватки. Вдруг разражалась звуками тихого песьего воя. Давила лицо в полотенце. Смолкала снова, закаменев.
Подруги доезжали ее, а Брусникин звал назад, – обещал ей интересные факты и практики.
Артем кружил вокруг нее как санитар. Наконец, он не вынес:
– Ариша. Пойдем погулять…
В ответ услышал ватное, хриплое, безучастное:
– Оставь меня. Я – психиатр... Мне не нужна терапия.
– Тебе нужен кислород.
Артем поднимал ее на ноги, одевал, вталкивал в ее рот четыре ложки каши и чай, выводил гулять, как выводят собаку.
Свое слово Брусникин сдержал.
Ее ждали карточки, и среди них – та – знаменитая карта Кондратьева А.В.
Часть 2.
Кондрат и Арина встречались в субботы. Не каждую.
Когда могла Арина, и когда хотел Кондратьев – а он хотел постоянно, потому что Арина несла деньги. На них они отрывались. Сашка не считал и не взвешивал копеек, и, в принципе, будучи честным до конца, он понимал, что гуляет он – большей частью – на деньги Арины. Наполовину бесплатная ширка, кто о том не мечтает.
Арину влекло туда – ее отпускало от мыслей, стирались сны, легчало бытие и сознание; не знаю уж, что на этот счет трактует марксизм… Одним словом, ей было хорошо.
Артем находил, что она похорошела, – Арина была всегда в духе… Но она тормозила, зависала с ответами на его, Артема, вопросы, вообще с реакцией на него. «О чем ты думаешь?» – спрашивал он. – «А?» – Не сразу откликалась Арина.
– Ты заторможенная какая-то, Ариш...
– Это успокоительные... Транквилизаторы. Принимаю, чтобы расслабиться. Чтоб отпустило немного.
. . .
В одну из назначенных суббот Кондратьев встречал ее с глазами, пытавшимися долго нащупать центровку. Легкий и мягкий как горсть тополиного пуха. Цвет лица его был выжат. Он был – вставленный. Его гребло и перло.
– Шпиганемся?
– Нет.
Арина села на кровать. Положила молча деньги на тумбочку. Кондратьев забрал, едва пролистнув.
– А я догнаться хочу.
Он разогрел на «весле» героин, всосал иглой дозу, подколол себе – зачем, неизвестно. Демонстрировал процесс? убеждал, что нестрашно? Плевал на условности, женщину? Арина отвела глаза от его локтевого сгиба.
– Доктор! одно жальце, ну, для полноты жизни... – куражился Кондратьев, сдергивая жгут, и принимаясь за болтанку питья для Арины. – Нет?
Она смотрела на его пальцы – точно он был Фаберже, Денис Мацуев за фортепьяно или искусный метатель ножей. Смотрела, закусывая губу, и сердце ее ходило в груди как подвешенная гиря, – он видел в зрачках биение ее сердца.
– Я тебе нравлюсь, Арина Юрьевна?.. Мм? – спросил он.
Арина смотрела.
– Что-то новое открывается мне, – отвечала ему. – Мне хорошо с тобой, да. Мне легче с тобой... Я тише и спокойней думаю о Шурке.
Кондратьев дал ей стакан, взболтав чуть больший концентрат, чем это необходимо.
– Вот. Это посильнее. С погружением будет.
Арина взяла.
– Ну, а кроме Шурки. Что-то еще тревожит тебя? Ты с мужем-то как живешь...
– Прекрасно живу. Лучше быть не может. Просто я... Не испытываю разгрузки, Саша.
Арина посмотрела на ногти: – Оргазма, если так проще тебе.
– Что, никогда не улетала от секса…
– Улетала. До смерти сына. Еще как было... До семи раз – не лыбься, у женщин все иначе, мы много раз можем… Когда мы любим. Ну, или думаем, что.
– Вы и думать умеете?.. – саркастически улыбнувшись, вставил Кондратьев. Куда он, без своих пяти копеек. – Извини, это я свинкой болел. А сейчас как?..
– Никак. Кайфово, приятно, классно, но не ОНО…
– Ну, ну. Как это – «никак». Ты живая... Красивая. Ты маленькая и крепкая. У тебя блестят глаза. У тебя чудесная грудь, особенная форма уха... у тебя потрясающей формы бедра и ноги, а значит ты темпераментная, доктор.
Кондратьев помолчал, и было видно, что какая-то мысль бороздит его сознание.
– А хочешь – раз, – он приник губами к ее щеке, – попробовать со мной? – сказал это пристально, быстро. Шептался тесно в ее щеку. – Осторожно, и с резинкой... Твой муж не узнает ничего. Ты же целуешь меня! у меня нет ранок на слизистой. Мы купим самые крепкие презервативы. Экстра контекс... Те, что у пидаров в ходу – жерлом пушки не сломаешь. Мы задушим моего вича, он не вздохнет! И ты такое испытаешь... – Кондратьев отнял щеку. Задержал ладонями Аринину голову. – Я нежный. Я нежный, ты слышишь меня... Это никакая не будет измена. Я ведь – кто? Со мной – ноль перспектив, а значит это чистая терапия. Ты помогла мне, я – тебе...
Арина высвобождала голову из его рук.
– Я не помогла тебе, Саша. Я не смогла ничем помочь. Хорошо, допустим даже, я испытаю с тобой оргазм... Дальше-то что? С мужем все равно не испытаю. Так и бегать к тебе, презервативами запасаясь?.. Ладно, все, поприкалывались, и хватит.
– Ну, как знаешь, доктор!
– Ты сердишься? Я – не женщина твоей мечты, Саша. Не сердись…
– Да мне-то что?!.. Ты чистая? ты преданная, да? Как меня чистые женщины достали! Все-то им «порядочность» нужна. Этика!.. Хирургия высоких отношений! Все врачи такие, что ли?!?
Я не все врачи, хотела возражать ему Арина.
Но не смогла, – голос расплывался в мятный сироп… глаза катились солнцами, сердце взмывало к ключицам.
И потом – уже в кайфе – она понимала, что слегка холодно ее бедрам.
Хотя их крепко держат руки Кондратьева. Держат – разняв полностью, в коленях, ее ноги. И самое мягкое, самое уверенное счастье – ягодной, теплой, растраченной нежностью – роняется, чертит и мажет линзами языка – капает между ног ее: вовнутрь…
– Лежи. – Приказал он, едва отрываясь. – Лежи, я сказал. Лови кайф…
Припал, снова – к чудесным разрезам ее, – выбирал ртом черешневое русло.
Вдруг стал глубоко и бездыханно замедленным. Вымывал и вынимал ее... Задерживал тихие – мертвенно – губы поверх Арининого рдеющего чайного листка. Разлагал ее шаткую совесть.
Его волосы были похожи на оперение ежика. И почему-то снова распласталось сознание.
Взмыло, взорвалось и кануло. И томительно – сжатием, вспышкой и цепью – ударило в самое сердце женского ее средоточия.
– Ку, ку. Ты здесь?.. Очнулась! Ты что будешь, я спрашиваю, – молоко? воду?.. Нам скоро ехать – восьмой час уже.
Кондратьев был совершенно одет. А, похоже, и не раздевался. Аринины трусики валялись на полу – молочной мятой горсткой кружев.
– «Кука» – так муж меня зовет…
– Просыпайся, Кука.
– Что такое ты дал мне, что так вырубило меня?
– Ты не пугайся, ну, нормальная бута – ну, с димедролом, так, слегка…
– Ты гад.
Кондратьев шумно глотал молоко – он отрывался от кружки, говорил и отрывался снова.
– Ага. Щас праздники будут… Я сольюсь с экрана на пару-тройку дней.
– Уезжаешь куда-то?
Кондратьев усмехнулся.
– Ага. В эден…
– Ты марафонишь с кем-то?
– Арин, ну что за вопросы… Ну, да. В принципе, да. Есть одна хата, я давно кантуюсь там. Оттуда подгоны. Там и ширевом разживаюсь. Мои последние два года.
– Где это?
– Озеро Долгое... Ни к чему тебе знать.
– На всякий случай, дай адрес. Вдруг что-то…
– А что? Ты беспокоишься обо мне?
– Саша, пусть у меня будет адрес… Я тебя не буду искать. Но так мне лучше будет, правда.
Адреса он не дал ей, конечно.
Зато вызвал безотказного мужичка Рому. На красном жигуленке – пропыленном как палатка в пустыне Негев.
– Расплатишься сама, хорошо?.. Он скажет тебе, сколько.
Шептал ей, целовал угол глаза. Что ей делать оставалось?..
Весь путь мужичок-бедуин поглядывал на нее в зеркальце. Латунными пчелами поблескивали глаза.
– Хороший вкус у Шуры на женщин. Очень хороший…
Арина не отвечала ему.
…
Она пришла домой в состоянии выжатого белья. Неживая.
Коса развита по спине, макияж вымыт сном и давностью времени нанесения. Под веками полоски нежного сумрака. Рот измазан набухшей ягодой помады «люмене». Сумка – где-то там.
Арина растерзала замок на босоножках и сбросила их об коврик – красивыми швырками маленьких ног. Каблук босоножки хрустнул на лестнице, обломившись птичьей костью, и болтался на кожаной склейке, а и ладно!
Ей больше не было дела до собственной боли – боль ушла, уколотая дротиком кайфа.
Спать – вот все, что хотелось Арине, спать и греться в одеяле, пахнущим мужем.
А то, что пережила она с Кондратьевым….... Это она закрыла дверцей. И – притерла засов. И навесила на засов железный крюк и гирю амбарного замка.
И ни черта не помогло. За дверцей был тот же Сашка – нагловатый и нежный, с отрешенными глазами индуса, пронизанными иглами героиновой грусти, добрыми как самое заклятое счастье.
. . .
В тот день, под самое закрытие, в «Арбалете» нарисовалась машина поставщиков, которую ждали только назавтра. Куда денешь броневик, – на ночь глядя? Шеф упросил ребят принять.
В порядке мягкого приказа. У всех – семьи, но надо… Адулас, Осадчев и охранник остались ждать, до первой звезды.
Немного чего-то Артем переживал... Неспокойно ему было. На звонки его – никакие из – Арина не отвечала. Предупредить ее хотел.
Последним покупателем у Артема, за десять минут до закрытия – был некрупный, с закаленной спиной, ладно скроенный парень, спросивший оптическую винтовку.
– Для снайпинга?.. – спросил Артем, снимая со стенда угольно-мускульный массив Хеклер&Коха.
Винтовка была похожа на огромного – с великолепными членами и настороженным линейным хребтом – богомола.
– Нет. Спорт.
Артем положил Хеклера на армированный прилавок. Парень поприкладывался к ней, профессионально. Артем скинул ему еще винтовку Sako. Винтовку Блазер Тактикал. Немцы… Качество без упрека.
Парень щелкал и примеривался, прилаживал руку и плечо, натирал глазницу оптическим прицелом. Спокойно и рассчитано – как ювелир или медик. Эх, если б женщину можно было так выбирать… Артем смотрел, сдержанно любуясь его подходом, – парень был похож на самурая: весь в черном, сух, бесшумен, худ…….
Но что-то думалось не о парне. Винтовка сквозила перед глазами Артема – мысленные руки, даже не его, а кого-то другого – кем он, Адулас, был в предыдущей жизни, брали ее резко, и пальцы, – не его пальцы, а фантомные, те, из прежней жизни – ощущали холод шарика затвора трехлинейной винтовки... До автоматизма знакомое движение передергивания затвора, – движение, которые он никогда не делал в этой жизни: винтовка вскинута, выстрел. И впереди падает мужская фигура. Быстрый выстрел – быстрое падение. Откуда-то это помнилось, откуда-то это жило. Похоже, мы живем не одну жизнь.
Артем встрепенулся. Парень все еще ласкал – щекой – винтовку.
Не для того, чтоб склонить клиента к покупке, а чтоб отвлечься самому, Артем начал расписывать парню технические характеристики – одной винтовки, второй, третьей.
– Вот эту, – сказал парень, указывая на Sako. И кивнул.
– Разрешение.
Артему всегда было любопытно угадывать – спортсмен или киллер. Не ошибался, это как правило.
Парень предъявил разрешение спорткомитета. А жаль… С точки зрения френологии – бугристый череп, кости затылка смещены к горизонтали, лобные дуги неразвиты и скошены – он вполне бы годился в золотую роту наемников.
Так кто был тот человек?.. Кто так честно и равнодушно шел на свою смерть. К нему, Артему.
Что же молчало оно, подсознание.
Артем упаковал винтовку, присовокупил патроны, чехол, оснастил покупку векселем короткой улыбки. Надеясь, что пострадает только мишень, и что парень не берет оружие на чей-то приватный специальный заказ.
И все-таки он еще раз Арине перезвонил.
На часах было одиннадцать вечера. Осадчев и охранник ждали, курили, терли анекдоты. Пошла уже третья кружка скверного пакетированного чая. Адуласу пить не хотелось, но чем-то нужно было заняться. Он звонил, – и звонок за звонком оставались без ответа.
Вода в кружке была жуткая, чай пах покойником, на вкус был такой же – Артем подумал, что где-то в трубах или дельтах разводки валяется, прибитый к оплетке металла, несвежий, колеблемый медленным водотоком труп... И вода, струясь через него, гудя, забирает микроны изношенной плоти, разбегается по водопроводным жилам района и попадает в таком виде к нему в кружку.
Хотелось есть неимоверно – супа, куска хлеба с куском колбасы, горячую подошву пиццы, на худой конец.
Броневик прикатил к девяти вечера.
Из автомобильного брюха выкидали упакованные стволы, втащили – с рук на руки – в подсобку, побросали следом коробки и ящики с мелочью. Нарезное и гладкоствольное распаковывали первым. Витхерби, Career, ижевцы.
Умарекс, травматические Эскорты и Викинги. Потом пневматику, газовые пистолеты Хауда. Переписывали холодное.
– Нож Галеон... Десять штук, – диктовал Осадчев Лёня. – Нож Легионер, пять единиц… Нож Юнкер дамаск, пять тоже. Записал?
Пересчитали требуху для самообороны. Аэрозоли, электрошокеры «Гюрза», искровые разрядники, рогатки. Оптику. Аксессуары. Бинокли Pentax, лазерные целеуказатели, кейсы и фляги.
Тесаки Егерь, кейсы, чехлы, кобуры, патронташи.
Охранник смотрел, как парни расталкивают товар на стеллажи, эргономично притыкая друг к другу коробки.
– Ну, ладно, пашихин и Рукавишников, доверяю вашей мужской силе.
– Давай, есаул. Разберемся, – отвечал Адулас.
Охранник скинул ему ключи и отвалил.
Они докидали с Лёней коробки на стеллажи, сортируя на глаз кое-как – кладовщик доведет до ума. Задраили решетки и монолиты дверей, активировали сигнализацию и вышли в десятичасовые джазовые сумерки.
Холод предночи слегка жег тело, но было безветренно. Артем подбросил Осадчева до метро – свернув на Невский, озябший глянцевыми мурашами огоньков, – ударил, перегнувшись через кресло, ладонью в лёнину ладонь, и поехал домой.
Домой Адулас приехал в первом часу.
Его встречали босоножки Арины, разметанные кувырком, – на лоскуте ковролина в прихожей. Один откинут носом об стену, распахнутым замочком кверху.
Арина спала нездешним очарованным сном. Комком, и в одежде... С подвернутой под живот рукой, подобранными коленками. Бесхитростно, румяно и просто, как лежат глубоко спящие дети.
Артем дохнул ее лицо – алкоголем не пахло. Щека ее нежно лежала на ладошке…
Он подоткнул Арину одеялом и пошел разогревать ужин одинокого мужчины.
. . .
Кайф брал Арину на изогнутые крылья светившей силы, он забирал с собой, уводил в страны покоя и мира. Тело ее оставалось лежать в комнате, душа отлетала и уносилась.
«У моей совести потеют ладони и белеет лицо, моя совесть дышит на ладан – на нее накладывают, со спины, портовые веревки, смоленые ветром, – и вяжут ее в куклу, чтобы вести на костер. Там прибьют ее к крестовине столба, и она, крича, переломится надвое: от злобных оранжевых выхлопов пламени…
Ты сломан тоже – по всем суставам и сочленениям – как деревянный человечек Пиноккио.
Твое сердце отжимает километры сердцебиений, твой мозг выстиран и выбелен героином, артерии ветвятся белыми арыками смерти. И только твои пальцы – сухие и тонкие как остов богомола – мои…
Твои глаза судачат о моем стыде.
Твои глаза – флорентийское зелье; ты льешь его на кожу, ты капаешь черничной кислотой в мои глаза – отпусти мои руки, Кондрат, раскрои ножом веревки, стянувшие их; я согласна идти на галеры, разве ты не видишь.
На твоем запястье переплетенье сосудов, оно прокушено светом; воздух с моего рта – едва ли настоящий, настолько неслышен – сгоняет это свет…
Помести свой рот в упадок моих скул – там нет влаги, но есть ненадежная тень... Я подлатаю твое сердце.
В моих волосах перепутались парсеки.
На моих губах афинский ветер, мои кости выжжены белым, как щебни мраморных плит, мои ресницы желты от пустынного ветра.
Я – та надежда для тебя, которая как утлый бот, перед столбом нависшего циклона – один окат стенного падения – ледяной зеленой толщи, – и бот, разломанный как спичечный коробок, канет в черную прорву и бездну.
Ты – мой поводырь, моя панацея от жизни.
Твое сердце – моя Палестина; твоя спина – Стена плача; в нее скрываю мое лицо, ловлю губами крупяную кожу камня, – я перетрагиваю четки твоих позвонков – долгие как у буддистов, где 108 камешков, нанизаны бусами, – или крохотных каменистых плодов священного дерева рудракша, тоже в ряд, ом намах шивайя, никогда не переставай быть – будь вечен, будь всегда… Навсегда будь, если ты меня слышишь».
Артем, ночью, был нежен. Он ходил в ее теле – красиво, горестно, пристально.
Но он просто ходил. Арина не таяла. И ничего не росло. Ее душа глядела на щеку Артема – с двумя точками родинок, точно две спичечные головки, на рот его, приоткрытый слегка, она наблюдала спокойно, – как этот рот ритмично исчезал из уголка ее глаза. И возникал снова. Так долго.
Так долго, что даже хотелось, чтобы кончилось все поскорее.
Как рассказать ему, что я……….
Что я хочу упасть в Кондратьева. Что я пытаюсь остановиться… Я балансирую на тонкой нити между – изменить. И – НЕ... Что с тем лавина нежности, от которой хочется – смерти.
Артем прав – ей бы ребенка сейчас. Ребенка, который займет ее силы, ее голову, сердце... Даже не важно, от кого из двоих, усмехнулась Арина. Усмехнулась легко – потому что с Кондратьевым нельзя все равно. Даже и с презервативом. Потому что презики слетают и рвутся, особенно в страсти, и потому что ВИЧ – очень тонкая штука. Он может влезть молчаливо и поселится в ней несколькими серебряными клетками. Мерцая таинственно и нежно... Простирая нитяные щупальца в ее органы, кровь, захватывая ее кровоток, вплетаясь черной парализующей сеткой в иммунные клетки. И она очень долго не будет этого знать.
Ребенок, ребенок. Но какой ребенок, если она – принимает…
И никогда не будет такого второго, как горластый топтыгин Шурка.
...
Она стала избегать Артема ночами.
Раз – не найдя ее в два ночи в постели, он пришел в кухню. Пришел в туалет. Арина сидела на толчке, с ноутбуком на коленях.
– Пишу статью! (Писала письмо для Кондратьева).
– О, господи, – Артем прикрыл дверь. – Ты не Набоков там, часом?.. Тот тоже, ночами, писАл на горшке.
Кондрат читал ее письма с вапа. Отвечал коротко или вовсе не отвечал. Потом они встречались, и он обнимал ее, говорил, что перечитывал 5 раз, и там есть очень глубокие его инсайты, о которых никто даже не знает, а она – чувствует... И Арина ощущала его «спасибо» за это.
В один из дней Сашка ответил Арине: «Типа, ну, приезжай…»
Она застала его раздерганым. В болтанке и депре. Его ломало. Кондрат был взвинчен и обострен. В озлоблении...
Он ходил в комнате, пинал стулья, расшвыривал диски, захлопывал окно.
Его настроение взлетало и падало. Он кидал в Арину словами и взглядами.
– Ты пришла, да?!?.. А чего ты пришла? Я пустой! ширки нет… Я слетел с работы, месяц просратый сижу. Ага! А ты думала – я всегда готов как пионер. Ну, да!
– Что же ты на мобилу не сказал, Саша…
– А я не сказал. Хрен ли мне было!
Он схватил ее предплечье. Как жгут сдавил его. – Я не сказал!..
– Я принесла деньги, – отвечала Арина. – Мне больно! отпусти. Ты попроси курьера своего: пускай подгонит нам кайф... Ты примешь. Или поделим. Здесь хватит на двоих.
– Ты богатая, да? Богатая женщина?!.. Так мне же повезло, ты не находишь? Богатая женщина – бери не хочу. От мужа бегает ко мне… За ширку готова платить!
– Саша. Тебя ломает…
– Я ведь ширяловом только тебе интересен – да, Арина?.. Да же?! Блин, ты бесишь меня иногда. – Он кидал прочь ее руку. И снова, здесь же – с решимость вепря – дергал ее руки к себе. – Мне нужно вмазаться, ты понимаешь…
Его лицо выражало страдание, – бледный, испарина градом катилась, скулы, заваленные под глазами, пугали тенями.
Тогда она подумала, что для портрета Мученика не нужно костров инквизиции, крестных мук или святосебастьянства. Нужно вот это – лицо Кондратьева, его ключицы, завал его пепельных скул, искажением сдавленный рот и подглазья, похожие на осадки автомобильного выхлопного угара.
Сашина бабка – Дарья Сергеевна – восклицала из-за дверей: «Шурочка! Что так громко?!..»
– Бабон! нормально все, – кричал в сторону двери Кондратьев. – Ты иди!!! Я с девушкой говорю! Посмотри там телевизор...
Он орал, но не кидался с ножом и не выкидывал Арину за ворот из квартиры. Опиатные наркоманы – не буйные, это не винтовщики и эйфедралы. Сашкин крик – это были оранжерейные цветочки…
Курьер – вертлявый быстрый мальчик, похожий на стебель одуванчика – Денис Кусков – подогнал им дозу; Арина выскочила на перекресток, приняла у того чеки.
Кондратьев подштырился, вошел в смаз и завис, – и все выправилось, и стало даже славно – он омягчел и стих, он сделался нежен – но Арине было пусто…
Кондрат был в нирване, в своем электрическом поле счастья, – нужды в ней, Арине, не было, не было. И кто была она – рядом с его Герой, – богиней космогонических пантеонов, с ее опьянявшим парадом миров, ее эскортами из мускулистых дэвов-громовержцев – в ожерельях из вращавшихся планет, лепестков женской плоти и оскаленных молний, – она, простая земная девочка, с плюшевыми своими идеалами. С трафаретным мужем и душком залежалой своей человечности. Не было зацепления сфер. Миры не сообщались.
Сашка вошел в свою вселенскую любовь. Он выделялся из тела, отслаивался, откачивал себя – от тела – в сторону. Он был рядом с богами, садами и планетами цивилизаций фохата… Был в музыке сфер и слышал гул пространственных огней и голосов.
Ноль, пыль, помеха – вот кто была Арина, когда он совокуплял себя с Герой – своей возлюбленной, которая сосала из него чудесное молозиво мозга, отдавая взамен свои вихревые артезианские глаза, свое, испорченное нектаром, дыхание божества, свою до дыр отскобленную матку, свою грудь, полную млечного межпланетного молока, свои лживые метафизические чресла...
– Ты стала правильная, доктор? – сказал Кондратьев усмехаясь. – Ага? Ты в лоно добродетели вернулась? Правильная как стеклоочиститель… Ни пятнышка. Ни грешка.
– Я неправильная, нет! Сашка, нет, – отвечала Арина. – Я забита образцами чести и правды… Еще родителями, с детства. Я глупа! откровенна... Доверчива. Я ничтожно – да никак! – осмотрительна. Я до дури склонна верить. Именно поэтому я с тобой. Ну, пока тебе... Тогда.
– Ага, иди. Давай, погуляй там, проветрись… Придешь назад, когда соскучишься.
– Я не приду больше, Саша.
Он захохотал. Наркотик оглушал его... Слепил, расширял. Снимал оковы с души, высвобождал от человеческих связей и пут, границ этики в том числе – полоскал его душу чудесным преломлением рая, навзничь опрокинутого в бездну.
Они расстались больные, с паутинной бледностью щек, с горячими головами, и не виделись долго.
. . .
Арина пришла домой усталая, без лица; Артем встречал ее в тапках на босую ногу. «Что-то случилось? Ты колючая как ежик». – «Да нет. Просто очень болит голова. Давление упало до нуля...» – «Ну, вот! А я тут подсуетился чего-то...»
Она вошла в комнату, и было худшее, конечно.
Салфетки, фужеры, свечка, шампанское, салаты из супермаркета «Лента», креветки – все то, о чем мечтает замужняя барышня, перехлебавшая голливудской продукции и романов нерусских и русских писательниц.
Арина не хлебала романтики и не читала писательниц. С тонким витым дымком газа и трепета, Артем вскрыл шампанское.
Они ели, почти молча, Арина делала лицо растроганой женщины – вельми успешно, Артем ей верил.
Она ела и думала – я брошу все. Никто не будет так любить меня, как он…
Кондратьев думает, что жизнь – это копейка. Он не думает о завтрашнем дне. Он и о ней-то думает – только Здесь и Сейчас... Этот худощавый и битый жизнью парень, с индусскими глазами Джареда Лето. И что он будет думать завтра – она не будет знать никогда.
…
В июне Арина окончила интернатуру и ушла из больницы.
В пустой красивой тишине дома – муж за двадцать километров, – она вдыхала наркотик или клала облатки его на язык. Шмаль она не курила – Артем чуял курево за версту, и вены не проткнула ни разу.
Под кайфом она лежала и думала о Шурке…, – о котором больше? она не знала сама.
Потом ее скручивало и резало интоксикацией по телу. С трудом переступала она отходняк, ладила что-то на ужин, и падала – рушилась – снова в кровать.
. . .
Кондратьев был в задн…. в затруднении.
Он сидел без копейки. Полный голяк, триста рэшек в кармане. Начальник его, директор компьютерной фирмы, списал его с корабля успеха. Кондрата стала подводить память – он давал тормоз, залипал в состояниях, приходил датый, улыбался не ко времени и к месту, а голубевшие пятна под глазами – все это, разом обострившееся вдруг, клиентов, скажем ласково, в контору не привлекало. Трудовую книжку начальник закрыл ему «по собственному желанию».
«Принимать принимай, но знай границу», – таков примерно был рефрен.
Кондратьев выворачивал мозги, где добыть денег…
К денежному папе идти на поклон?
Папа знал, что Сашка давно уже не легенькие дисочки сосет. И сына – старшего – он не привечал, относился к нему как к загубленной части семьи.
А мама... что могла мама. Иногда, украдкой, она подбрасывала Сашке денег, но просила тратить на дело: одежду, мужские примочки, на девушек. Назвать это «делом» у Кондрата не поворачивался язык.
Без героина – была совершенная и полная труба. В офис Сашка ходил, всегда, автоматом: чтобы только деньги были на порошок. Тридцать тысяч в месяц – был нижний порог, который требовала гера. Питался Кондрат на дарьину пенсию. Отец давал денег бабушке лично – на еду, но где один едок, там и два, им хватало. Даша кормила внука, конечно.
Арина злила Кондратьева... Он скучал, изводил себя в приступах и вел себя вызывающе. Грубил, издевался, подначивал – все как всегда.
Потом он принимался думать, что нужно с Ариной завязывать... Воспоминание кожи ее, прозрачной как поверхность ручья, – стянутого первым полиэтиленом ледка, ее глаз, как два густоцветных камешка «тигровый глаз», ее пушистой, всегда нетуго заплетенной косы – словно ворох деревенского лука, перевитого для просушки, – все это говорило ему: не юродствуй, Шура. Не порти чистоту.
И до Арины давно сложился его мир.
Он запер мир от себя... Мир свелся к допингу как к двери в запредел – как причастие к сладостной вечности.
Вечером Кусков Денис подогнал ему чеки, и Кондрат обнялся с герой.
Наутро догнался – поставил еще грамм. Утро было пустое и чистое. Никуда идти было не нужно.
Он был даже рад, что не надо переть ни в какой долбаный «Компьютерный Мир».
Не надо раздавать улыбки программерам, девушкам-юзерам и завсегдатаям интернета... Ну, тем, что сидят по пояс в чатах и форумах, присосанные к порно, и е…ут женщинам головы на сайтах знакомств. На всю голову больные от монитора, железок-начинок и своей дешевой подсадки на виртуал.
Свой собственный ноутбук Кондратьев загнал давно по сходной цене – когда героин перевесил в нем тягу к сети. Сеть была дешевый суррогат, рядом глубокой и чистой лаской наркотика.
Впереди были часы – и дни! – совершенно личного времени: ни звука извне, музыка в магнитоле – Аланис Мориссет, Токио, H.I.M, трансы, – худо-бедно наполненный едой холодильник, еще незадернутая койка – просто шкурно, до чего отлично, что никуда не нужно идти.
Его сейчас вырубит, вынесет ртутным током крови – из тела вон, и он выйдет на сотовую связь с Богом. В белую гущу счастья.
Кондрат пошел на кухню, накатил из-под фильтра воды. Он выпил полстакана, глотая гальку ледяных порций. Легчился телом, отслаивался от тела – душой. Вернулся в комнату, постоял, ощущая нирванический подъем от тела – вверх.
Отрыв. В глазах текло, светлело и расплывалось – необходимо было лечь.
. . .
Они лежали на кушетке Кондратьева – головами друг к другу.
Полынный запах весны втекал в раскрытую форточку. Их пальцы переплелись как крона дерева, добровольно в себе поселившая ветер. Они соприкасались калеками плеч и теплым ранением ртов. Сашка Кондратьев смотрел в потолок.
Он отпустил щетину, десятидневную – легкую, слегка лохматую уже, щетина походила уже на бороденку.
– Король Дроздобород, – сказала Арина. – Как в той детской немецкой киношке… Ты такой же.
– Тебе хорошо?
Он говорил, роняя в потолок бесхитростные фонемы. Фонемы падали и разбивались о солнце.
И оставляли пятнышки на потолке. Пятнышки были похожи на ноты с множеством хвостиков. На множество маленьких молочных солнц. На капли спермы. На бесцветные кляксы в школьной тетради.
– Ты возьмешь из моих рук дармовую гармонию, детка? – говорил он в лицо потолка. – Эта гармония не стоит усилий, она доступна, и она работает наверняка... Мы полетаем.
Арина молчала.
– Дармовая гармония вычтет из наших тел сердце, – шептался он. – А из наших глаз – душу. Взамен мы с тобой получим рай, а рай стоит вечности... Он стоит вечности, на сдачу с которой нам никто не даст ни медяка. – Он утопил кадык глотком.
– Я хочу вдеть в тебя мое сердце... Позволь мне сделать это, Арина.
Кондратьев запрокинул голову набок. К ней.
Арина дышала в его ключицу. Я так тебя….... сказала она одним упавшим движением пальцев. Я ТАКТЕ.
Так давно и больно.
– Не смотри в мои глаза – я вижу в глазах будущее, – сказала Арина.
– И что ты видишь?.. – спросил Кондратьев не отрываясь.
Ключица его растекалась у нее перед глазами. Превращалась в рогатку – из которой стреляют по глазам льноволосых маленьких женщин: врачей-наркоманов…
Ведь необходимо устоять. Потому что дома – Артем. Который ни в чем не виноват... Он не виноват, что невозможно больше жить без этих рук. Без этой жилки над бровью... Без убитой – серебряным вирусом – жизни. Без этой ломаной и конченой пяди героиновой нежности. Без этого серд
ца.
– Ты – это лучшее, что случилось в моей жизни. После Артема и Шурки…
Кондратьева пробило. Он пожелтел, посинел. С размахом он сел на кровати, начал срывать с рук и торса рубашку. Заголять свои вены. Рушил полотно ткани в щелчки отлетающих пуговиц. Контроль его летел и падал к черту.
– Я прошу тебя… Один раз!!! Один раз, Кука… Один укол! Сейчас, сегодня!!! Один… Раз хотя бы! Один-единственный ебаный раз…
Он скатился с кровати. Наполовину одетый, но разобранный уже. Слепыми пятками – босиком.
– Чистым дизелем, ты видишь?.. Гера чистая! без дерьма. Дай руку мне… Прошу тебя. Я все сделаю! слышишь… Ты слышишь?! Арина, слышишь меня.
Сашка синел, белел, – его било, душа и пальцы вели перекрестный огонь, – он глотал свою совесть в желудок, узлами пальцев распарывал упаковку. Всасывал заготовленный раствор. Тряслись руки его, колотилось – булыжником – сердце. Выпрыгивало сердце – из ненадежного каземата груди.
Неслось и падало – в небо.
………………..
Она больше не слышала.
Эффект был ломовой.
Их вымыло – на берег с чистым песком из золота инков. Их обернуло и стянуло – тончайшей небесной фольгой цвета белого подкожного ветра. Солнце вошло в каналы их и взорвало каналы фонтаном древней адриатической пыли, сказало совести: «моргиана, умри». Боги их целовали ванильными устами, с легким ободом киновари... Лукавые фарфоровые глаза богов, очерченные руслами индусской сурьмы, вращались как диски. Боги гладили перстнями их вымытые шелком вечности лица... В оправах перстней вспыхивали и бушевали лазеры кристаллов. Кристаллы преломляли самые чистые спектральные лучи. Они были украдены из глазниц гипорбореев и атлантов.
Легкими птицами проносились архангелы – цепляя лирами волосы Арины.
Саша лежал без движения, распростертый поверх нежно бурлившей простыни цвета индиго – размером с венерианский океан. Существа высших планетарных начал склонялись над сашиной грудью и рисовали на ней – внеземными прохладными пальцами – иероглифы победы над бессмертием...
………………………………
– Блин, мне больно.
Арина расклеила глаза, согнула руку, откинула покрывало. Там, внизу – ее междуножье дышало свежим и ласковым тлением любовного изуверства… Эйфедрин с герачом сработали хорошо.
– Фак, ты чокнулся, Кондратьев.
– Ты чокнулся, мне больно, а! я встать не могу…
– Ариша. Ты прости… Я – ушкурок. Ты прости. Я просто больше не мог… Я просто. Я был вне.
Арина сжала зубы, молча оделась. Молча стянула со стула сумочку.
Охая, ушла в коридор.
– Господи, как мне до дома добраться.
Еще не смеркалось, а ветер выл почему-то – выл как пес, – и когда они ехали в метро – косило обоих.
На них смотрели.
Мужичка Ромы не было в это раз... Кондратьев – качаясь как матрос, – привез Арину домой: спать. Втащил в комнату, укантовал на кровати, дверь захлопнул. Английский замок был, наудачу. Без ригелей.
И она проспала до самого прихода Артема.
. . .
Артем Адулас стоял за прилавком, посетителей не было.
Он пошарил глазами по залу, заметил, что охранник занят собой, и раскрыл журнал по оружию. Но стволы не радовали его в этот момент. Он думал о жене… И о женщине в целом. О том, почему такая зависимость от них. Откуда эта болезнь? И что назвать любовью – кроме обласканного самолюбия, потревоженного сердца и неотступного притяжения тела.
Когда ты не знаешь, куда деть из груди сердце, и оно точится сладостным гноем, затапливая больной тоской твое нутро – это Любовь.
Когда тебя достала ежедневная манная каша и пережаренная картошка, ебет мамаев хлам в квартире, копна неглаженых рубашек, раздражают телефонные подружки любимой, томят ее ежемесячные недомогания, – это Любовь…
Когда ты устал и не хочешь видеть любимую, когда тебя доехала ее неистощимая ласка, и ты бранишься по ничтожной причине – с тем, чтобы порвать серебряную нитку ее лучащейся нежности, а через три дня ты согласен выть, корчась ногами на полу, оттого, что ее нет, – это Любовь.
Когда тебе хочется ударить по шее свою ненаглядную лишь оттого, что она ласково посмотрела на другого, и сказала ему несколько незначащих слов, голосом, каким она твердила тебе: «Ты мой самый родной», – это Любовь...
Входная дверь хлопнула, и Артем – следом – захлопнул журнал. Охранник неторопливо приосанился – вошел посетитель.
Вопрос любви остался не разрешен Адуласом до конца.
...
Ночью Арину кумарило.
Она гнулась на постели, – мокрая от пота до самых костей. Штемпелевала влажным лбом простынь. Вцеплялась Артему в щеки и плечи. Он держал ее голову, прижимал к груди, не давая кричать, и только шептал: «Всё, всё! всё кончилось, Кукуня... Всё хорошо». Целовал в шею, зажимал ртом висок.
– Твои таблетки в гроб тебя загонят.
Арину колотило, со лба ручьем текло, пальцы крючились и выпрямлялись снова – кольями. Простынь ползла за ними следом, косяком текстильных разбегавшихся волн. Она затихла под утро, свернувшись угловатым комком – плечи, локти, коленки, – клубок утомления и острого прохладного сна.
Адулас вырубился – трупом. Оставалось спать два часа.
Наутро она выползла в кухню, где Артем, растирая глаза, гремел кофеваркой.
Он морщил лоб – сна не хватало, было тошно думать, что ближайшие семь часов необходимо отклячить как-то в «Арбалете»... Он просыпал сахар на электроплиту. Эти панели ничего не боятся, кроме сахара. Он схватил тряпку, начал стирать, чтобы не прикипело. Все валилось из рук... Крупины сахара летели на пол. Он задел кофеварку, кофе выплеснулся, зашипело столбом и треском.
Приходит предел терпению, даже когда ты любишь.
– Вот если б ты тогда не отдала Шурку в ясли!!! – вскинулся Артем.
При слове «Шурка» Арину перекосило. Потому что в этот раз – при упоминании имени – первым влетел и ударил в память – Кондратьев…
Точно простынь накинули на ее лицо. И лицо путалось в простыни, искало воздух, хватало комки кислорода.
Лицо Арины точно сыпалось...
Она смотрела, как смотрит человек из застенка – до последней минуты веря в возможность пощады.
– Я не меньше твоего переживаю!!! И я не меньше спрашиваю с себя, тебе ясно?!?... И хватит орать из-за кофе!
Артем швырнул прихватку, ударил в стол кулаком: «Арина!», «Достал меня уже...»; она спаслась в ванной, наглухо перечеркнув Артема шпингалетом.
Он уехал на работу: злой и чумной, вытряхнутый как порожний спальный мешок.
. . .
Две недели Сашка долбил аринин сотовый номер. Звонил. Засылал эс-мески. Злые и нежные, нервные, откровенные, пересыпанные угрозой и шантажом. К хорошему привыкаешь так же прочно, как не можешь отвыкнуть от пагубного... Он привязался к Арине.
Арина сбрасывала и месаги, и звонки.
Игнор. Наконец он понял, что не будет больше ничего. Он затих, кинув ей последние два сообщения.
Потом переждал – была тишина, – и, обозлясь, написал ей письмо, отвез и в ящик кинул. Без штемпеля. Фамилию на конверте левую приписал, женскую: Ира Колоскова. Дабы не. Если муж конверт заметет.
«Я съезжаю, Кука. Сейчас дозировки растут. Растет частота употребления: приближаюсь к уровню 3х грамм в сутки. Я джанки, понимаешь.
У меня срывы (не факт, что через отходы): я ищу тебя. Потому что думаю, что имею право.
Послушай, как я могу сделать тебе больно, если ты ничего ко мне не чувствуешь? За шею схвачу и начну душить в кофейне? Хрен там тебя расстроил своими выпадами мата однажды… И за секс тот прости, – это эфедрин, меня понесло, я не думал, что так выйдет.
Я не за стаф тебя виню, мне нравится свобода... Ну да, ебошил тебе мозг смс/мэйлами/звонками на отходах. Что с того?
Прошу бы об одном тебя. Ночь с пт на сб или с сб на вс. Я буду джентльмен (с учетом суммы моего долга, это будет смешно выглядеть), – не прячься за своими расходами. Ну и я знаю бюджетные варианты проведения ночи. Секс мимо, даже если ты захочешь. Домой верну, как только попросишь. Ну и... раз ты стала противник синтетического счастья (решает за рай любовь с ключиком, да?)... Тебе можно выпивать?..
Я хочу. »
Не последовало ответа на это письмо.
Сашка сламывал себя, болел и скулил от безденежья, находил – любым катаньем – деньги. Возрождался от вставленных доз.
Вся его жизнь была – качели. Бабка Даша хлопотала вокруг него...
– Все хорошо у тебя, Шура?
– Все прекрасно, ба. (Как никогда х..во, бабуля.)
– А у меня вот… подвесочка. Потерялась. – Бабушка отерла пальцем глаза. – Белое золото, изумрудик, дедушка дарил мне. Моя любимая! всегда при мне была...
– Бабуль, найдется. Закатилась куда-нибудь... – отвечал Кондратьев. – Ну, не плачь. Я – твой изумрудик... Нам вместе хорошо, да? – Прятал глаза.
– Хорошо, Шура. Ты только не нервничай так... Все к добру. Все, мой милый, все. Я пойду, – Дарья ушла к телевизору.
«Помру – и тоже все к добру будет», – подумал он в озлоблении.
И с тем же озлоблением – раскаленной испорченной нежности – он думал об Арине……..
Он был в разломе. – Она была подавлена.
Его ломали жестокие отходняки. Ее кидало из крайности в крайность.
Ее держал на кромке сознания муж. – Его выхаживала бабка.
«Царевна Будур, спящая ты моя», – твердил Артем, раскачивал плечо Арины ото сна…
Сутками бродила она по квартире немытая, присасываясь к плейеру.
В наушниках играла любимая кондратьевская музыка. Немчики, H.I.M., АВТ, Джэм, Мориссет. Музыка была волшебным порошком, оживлявшим Кондратьева – ее мелодии несли к Арине живые Сашкины глаза, ее такты напоминали его голос, который звучал, когда звучала в его комнате музыка…
Она садилась за ноутбук – будто бы писала врачебную работу?.. а писала ли? – без конца ела, спала без конца тоже, забиваясь мятой сомнамбулой в кровать. Вся жизнь была одна сплошная летаргия, с редкими вынырами на поверхность бытия.
Аутизм Арины достиг размеров монгольфьера... Возбуждение – упадок сил, – озноб – лень – вата депрессии.
Она отчуждалась от Артема, вязла в тоске и апатии. То, что произошло на квартире Кондратьева – рождало лишь один протест: «не отвечать», но – по иронии женского сердца – еще сильнее любила она его. Еще больнее и глуше скучала.
Она ждала снов, но сны не приходили.
Она перебирала в памяти черты Кондратьева. Его глаза смотрели на нее с мысленного экрана, глядели родниками понимания – прятавшими то, что нельзя произнести. Они ласкали Арину, как ласкают кожу – перья павлина; она становилась прекрасной, подавленной, божественной, щедрой, безвольной, – ее душа уносилась в его руки, ее тело полнокровно отвечало ему...
А иногда Кондрат ей грезился наяву – когда она ходила и делала что-то.
Он наклонялся над нею, дышал почти в шею. Последыши героиновых аэраций давали себя знать – Арину глючило, замыкало. «Ты сумасшедший и удивительный…»
Перекидывая локоть – за ее плечо, Кондратьев приближал рот к ее глазам, шептал в эти глаза: «Посходи со мной с ума».
Она принимала наркотик, когда Адулас был на работе. Нюхала героин, глотала диски. Ноутбук с заветной работой о наркоманах она раскрывать перестала.
Зато без конца включала с оффа телефон, перечитывала кондратьевские месаги. Затирала их трясущимися руками. Два, три, четыре – бросала, жалела немедленно, что вытерла, и злилась на себя; жестоко и голодно уничтожала еще несколько штук. И вдавливала «нокию» в грудь, и ревела, и задирала голову, и рыдала в потолок, – и только было слышно: Саша, Саша, Саша…
Благо, Артем был далеко и прочно на работе.
Арина скатилась в сладостную яму – спала сутками.
Лежала – белая и прохладная, сжавшись в узел, как голоногий морской моллюск: с фонариками небытия у подвядших от неподвижности глаз.
Адулас гладил ее иногда. Гладил, смотрел. Вид ее оставлял желать лучшего. Много лучшего.
– Ты перестала мыться, Ариша…
– Я не хочу мыться. Мне холодно.
Артем погладил ее руку.
– Ариш, давай что-то делать. Может, к Брусникину твоему обратиться?.. У тебя зависимость уже – от этих успокоительных…
– К Брусникину?
– В больницу твою. На Васильевский. Частным образом, конечно.
– В больницу?
– Ариша. Ты помнишь, какое сегодня число?.. – Он вгляделся в глаза ее. – День нашей свадьбы. Шесть лет... Число Венеры. А впрочем, тебе все равно.
А однажды Артема испугал аринин гон.
Припадок. Ей виделись картины ужаса.…..…. где разрывали Сашку…………. и рыжий маленький Шурка запирал на ключик дверцу, – навсегда оставляя пустым ее грудной секретный шкафчик. Он прятал ее сердце далеко-далеко – наверное под своею кроваткой, куда не умел залезть ни один живой взрослый: это была зона XXXX (запрещенная четырежды). ……. Артема в этих снах не было.
Адулас, как мог, откачивал ее от истерик.
Бил ее по рукам, сажал под замок, отпаивал кефиром и супом. Сам варил суп – из кипятка и польских пакетов. Жарил блины «морозко», заливал сметаной, всовывал в аринин рот по кусочкам. Пельмени еще. Обыскивал ее сумочку.
Иногда он орал. Не мог терпеть. Орал и срывался.
– Ты понимаешь, что ты с-сердце мне вырезаешь?! Я не могу видеть, как ты дохнешь. ……… Застрелить тебя, что ли, чтобы не мучилась. Господи!
Арина стала путать цифры. Имена… Она не помнила дня, когда ушел от них Шурка. 17 или 18 декабря. А когда точно? Не помнила.
Под кайфом ее мысли переплетались – они вырастали и вспыхивали в звезды. Мысли бродили по ее телу, совершали прикосновения, проникали в глаза, заглядывали в сердце.
«Прошу, сними с меня свои пальцы.
Свои невоспитанные руки и глаза – с их пиратскими путешествиями вдоль палуб моего тела, в затемненных каютах и закоулках, потаенных телесных трюмах, слегка подтопленных водой, – корабль сдался; пробоина! он взят на абордаж…
Впереди расхищение и самое нежное мародерство, и самая ужасная пощада, и усердный шепот корабельного падре, – заговор, наговор, приговор, приворот – с отходною молитвой – мы тонем, капитан?…
Они пираты – твои черничные, с молочной бисериной глаза. Твои казнящие пальцы.
Пыль ультрамариновых звезд похожа на пробои в твоих венах. Тонкая наскальная живопись твоих родинок парализует меня.
Бог загнал тебя в это тело, не пощадив твоей души – здесь ли ты думал родиться?…
Звезда Ригель – в одном из странных моих снов, – показала свою медлительную щеку, заслонившую пять шестых горизонта. Накрыла меня тяжелой, невесомой полуденной тенью, похожей на присутствие исполинского зверя. Я поняла тогда, откуда ты – мой звездный изношенный мальчик...
В твоей крови простор родной планеты, ее оглушительная музыкальная тишина, аргентум и аурум, – память о доме заставляет тебя искать пути и ворота: к достижению его…
И ты считаешь – здесь все средства хороши.
Кондрат, мои силы ничтожны... И я плачу по тебе.
Моя увечная нежность к тебе – мой Новый Иерусалим.
Она бела как все пустыни, пережженные солнцем до негатива. Седая утренняя пыль носиться на поверхности пустынных морей, застревает в мраморных щелях дворца...
Мой лоб татуирован биндой счастья, бог целовал меня туда.
О тебе скучает ВСЕ.
У меня точно содрана кожа с ладоней. Моя внутренняя стиснутая ладонь – ей больше не дождаться передачи бесценного – из рук в руки, – от тебя.
Я чувствую на бутылочном логотипе моей внутренней жизни – нежном бурдюке, способном понести нового человека, – твою недостающую часть: окатыш малиновой плоти с гранатовой выемкой для притока жизни...
Твоя тонкая канальная игла никогда не расплачется больше.
Моя мечта – находиться от тебя на расстоянии шепота.
Но не ты и не твой шепот находятся рядом со мной……………..»
…
Однажды Артем нашел жену дома в полном раздрае.
Полумертвую, нечесаную, с пепельными ожогами двухдневной косметики у глаз. С тапками поверх постельного белья.
В кухне горбилась невымытая посуда. Опрокинутая в мойку – эверестом. С клочьями мумифицированной пищи на ободах тарелок. В ванной дотлевал мамай распада и запустения. Груды бумаг на рабочем столе Артема перемежались с чашками, протравленными несмываемой накипью чая…
Арина валялась в отключке.
– Ты опизденела, Ариша.
Он врубил свет в комнате в полную силу.
Он разглядывал ее при свете бра. Ее запрокинутое лицо, лишенное выражения, смысла, ее волосы, нечесаные несколько дней.
– Ччерт! Твои транквилизаторы загонят тебя в могилу… Вставай. Подымайся!!!
Он растолкал ее, оттащил в ванную мыться. Он плескал и тер Арине лицо, обтирал его. Пачкал в ее косметике полотенце. Привел в кухню и усадил на стул... «Нельзя все время лежать. Ты овощем станешь».
Арина тупо сидела. Качалась головой, сникала, падала спать, – здесь же, за столом, подложив под голову руку.
Он холодел до мозга, терял ощущение покоя. Он видел и чувствовал – как уходит что-то, как вымывается фундамент их брака, построенный далеко не на песке…
Так ли было – еще недавно? Недавно, в его незыблемой жизни.
В которой были ребенок и любимая женщина…
Когда дома был рай – веселые окна и чистые занавески. Горячая плита «бош» с его любимой едой. Пускай даже купленной в супермаркете – но ЕЮ, Ариной, согретой. Когда было о чем поговорить, и чей голос услышать… Когда женщину можно было едва тронуть – обожженными кромками языка, или пальцев, – и он остановить не мог ее сокращений, ее стыдных и ласковых судорог, – наслаждаясь, как ударяла она пяточками и голенями о простынь… Когда ребенок бывал шумен, криклив, мятно щерил усаженные зубками десны, – и улыбался как деревенское яблочное солнце – и спал между ними, чудесно, положив кулачок под теплую сахарную свою щеку.
И как он был обыденно, обывательски, заурядно, физически счастлив...
Шесть лет брака – и еще два года до свадьбы, – с того дня, под выжженным небом ЛТО…
Как он славно сжимал сына Шурку, и притирал его к груди, запрокидывал свой кадык о диван, – и как вдруг жало из-под века. А всего-то – ком живой плоти, возрастом несколько месяцев. По сути растение – ноль интеллекта, одни реакции – оплевывание кашей стола, надрывный вой по ночам, порча вещей, грабеж личного времени, нацизм нежности, жесточайшее чудо природы.
И как бродил он, Артем – с ребенком во дворе, пас, наблюдал, переносил лопатку с ведерком, – сын лепетал иногда что-то, повреждая воздух неосмысленной кашей словечек.
Артем смотрел, как дергает сын у ровесницы пластмассовый совок, уверенно дергает, как свое, дуя щеки и лепеча: «Водай мне! водай»; и как бабка девочки, молодящаяся дама в берете, с карминной помадой, с кистями рук, искалеченными ревматизмом – с прописанной на ревматизме интеллигентностью, – с улыбкой каиновой нежности говорит ему, двадцатитрехлетнему отцу – подержите вашего сына, подержите, он ЖЕ ДЕВОЧКУ БЬЕТ!
А он, Артем, – он ни черта не мог понять, почему он должен осаживать сына – когда тот нормально, чистосердечно отвоевывает свое, младенческое, инстинктивное, мужское, никакой вины на себе не несущее.
В полтора-то года.
Никакой.
И, вспоминая, он зажимал губы, и плакал, и сдавливал челюсть и шею рукой – не в силах остановить рыдание свое: пагубное и сильное, потоком рвущееся наружу.
. . .
Кондратьев лежал с пневмонией.
Иммунитет был подорван. Клетки болезни захватывали и оцепляли еще здоровые клетки. Жар тек и разливался по телу. Сашка спал, пылая от пота. Наконец бронхи свел приступ кашля – в мокроту и убой. До разрыва трахеи. С трудом он понял, что трезвонит мобильный. Звонил Сын.
Выдернул Кондрата из мокрой ямы температуры, волчьего кашля, соленых мидий спросонья раскроенных глаз. Голос Сына издалека рождался в трубке. «...Да че ты делаешь?! Ну, ты борзая, Лика, это точно». – Куда-то в сторону, не ему.
И ему:
– Как дела-то? Забываешь нас, Шура. Не видим тебя…
– Я болею.
– Да ну? – Сын несдержанно хмыкнул. – Ну, как отболеешь – притарань должок, Шура… Добро?
– Сын. Чего ты, – сказал Сашка. – Я отдавал же тебе. Мы сбрасывались, помнишь. В общий котел все ушло...
– И сколько там было твоих? В котле-то?
– Половина...
– Это не половина была. Так, слезы.
– Хорошо, я после докину еще. Я болею сейчас…
– Ложь, Кондратик.
– Действительно, скоро...
– Ты не помнишь, это у меня богатый папа?.. Или у кого-то другого? Провалы в памяти у меня.
– Сын, мои слова – это железо... Если я сказал…
– Я жду еще два дня. Потом ты и твоя шизанутая бабка начинаете резко жалеть о дефиците железа, – сказал Сын и вырубил связь. Кондратьев схлопнул слайдер и загнал его под подушку. «Ты задрал меня, фраер».
С треском он поднял себя из койки – было девять вечера. Кондрата мутило, качало, рвало. На пневмонию наслаивалась ломка. Снять было нечем. Пороло душу, заливало кровью глаза. Подкатывало и угнетало – вот-вот – что-то ужасное…
Кондрат вспоминал припадки сознания, случавшиеся с ним.
Когда посреди улицы, в потоке автомашин, стереофонического гула людской толпы – он вдруг останавливался и терялся, переставал понимать, что происходит – куда он едет, какой сегодня день, месяц, год… и звуки, бесконечное множество, становились все громче, оглушали его, начинали искажаться, радиальной картинкой в вогнутом стекле – с брызгами многоцветных полос. Он стоял посреди улицы и не знал, что делать – тревога перерастала в непереносимый страх, хотелось на месте провалиться, чтобы избавиться от ужаса – не видеть, не чувствовать, исчезнуть, перестать жариться в этом аду.
И как дома, на черных отходах – диких и штыривших душу и тело, – Кондрат готов был повязать на шею ременную петлю, или выйти в окно.
И – нет выхода.
НЕТ выхода.
НЕТ.
А потом вдруг был день, – когда он целых тридцать секунд был ЗДОРОВ.
Как раньше. До нарко.
Когда кровь была еще чиста, и мозг работал без сбоев – как новешенький, смазанный свежестью английский локомотив. Дар...
Целых ТРИДЦАТЬ. Как раньше. 30 секунд счастья – НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО в своей РЕАЛЬНОСТИ.
Он вынырнул из толщи, которая глючила мозги, топила ватой слух и мазала зрение.
Но прошли 30 секунд, и вернулось – по кругу – то же, что всегда кусало и жгло.
Ярость.
Страх – себя, людей.
Нереальность.
Триада. ТРИ АДА.
– Ты загибаешься, Шурочка, – плакала Дарья. – Ты разрушаешь себя... Мне больно видеть. Ты стал такой худой. На тебе одежда висит.
– Бабон! Ты НЕ хуже меня знаешь, что то, что впереди – это не страшно...
– Мне девяносто один год, Шура! а ты еще мальчик... Мой первый мальчичек.
У Дарьи была единственная дочь – сашкина и витькина мама.
Кондрата злила бабкина доброта: он был беспомощен перед этим.
– Бабон, иди, оставь меня... Приготовь вкусное! – отвечал он озлобляясь. – И, если ты любишь меня – сойди с меня… Сойди с меня, сойди, блин, сойди! Это мой мир, моя жизнь. Мне комфортно в ней... Я счастлив. У тебя свои были экстазы – балеты, корсеты!.. легендарные люди. Кто, как не ты, должен меня понимать. Запомни, я – нормален! нарушено тело немного... Ну да, я им пренебрегал. Но, значит, так было нужно. Необходимо! В конце концов, единственно правильно – для меня...
Дарья краснела глазами и носом, шмыгала, сгибала голову над своей декадентской спиной.
– Бабон, я мешаю тебе?.. Тебе душно со мной?
Кондратьева мучила собственная грубость и собственное бессилие.
– Бабоник. Все хорошо, ей-богу! Не надо плакать...
Вечером Сашке было реально хуево, так хуево ему еще не было никогда.
Вдруг навалилась страшная ирреальность, хичкок и хоррор, – все было как во сне, в ужасном сне. Искажение звуков, смещение всех слоев ощущений, дьяволиада сознания – штука удивительная, но пугающая одновременно.
До дурноты его штырило, он клялся себе, – всеми святыми божился, господи, господи, господи, на вот этой иконе, на божьей матери, на крови, – что утром он позвонит Кускову и любым мытьем или катаньем выпросит и вырвет у него чеки...
Чтобы вдеть в кровь спасение геры. Единственно возможное спасение – для него.
Назавтра к Дарье пришел какой-то балетовед, кажется, из бывших ее учеников.
Кондратьев не выходил из комнаты – балетовед стеснял его до черта. Стеснял слишком опрятный костюм, слишком умные, навыкат, глаза, слишком эрудированная речь, слишком золоченая оптика, слишком хлипкая журавлиная шея. Нужно было удерживать себя от того, чтоб не измять его костюм, не изломать оптику, не завязать узлом журавлиную шею. При этом тратить душу на гостя, кивать, пить чай, расшаркивать ногами, поддерживать разговор...
Дарьин визитер сидел так долго, и так прилежно лопотал что-то за дверью, что визит этот все не кончался – он мешал позвать Кускова и принять у того героин.
Кондрат заперся в своей комнате и сидел там, желая одного, – чтобы бабушкин гость как можно скорее ушел. Да и комната Сашки была слишком своеобычна, чтобы предъявлять ее посторонним. Несмотря на то, что здесь был правильный легкий бедлам. Последний раз он мел пыль с месяц назад... А бабушка прибирать не могла – не по силам ей было. Он и в магазин бегал сам – Дарья почти не спускалась на улицу. Иногда, у касс гипермаркета, Кондратьев заминал одну-две бумажки, заламывал вдвое и нежно клал себе в карман. Копил как школьник – на еще одну, «левую» дозу.
Магазинные чеки он кидал в ведерко для мусора, там же – в магазине.
Когда балетовед свалил, Сашка вызвонил Кускову.
Едва дожил, его ломало – кости выходили через кожу и терли одежду. Кишки сплетались в клубок и вытекали изо рта. Суставы скрипели и хрустели при каждом движении.
– Денис... – сказал он глухо, нервно, с напряжением. – Ты давно был у Сына? Мне нужны чеки. Пара! три, четыре – сколько ты сможешь. (ЧИСТЫХ, Денис!) Мне срочно… Ломит в дугу, да! Я болею, дома сижу, подгони сюда, ага? И еще... У меня нет бабла. Возьмешь мой плейер, ты хотел? Блин, не упрямься... Это хорошая вещь! Германия, ты сбудешь его на рынке в две цены, чем стоят чеки. Да почему же?.. Типа ты гордый? Хорошо, дай минимум, если так ставишь вопрос. Сколько?!? Ты охренел? Ну, ты… Кусков, мы же были друзьями! Ладно, черт, давай. Только быстро!.. В парадной будешь, мне на сотовый позвони, я дверь приоткрою. Не хочу, чтобы бабушка знала. Незачем ей.
Курьер Кусков привез порошок, выгрузил из нагрудного кармашка и долго ломался у дверей – не хотел отстегивать больше чеков, чем сулил по телефону. Кондратьев отдал плейер. Плюнул на ноль гуманизма и на подонский обсчет. Запер за Кусковым дверь.
Ушел к себе, достал с верхнего угла стеллажа пакет, из него матерчатый сверток, раскатал ткань на столе. Там были шприцы, иглы, жгут для пережатий, чеки с пылью, пузырек спирта, вата.
Не спеша, он замешал дозу в агрегате*. Бледными пальцами бездомного музыканта.
Звонок в дверь заставил йокнуть его сердце. Кондрат накинул полотенце на разобранный набор для инъекции.
Пришел Витька, – нежданный, но, в общем-то, ожидаемый даже. Вихрастый, в куртенке, черных штанах, в своем неизменном бейсбольном кепарике…
– Дверь закрой, – велел Кондратьев. – Заходи, не стой на ветру.
Впустил его в комнату. Виктор сел на кровать...
Бабушка Дарья, возилась на кухне с примочками. Погромыхивала чем-то.
Кондратьев хрипел и кашлял. Постель была застелена наскоро, белье торчало из-под пледа кошачьими белыми ушками. Было видно, насколько мокрое белье. Растянутый свитер болтался на Кондратьеве как ряса.
Выглядел он белокожно и белоснежно – мог заместо Панночки в кино полетать... Худоба подсвечивала скулы.
– Ты болеешь?.. – спросил его Витя.
– Болею. – Кондратьев кивнул одними глазами. – Я жизнью болею, Витька. – Усмехнулся.
– Может, в больницу тебе? С твоим вирусом вроде нельзя болеть сильно…
– Блин, ты как бабушка! – вздернулся Сашка. – Пойду, пойду я в больницу... когда совсем настанут кранты. Туда и пойду, куда больше. – Он продолжил мутить с жалом.
– Чуть погоди. Я щас.
Сашка всосал в иглу раствор, плюнул на пальцы, растер ими углубление под коленом. Виктор молча смотрел.
Первый раз он видел открыто, как брат качает себе наркоту. А Сашка первый раз не скрывал – не до этого было.
Если б не вштырил – упал бы.
– И что, как скоро от герыча бывает приход?.. – спросил его Витька.
Кондратьев усмехнулся, невесело.
– Да какой там приход, – сунул иголкой в локтевую вену и пошел дальше...
– Сунул ради самого процесса «сувания»?
– Нет уж, братко. Употребление имеет вполне конкретную цель, – поправиться, физически придти в себя... Сопутствующие эффекты меньше всего интересуют.
На руках вен не было: Кондратьев вставил под колено. – Да и не приход в опиатах главное…
– А что главное?
– Есть нюансы конечно, но в основном – абы не кумарило, и добре... Рутина, в общем.
Как завороженный, Виктор смотрел, как игла пронизает подколенную ямку, с невидимым канатом сашкиной вены, – исторгая каплю драгоценной красноты.
– Но ведь кумарить начинает далеко не сразу?.. – Спросил он брата. – Надо уже какой-то стаж поиметь для этого, так? А что главное до того как? ну, до стажа?
– Виктор, запомни. Вкури на всю жизнь, и не спрашивай меня больше...
Кондратьев спустил выборку наркотика, выткнул иглу наружу. Выдохнул.
– Главное – всё. Абсолютно ВСЁ. – Он снял иглу, утопил в пустое дуло пластмассовый поршень, завернул шприц в бросовый лист газетной бумаги. – И это ВСЁ дает человеку гера... И это не в переносном смысле, а абсолютно всё. А потом и забирает то, что дала, и еще то, до чего может ДОТЯНУТЬСЯ. – Он откинул голову, закрыл глаза, дышал. – То есть, вообще всё.
И насовсем. ВиктОр...
. . .
Малиновых полосок было две.
Сильные и мутноватые – точно две пробившиеся к свету подкожные венки.
Две полоски – это удар под сердце, в районе желудка. Удар – либо радости, либо сосущего холода, в любом случае для женщины это удар. Арина положила влажный еще тестер на салфетку.
Был день молчания.
Бессодержательной тоски, – которой, как медленно катившейся ленте реки – не было конца. Время было – северная река, несущая на плечах своих широких вод лоскуты и заплаты сплавляемого леса, чернокожие остророгие топляки. Барашки водоворотов, буруны, бущующим хрусталем кипящие пороги только подчеркивали неповоротливость реки.
Река не знала ни конца, ни начала времен.
Таково было время Арины.
Она почти не говорила вечером с Артемом.
Кондратьеву она позвонила наутро.
Волны сети принесли к ней горький респираторный кашель, и туберкулезный голос Сашки отвечал: «Да!» Слежалый, вымокший, полный шорохов как измятая газета. Вдруг заломило сердце – нежностью, развалилась надвое решимость быть безличной и строгой.
В сердцевине разлома замерцал восхитительный камешек нежности – блестка золота в отхожей горной породе.
– Что с тобой? – сказала, дрогнув.
– Болею, – отвечал Кондратьев. – Гриппак... Или, возможно, пневмония. Сильный кашель. – Как ты?
«Я.……....» Что-то растеклось и начало таять внутри куском испорченного масла. Едва взяла себя в руки Арина.
– Шурка! Сколько было презервативов – т о г д а...
Он выкашлял мокроту куда-то в сторону. В платок или полотенце.
– Три штуки, – отвечал ей.
– Был поврежден хоть один?
– Не был. Не тревожься... А что?
– Я записалась к врачу на аборт, – помолчала Арина. – Я беременна, Шура.
Кондратьев молчал также. Не тяжело. Устало, скорее...
– Арина, оставь его, – сказал наконец.
Продолжал, плевком кашля выбив засор из гортани. – Пускай будет Шурка-второй. Пускай придет на землю. Может, хоть этому повезет… И у меня еще не бы… – Глубинный треск и кашель снова. Кондратьев отхаркивал, не мог говорить. И что-то в его голосе заставило Арину откатить диалог назад.
– Я задаю сначала мой вопрос. Сколько было пре…
– Блин! четыре, – Кондратьев выдохнул комок воздуха в самый динамик. – Один вылетел сразу. На самом пике... Но я немедленно вышел. Ничего не попало. Верь мне, Арина.
– Ты помнишь точно?
– Да, вроде. Мне кажется, так...
Ни фига не помнишь ты, Саша Кондратьев…
– Почему ты не сказал мне тогда же!
По лицу Арины скатывались слезы.
– Я принимала нарко еще две недели. Млин, две недели! Когда идет закладка органов, мозга... Ты понимаешь, что это значит. Что малыш может стать уродом!
Арина слушала охрипшее дыхание его. Она слушала, и упреки замещались в ней жестокой и разъедающей нежностью. Беспокойство за мужчину брало в ней верх над беспокойством за дитя. И, как врач, она знала – если это пневмоцистная пневмония, то это приговор. Для него. Без кассаций.
– Позови врача! Если у тебя легкие, ты себя вгонишь… Блин, Шурка, так нельзя!
– Я зову врача. Приезжай ко мне…
– Я не пульманолог.
– Я знаю. Приезжай все равно… Ты приедешь? Может, мне полегчает от тебя.
– Я не могу. Мне завтра… Ну, ты слышал уже.
– Сегодня приезжай.
– Не могу. Артем придет уже скоро.
– Ну, желаю тебе радости, с Артемом. Пока тебе! милая доктор…
Кондратьев дал отбой.
Смялось и высохло «Береги себя», которое она хотела сказать ему; высохло и стянулось в комок. Арина выключила телефон, на офф полностью, отбросила нокию – спичечным коробком – на стол.
Она легла и завернулась в оба одеяла – свое и Артема. И было легче от того, что артемово одеяло отказалось ближе к телу: она целовала его кромку. Это было то, что защищало… Ее, навсегда. Она дышала и думала. Сердце постукивало в ней. Вечная машинка, трудолюбивая как солнце, – ни часа отдыха, ни минуты, ни мига.
Горячий скисший кефир наркотического семени – несколько ласковых ложек, – разрастался и множился внутри нее, закручивался в осмысленную запятую: живую и теплую, с любовью и легкостью сосущую кровь из нее – мягкий хитин будущей жизни, не больше креветки. Отравленный героином, искалеченный любовью и безысходностью.
Шурка-второй. Шурка неповто……...
Наследник златоглазых героиновых богов.
Запятая жила и скреблась, неощутимыми царапинами, в пузыре Арининой плоти, – размером с пять рублей.
Но это было дитя героина.
Она принимала. Она испортила кровь и мозг – этому хрустальному зарождению.
И он уже нес семена не-жизни.
И ей придется щипцами вырвать запятую. Сгноить и выдавить. В канализацию… В кюветку абортария. И ей никогда не сжать чудесное тельце – мокрое и визжащее. Не дать высосать из соска – ее собственное сердце. И это правильно, что она не даст рождение наркоману. И это счастье – что через пятнадцать лет ее не обнимут юношеские мускулистые руки... Красивые как у Джареда Лето. И никто не скажет, покачивая ее плечи: «Мамуууу, привет!»
Пачкая ее шею шорохом младенческих усов.
Это – с ч а с т ь е?.........
. . .
Медицинский бог был бесстыден, неприветлив, молчалив.
Железные скобы боксов и кювет. Легкое и нейтральное серебро пытательных инструментов.
Серая марля окна, за которым мелкий песок пылевого дождя.
И раскрытое – с вывернутыми упорами – кресло, холодное как мокрые лапы морской некормленой чайки.
Живая человеческая чайка раскроет здесь крылья, и между них – крючком для чистки отходов – вынут ставший бесполезным для нее венозный лепесток или тромб. И придадут крыльям снова товарный вид, драпируя озябшими перьями новорожденный надрез…
Увечная чайка снова готова к полету. Но она стала легче на один лепесток или тромб – и память о нем не сотрется в ней до исхода ее ливингстонных полетов. Ведь из лепестка могло бы вырасти еще одно сильное сердце, удвоив аэродинамическую ее силу.
Отходя от наркоза, Арина сидела на койке, смотрела в октябрьское светлевшее окно.
Больше не было Шурки-второго. Цеплявшейся жизни – размером с монету. Шелушинки звезды, опавшей на землю – точно туда, куда упасть собиралась…
Больше не.
Это был роддом. Там кричали дети. Ниже этажом. Совсем еще внутриутробными, едва прорезанными голосами.
Нельзя делать аборты – в роддомах. Это противоестественно. Преступно.
Сердце матери, позволившей убить – только что! – оно добивается этими голосами… Котеночьим ревом и плачем, похожим на скрипящие двери. Двери в Будущее, которые навсегда закрылись – для ее дитя.
Он ушла пустая. Ее глаза не видели солнца. А солнце – вдруг показалось. Размело кисель дождя, разнесло непогоду. Был осенний, чистый, на редкость звонкий полдень.
Едва ли что-нибудь вечером заметил Артем – ужин, какой-никакой, Арина поставила на стол, и была даже причесана, и даже присутствовала (кажется) в доме, как присутствует и дышит на стене акварельная тень, как дышит – легким остуженным паром – возле форточки воздух.
Ни заторможенность, ни бледность Арины не были Артему в новинку.
Была ночь, они спали рядом, не обнимая друг друга.
Артема давило и раздавливало одиночество. Жена уходила – из тепла и уюта семьи; он был один, и она была одна, – с собой она не брала, и куда уходила она – он этого не знал...
Ночью был сон, где последний раз она видела сына.
Шурка был белый как выстиранный в щелоке. Казалось, белые были даже глаза. Он был особенно тщедушен. На колючих плечиках висел тот самый бедуинский халат – с веревочным поясом. Только оружие не было воткнуто за веревку.
«Мама!... Ты разрешила вырезать меня, – сказал Шурка, протягивая ладони. – Я так старался, мама. Я шел к тебе снова». На запястье его была пробоина, похожая на когдатошний артемов стигмат, – лагерное ранение ящиком. Шурка присел на корточки.
Он смотрел на Арину, поджимал веснушчатые губы. Ветер перебирал и перетрагивал его пламеневшие в закате волосы. Голые икры и щиколотки, затянутые в сандалии, мерзли от сквозняка вечернего ориентального ветра. Ежились от укусов его.
Потом Шурка встал и пошел прочь, цепляя сандаликами планету. Песок летел и сыпался – горстями белых крупинок, клубился рваным дымком, вздрагивал от каждого шага. Солнце падало в золотую чашу распластанных и отглаженных небом песков, похожих на пенку каппучино. Красные узкие тени ложились на почившие холмы косыми горизонтальными линиями.
Арина поняла, что сын уходит навсегда.……..
Она открыла глаза и посмотрела в потолок.
Потолок был трезв, ровен и чист, – каким бывает высокое безызъянное небо, когда выныриваешь из-под воды.
И вдруг все завертелось перед ее глазами. Уже не потолок был перед ней, а водоворот – жуткая воронка, которая затягивала Арину в себя...
Ее лицо исказилось, – как искажается лицо всякой женщины, когда ее сердце падает в кашу смятения, улетает в поток неизвестности, страха, мучений.
Арина хваталась за собственные руки, грызла собственные ногти, глотала воздух выдавленными наружу глазами.
Ее вертело, бросало, крутило. Глаза ее лезли из орбит и смотрели – на себя, Арину, со стороны, – на ее метания, ее муки и судороги. Она кричала. Она билась. Она скалилась на Артема, а тот не мог понять, откуда в таком маленьком, хрупком, незащищенном тельце столько силы...
Она вырывалась, и никак ему было ее не удержать.
С перепугу, проснувшись, он увидал колотившееся тело жены, – и не мог понять, что с ней, и что делать ему – Артему… Он навалился на нее всем телом, пытался удержать руками, ногами, и, кажется, чуть-чуть не зубами. Руки белели в суставах, он сжимал ладони в узлы, пробуя подавить мечущуюся жену.
Он не понимал. Он видел, что Арина не в себе, что у нее бзик….….. Борьба продолжалась десять минут. Наконец конвульсии стали тише. Остался крик, – крик, который выходил из ее горла. Долгий, протяжный и страшный.
Артем разомкнул объятия. Жена лежала, как будто, спокойно. Но продолжала кричать. Крик этот проникал в его мозг – Артем не мог его слышать больше. Подхватив одежду, он вышел из спальни.
Была суббота, Арина осталась лежать в кровати.
Артем уехал на кладбище. К Шурке… Просто для того, чтобы уехать. Просто для того, чтобы не быть. Не слышать. Не видеть.
Да и кто остался у него на этой земле – кроме Шурки.
. . .
Самое главное – переступить.
Не закрыть глаза, когда сизоватая бечева вены, одетая в условный камуфляж кожи, прогибается от легкого нажатия иглы, и под самое горло – токсическим накатом тошноты – подступает сладкое отвращение, и веки смыкаются сами собой, – важно вот это, не спасовать, не дать взять верх физиологии дрожи.
Ты готова проткнуть свой напряженный локтевой арык, ты правильно – вроде бы? – разболтала в спирту белый порох небытия, в чистой банке из-под майонеза, вымытой яблочным fairy – вскрыла баян, сняла «гараж» с игольного жала, совокупила с головкой шприца иглу и подсосала в него дозу.
Спустила полкапли влаги с самого зернышка острия……...
Арина сжала зубы и осквернила поцелуем иглы кожный покров над выпуклой жилой.
В жиле бежала и пряталась чистая сильная быстрая кровь. Ввела. Положила на стол агрегат нирваны и зажала локоть.
«Зачем пестовать и лечить это тело……….
Когда все тело – это перешеек от поцелуя до нанизывания тебя на НЕГО. И гул эритроцитов бушует, кипящим гранатом срывается с маятника сердца, сбивается с ритма, заклинает и ворожит.
Когда два кровообращения – все еще, в мыслях! – переплетают свои кольца, – как в шутке фокусника: не разъять, не вывести одно кольцо из другого, и вдруг – легко и точно – отделяется одно, и это кольцо-кровообращение – твое, и ты удивляешься, что ты можешь существовать автономно.…
Тогда приходит он, король Дроздобород – чистый и ладный, молодой как надкушенный месяц.
Он склоняет голову, он ведет с тобой учтивые речи; он дарит тебе розу с карминными платьями лепестков, и соловья, знающего все языки мира, и особенно пали, на котором слово «любовь» звучит так безыскусно и притягательно.
Но ты смеешься, – тебе не в диковинку ни роза, ни соловей, а язык пали не тревожит сады твоего сердца. Ты прогоняешь дарителя.
Дроздобород снова приходит к тебе – теперь в отребьях, и ты не узнаешь его, – он отвратителен тебе: калека, мужик, побирушка; но ты идешь с ним – потому что так велел старый король, твой отец – ты отдана первому оборванцу, который ковылял мимо окон дворца. Ты разделяешь с ним нищету, ты лепишь горшки, метешь лачугу и варишь суп из чечевицы, – кротость твоя единственная доблесть, ты подчинилась судьбе; ты почитаешь этого нищеброда как защиту и мужа, ты склоняешь голову перед ним – принцесса голубых венозных кровей...
За это однажды он сбросит свое рубище, смоет сажу и скинет свой уродливый колпак, откроет юношеское лилейное лицо, – и вы сплетете руки, как раньше сплетали кольца кровообращений, и войдете в свет – чистые и ладные, исхудавшие как два надкушенных месяца.
Кондратьев…
Я больше не хочу спасать мои дни – делать их осмысленными – без тебя.
Ты успел посадить во мне зернышко, которое развилось в ущемленный росток – годный лишь для посадки в банку с формалином. Кунсткамера, человеческий моллюск, гомозигота пыточной нежности.
Жидкий экстази твоего изумления попал в самую выемку моего средоточия, как если б ты плеснул в меня морскими каплями, усаженными брызгами солнца – крича и купаясь в прибое.
В тот самый день – когда сгущенный свет стекал по желобу твоего позвоночника, струясь и перекатываясь с диска на диск, собираясь в копчике точно в ладони, и вдруг взрывался истерикой звездного плача в твоих тренированных мускулах – чтобы освободиться...
Когда ты вошел – тогда! второй раз, в кабинет наркологии, – небо подломилось надо мной, оно посыпалось на меня восставшим столбом штукатурки, и стало горько от пыли – ресницам. Пыль засорила их. Бог упал на меня вместе с крупными кусками неба. Тяжело же Ему было... Авторучка в моей руке дрогнула, и сердце выкатилось из глаз – двумя ослепшими теплыми сферами, в которых все еще стояла влага. У меня устали глаза – видеть, как ты курил. И видеть, как ты держишься, словно не дорожишь ничем и не принадлежишь никому. Твои джинсы напоминали мутно-сизые подкожные канаты. Канаты были потерты, повреждены. Кадык похож на осколок морской раковины. А в пальцах – ты прятал завтрашнюю никотиновую боль. И эта боль была моя...
Ты перестал помнить меня, – но я была в твоей жизни.
Я была – где-то рядом с твоим подорванным сердцем. Ненадолго; пока это не стало опасным для твоей уединенной и самодостаточной жизни. Тебя и геры. Вас обоих…
Вас испугал капслок моего сердца.
Она ненавидит меня – гера, но я не соперница ей. Я только потрогала пальцами рисунок твоей удивленной души. И я лишь вынула из твоих глазных яблок два утомленных зрачка, и вставила в них два пьяные солнца. Я смогла назвать тебя именем, которым, я думала – больше не назову никого...
Я поняла, что ты – дитя, которое Бог протянул мне потрогать. Он позволил мне это. Дитя обрадовалось, и сделало со мной что-то – что делает только мужчина. Дитя было счастливо думать, что я ему принадлежу.
И нет никакой разницы, что тебе – 29... Я младше тебя ровно на один человеческий брак. Шесть лет – время любви к тому, кто дал мне право снова верить в мужчину.
Смею думать, что я предана мужу, но мое сердце раскрылось еще для одного Человека… И только ты опасаешься верить, что женщина может любить одинаково сильно двоих. Стопроцентно, это так... Говорю и знаю это, как женщина.
Я даже не знаю – подарил ли ты мне серебряный вирус… Мне это, в общем, все равно.
Все лечится – любовь, как ВИЧ тоже, и только от тебя я излечиться не могу.
Я хочу целовать твои……... Прости. Я глупа.
Мой замученный и уязвимый ребенок – Кондратьев Шурка, мужчина, которого я закрою от всего. Возможно, ценою себя.»
...
Артем пришел с пакетами продуктов из «Пятерки». Едва упер. Арина давно не заботилась ходить в магазин, – жила жизнью курортницы: хочу – хожу. Не хочу – муж принесет.
В комнате было темно.
Он обрушил пакеты на пол в кухне, вошел к Арине. Зажег свет.
Заметил, что злобно зажег, просто вдарил по выключателю.
Арина лежала без движения.
Артем выключил свет и вышел. Квартира была в том кошмарном состоянии, в котором пребывала последние месяцы. Квартира без женщины – это пустыня. Пустыня дохнула в сердце Артема...
Через час он заглянул в комнату снова, – он готов был уже не просто растолкать Арину, а надавать пощечин ей, если не наорать.
И он испытал ужас, когда он поднял Арину за подмышки с кровати – и вдруг ее ноги сломались. Она валилась ничком. Голова ее откинулась. Едва не хрупнула шея – в месте соединения с челюстью. Коса, дурно заплетенная со вчера, взлетела и описала латинскую букву S.
– Б-бляхо.
Артем начал щупать биение жизни – под ее шеей. И он не понял: есть там что-то, нет?... Его руки тряслись.
Скорую он вызывал – покрываясь льдом пота, мертвея и заикаясь. Трижды адрес проорал – тамошняя клуша, на подстанции, въехать не могла, что «семьдесят два» – это номер квартиры, а код сто пятьдесят четыре – это код, а не попытка послать ее нах*.
Карета примчалась через двадцать минут.
– В крови вашей жены высокая концентрация опиатов… – сказал врач.
Реаниматолог, рукастый и бородатый мужик. Как-то больше он смотрелся б в легкоатлетах или в лесниках. Чем в эскулапах.
Было склизкое утро, в молочной пелене облаков – Елизаветинская больница, семь предрассветных часов. Желтая лампа лгала об уюте и доме; капал кран, плохо завернутый после подсоса в электрочайник фильтрованной влаги. Медсестра гремела чем-то в углу кабинета. Бородатый жевал губы и постукивал по столу.
– Опиаты – это… – сказал Артем.
– Наркотик. Возможно, героин.
В окна стучал дождь. Мозглятина осаждалась на город, раскрывала посконные рукава, растряхивала гниловатый поролон тучек горошинами влаги.
Было особенно тепло от этого – в кабинете. Пахло лекарством и сигаретой – ни того, ни другого запаха Адулас не переносил; но реаниматологов, как родителей, не выбирают.
– Наркотики? – Артем мотнул отрицательно головой. – Да нет... Арина пила седативные таблетки. Снимала стресс, напряжение.
– Ну, я вам ручаюсь, это не таблетки. И это доза, достаточная для суицида...
– Ччерт!
– Ищите причины. Что побудило. Пересмотрите вашу жизнь. Вот все, чем я могу…
Весь следующий месяц был месяцем Капельницы.
Раствор капал, капал и капал. Слезы жизни вливались в Арину, растворялись в ней…
Артем взял отпуск в «Арбалете» – шеф пошел навстречу.
Он просиживал в больнице каждый день или вечер – конечно, без толку. Просто БЫЛ. Присутствовал. Пустыми глазами провожал он аринину подругу (кажется, Света?..) Ничего у тебя ноги, Света.
Глядел на тещу с тестем. На сопалатниц Арины... Какую-то еще семикисельную родню. Сидел в палате, бродил в коридорах.
Арина спала почти постоянно, – ее кололи, только нейролептиками теперь, полоскали растворами; сгибы рук ее штырили иглами – пятна голубели, разливались в разбойничьи кровоподтеки, на нетронутых прежде венках негде было ставить пробу.
Когда Арина очнулась и обвела палату акварелью замутненных еще глаз – Артем припал к изголовью и, после ритуальных : «Как ты? Я здесь... Ты что-нибудь хочешь?», спросил ее отрывисто и жадно:
– Где ты брала дурь, Ариша?
– Нен…….. ада. Ртём…. – отвечала воспаленными губами ему. – Я не………хч
– Кто дурь тебе давал? Имя назови!
Она замотала головой. Ее коса была похожа на пук нечесаной солнечной пакли, перепутанной с застиранной простынью.
Его попросили выйти – Арина зарыдала. Скорее, нет, не зарыдала, а заскулила, – как скулит и тянет скрипка на верхнем регистре, с тусклым и окисленным подвоем; – медленно и недвижно разворачивала Арина в подушку лицо, наклонялась над нею плечом, все еще не касаясь подушки лицом – и тонкая эта нота длилась и длилась, на одной и то же высоте, звеня натянутым проводом, пока, наконец, не перекрылась белым кляпом подушки.
О ком же можно так скулить! О КОМ…
О ком, бля, о ком.
Арина начала подниматься, ходить. Мать ей помогала.
С Артемом она не ходила – Артем вызывал в ней протест. Она не могла касаться мужчины.
Душа покидала тело, которое бродило по крашеным кишкам коридоров... (Для чего?) Наконец – глядя в стену – она сказала:
– Ты принеси мне ниток. – Арина сцепила пальцами кромку халатика. Сжала в горсть пальцы. Отпустила, оставив измятый вихрастый, как затылок щенка, хохолок. – Шерсть... И спицы. Спицы помнишь, где лежали? Их принеси.
...
Это было главное – нитки.
Шерстяные и тонкие. Ровность их, без малейшего узелка, и то, как мягко они ложились в пальцы, опутывая ворсом шерстинок фаланги и ногти. Ровные зяби вязаных строчек, петли с накидом, без, с накидом снова. Цвет солнечно-розовый как язык младенца – или белки Кондратьева, – последний раз, два месяца тому; тогда…
– Привет! Что ты делаешь?.. – спросил Артем, войдя к ней с очередным бомж-пакетом из «Пятерки».
– Арина вяжет шарфик. Для Шурика... Ветрено, октябрь. Не надо пилить меня, что все можно купить в детском мире. Я хочу сама.
Артем как стоял с пакетом, так и сел – не выпуская пакета.
Что-то он еще пытался собрать и реконструировать в осевшем в эту минуту мозге. Не дать ему рассыпаться. Слететь с винта.
Он молча похрустел сморщенными – как кожа старухи – ручками пакета. Потом сказал:
– Ариша. Как зовут меня…
Та посмотрела с нежностью на него. Совершенно ясными и чистыми глазами.
– Ты Артем. – Она улыбнулась, точно солнце задело ее веки. Подумав, она прибавила: – Артем любит Арину…
– Я не дурочка, перестань. – Засмеялась она.
. . .
Адулас шел домой; ему мерещился шарфик, и то, как Арина наклоняла голову над нитками, и потом искоса, точно птица, взглядывала на него, – Артема... Закусывала губку, притуляла голову набок.
«Чего ты смотришь? Смешно тебе, что я вяжу… Маюсь дурью, как бы, да?» – Потряхивала спицами, с флажком вязанья, в воздухе, держа их точно китайские палочки. – Я хочу своими руками, я же – мамка. Хочу сама!.. ну пойми».
Арина утыкалась в вязанье глазами. Шепталась как птичка, накидывала петли, обматывала ниткою пальчик, продевала, натягивала, расправляла, язычком снимала воздух с губы. И больше не замечала Артема.
Он ушел как чужой, спина его была взъерошена холодом.
Пальто не могло согреть его. Снег скрипел под ботинками. Как снег давилось – ломалось! – что-то родное, привычное, тяжелое как асбест слоистого неба, хорошее, блятть, господи, чистое, настоящее, никогда не обратимое больше теперь.
Ветер жег и сек под штанинами ноги.
Артем шел и думал: я найду гада... Я землю перерою, из-под земли его выну, и с этой землей его пережую.
Смыкались двери автобуса; Артема мяли локти и колени пробившихся пассажиров – халява общественного транспорта, господа – сдай назад! Оба-на, мне куртку защемило; Натаха, Жорка, все влезли?!.. (давёж, стон, ржач и матер) – бил по скуле ремешок поручня, языкатая контролерша отоваривала билетом: «Не стойте на проходе, молодой человек!..» – наконец, холод его собственной остановки падал на грудь.
Вечер сжимал Артема, высасывал сердце….……
Артем протягивал руку в пространство, – он брал за горло свое горе, он сжимал своему горю позвонки, они ломались как печенье – у горя было белое как маска лицо, в глазах струился холод.
Дома Артем разгреб стол, разрезая бумажное море на две части – влево и вправо, наращивая пену боковых листков. Прочищал стрелу чистоты, как носовым лезвием судна. Чашка с утренним кофе отъехала на бровку стола. Джазовый диск «Дети винила» был схлопнут пластмассовыми клешнями чехла и заброшен на полку.
Он вытряс из арининой сумки записную книжку и ежедневник.
Пролистал все последние записи – все 32 буквы…
Откуда наркотики, как не от нариков. От ее пациентов – торчков, желтушников и криминальных подсосков, пережегших свои мозги кислотой – героин от кого-то из них………... Где еще чистенькая девочка-доктор достанет.
Последние записи не рассказали ему ничего выразительного. Он кинул книжку на стол.
Он тер лицо, думал... Он напрягался.
Логика, логика. Вспоминай бывших ее пациентов… С кем она ближе была. Черт! никогда он толком не знал ее пациентов. Не помнил, чтоб она сближалась с кем-то. Только случаи какие-то. Обрывки фамилий… Фамилий. Фамилий.
Думай, юрист, думай. Напрягай вещество.
А! ну, вот, раз – тогда она хвастала про одного… Какой он правильный и честный. Давно, весной еще. Как же фамилия его была?...... Колесников... Куприянов?
Не то.
Артем взял книжку снова. Последняя запись на «К»…..… Ну же. Ну же, листайся давай.
«Кондратьев Саша»...
Кондратьев!
«Это вообще человек, который ни разу мне не соврал, – вспомнил он, ударом в сердце, аринин рассказ. – Ни на одной из бесед!.. Все наркоманы, Артемка, офигительные вруны. Ибо у них сильная мотивация – герыч, и они сами начинают верить в то, что говорят. Например, когда они приходят сдаваться в ГНБ, они свято верят, что завяжут… Сколько детокс идет, столько и верят. И все говорят, что героин зло, и мы обязательно прекратим употреблять. Но не Саша».
Саша.
Собака.
Сволочь.
Он ли?
Да, но именно ли Кондратьев давал Арине наркоту?
Возможно, они только общались (терапия), а снабжал ее другой... И где гарантии, что он – Артем – не наедет на невинного человека, пускай даже на психа, наркомана и тунеядца.
Назавтра, в больнице, пока Арина спала – Артем вдоль и поперек перешерстил ее сотовый.
Никогда он не лазал ни в ее телефон, ни в ее ноутбук. Но – выбор, выбор, кто ему оставил выбор…
В ее сотовом был вал входящих эс-эмесок от абонента – Шу.
Содержание их было отвратительным. «Кусков не отвечает, похоже я завис с герой». – «Когда ты придешь? Седею! Твой экстази». – «Пиздец, у нас целых пять граммов». – «Кука! я целую тебя изнутри». – «Ширка светит в понедельник!»
Артем почувствовал желание переломить колено арининой нокии-раскладушки. Как колено саранчи. С сухим и звонким треском.
Исходящие эс-мэ-эски он читать не стал.
Понятно, что Шу – и был Кондратьев. Сличение номера с записной книжкой это подтвердило.
Артем записал номер в свой сотовый телефон. Немного подумал, как его назвать. И назвал просто: «Сволочь». Посмотрел и понял, что ему полегчало. На всякий случай решил проверить: записалось ли. Буква «С» отказалась в конце списка. Артему не понравилось. И он набрал: «А.Сволочь». Для того чтобы эта сволочь была первой в его списке.
Теперь все стало на свои места. Пазлы были сложены, бреши заполнены.
Осталось понять, что с этим всем делать.
Его анонимная ненависть к Кондрату набирала обороты, загущалась в нефтяные пятна тяжелого нерастворимого осадка. Артем знал уже, что найдет его, устроит с ним встречу, выдернет в безлюдное место, и пришьет, задавит в первом отхожем углу.
Спустя какое-то время гнев остывал... Адулас подумывал, а как, собственно, он пришьет Кондратьева? Нож, пистолет, удавка? как вытащит на встречу?.. И чем дальше он думал над предстоящей работой – тем больше и больше понимал, что убить он не способен... Не потому, что трус. Не потому, что гуманист. А потому что за свою жизнь не сломал зеленой ветки.
Потому что собирал для костра только сухой и умерший хворост. Потому что живое делать мертвым – не в его характере. И потому что оружие, которое он любил ласкать и лелеять, которое он продавал изо дня в день разным людям – научило его отделять тех, кто способен воспользоваться оружием, и тех, кто не способен.
Оружие для Артема было искусством. Кто-то вешает на стену картины, а вот он, Артюха, предпочитал ласкать руками полированный металл магнумов, вессонов...
Что делать, с этим гадом Кондратьевым. Что делать… что делать.
Самое лучшее – скинуть ментам. Все им рассказать. Да, многое всплывет про Арину, – но и Бог с ним. Зато этого укурка разопнут по полной, и он, Артем – не возьмет кровь на душу. Надо его вытащить – вытащить и понять, где он есть.
И такой ниточкой, такой веревочкой, которая тянулась от Артема к Кондратьеву, – был номер телефона.
Арина – с той ясно... Женщину повело: новый мужик, свежачок-с! не такой как он, Адулас, правильный, не такой нудный – адреналина подсосать с ним, танцы гормонов, экстазы – устала мучиться по сыну, заела работа, отдохнула и расслабилась мальца…
Кто судит женщину? Тот, кто не в здравой памяти…
Мозг женщины стерилен от долговременной верности, – ее мозг сиюминутен, она жива впечатлением; ее ведет чувство, траханое чувство – она идет по улице, она стоит в очереди, она спускается в метро, она заходит в интернет – и вдруг удар с ней: чьи-то глаза, чья-то скула! чей-то разум, чьи-то пальцы... Если эти пальцы – бишь, хозяин их! – к ней обратится, да на секунду замнутся, и глаза задержат глаза, и потянет недосказанным словом – а дальше не стоит! дальше вывод известен, додумываем сами, а женщины все расскажут за себя и за нас.
Мужик попользовал, браво мужику. Взял свое, еще и праздник поимел…
А что он оставил после себя – это дело мужа; тому за нее отвечать, тому тянуть, лечить, возиться. Любовь женщины (мессиры, слово-то какое!) искалечила семью, ее саму, мужа искалечила, но все нормально, разве кто осудит – женщина права всегда, это мы идиоты, тянем, верим! заботимся; по морде нас – все верно, покрепче, чтобы не расслаблялись; «Кука, я тебя изнутри...», да убил бы обоих! с лица земли, ее первую, его на ближний сук за яйца, или в лоб пистолетом…….. …… Черт, что я думаю, все, ладно, Адулас, все, закончил! тормози.
Он тормозил, он схлопывал слайдер, он давал номеру Кондратьева скиснуть вместе с дисплеем.
...
Арину выписали; напоследок ее накачали таблетками – накануне был приступ, – и врач сказал: не хотите в неврологическую лечебницу (в дурку, бишь) – везите домой; ей нужен дом и тепло, а там ее заколют, вы ее не получите месяцы, – так что, лучше от греха; честный был врач, пощадил. Артему везло на хороших людей.
Он сгреб Арину на руки и, разнимая собой воздух, понес к автомобилю.
Арина свешивалась с рук как ватное одеяло. Щека ее тлела томительно-бледным, – ущемляла нежным душу, как чудесный устричный моллюск, показавший наружу свою нечаянную галечную плоть.
Наверное, ничего легче Артем не носил в своей жизни. Винтовка и та, ему казалось, весила куда тяжелее.
Дома он положил Арину на кровать, раздел, погрел две безответные ладони. Целовать ее – было как целовать одеяло или диванный валик. Тот же бархат, та же безучастная теплота.
Два дня он прожил в полной вате.
Арина лежала тихо, не подавая признаков жизни, даже, казалось, почти не дышала. Артем ходил туда-сюда по квартире, – боялся включить радио, боялся включить телевизор, вообще, боялся дышать... Прислушивался и не слышал ничего.
Так дальше продолжаться не могло. Внутри поднимался протест, зарождался крик, но выйти этот крик не мог – он мог разбудить Арину…
Наконец, вечером, Артем выскочил к телефонному автомату – их стало мало в городе; ближайший у магазина «Спорттовары». Артем набрал номер.
Господин наркоман не брал трубку минуту. Артем хотел уже бросить. Бери, сука, бери трубу! злился он на себя. «Кондратьев», – отвечали ему наконец.
Голос был лет 25ти, ровесник, похоже... ну да, Арина бы не глянула на старика. Совсем уж издыхающий элемент вряд ли был ей ценен. (Спокойно, Адулас.)
– Саша? Привет… – Сказал Артем как можно более твердо. – Ты не знаешь меня. – Пауза. Вдох. – Один человечек тебя рекомендовал... Проверенный. Тут дело такое. Подзаработать хочешь? Мне срочно нужен порох. Пара чеков... В идеале, четыре.
Наркоман помолчал. Он думал. Потом он сказал:
– Тебе какие чеки? Внешторга?.. продуктовые? На офисную оргтехнику... Откуда мой номер у тебя.
– Товарищ твой дал. Не знаю ваших дел... а он просил себя не называть. Сказал, ты и так поймаешь слету. Я обещал – не называю. О деле продолжим?
– Ты ему обещал, а мне-то назови. Уж я тебя не выдам, – отвечал наркоман.
Вот, ссу…
– Я не понял, у тебя нет пороха, или я попал не туда? – сказал Артем, титаном воли держа себя в руках.
– И не туда. И без пороха. Ты не напрягайся, я все равно не знаю тебя, – отвечал наркоман.
Рыба уходила с блесны, едва порвав крючком губу, да и губу-то так – нетравматично......
– Хорошо, тогда найдем другой источник.
Артем шел ва-банк. Сказал без раздражения. Прехладнокровно. – Я думал дать полторы цены. Мне срочно нужно, я уезжаю… Ну, на нет и суда нет.
Кондратьев помешкал – он переваривал суть. Видно, примеривал, как скоро он перекрутится сам и намешает для лоха левый дозарь. И сколько сыпанет для себя. Чем они мешают там? для лохов. Господа аптекари и провизоры, кадуцеи и саддукеи…
– Блин, ну ладно, давай, – отвечал он, мягчея.
Пуля легла в девяточку.
Условились встретиться завтра в девять вечера у метро ****.
Назавтра, после «Арбалета», Артем сменил аринину мать, весь день пробывшую с дочерью. «Как она?» – «Молчит, Артюшенька… – плакала теща. – Ест мало. Но я помыла ее. И вот еще винегрет в холодильнике… Драники тоже». Хороший теща была человек, – не лезла, не упрекала, не делала оргвыводы. Везло, везло Артему на людей.
Она уехала.
Есть он не мог, и с Ариной сидеть не мог. Да она и спала.
Он сидел в кухне, разглядывал пистолет, поворачивал плоскостями в руке. Ласкал фалангой пальца спусковой крючок. Глазные яблоки мутнели. Его тошнило от головой боли – тупой и веноразрывной.
Нужно встретиться, просто встретиться. Прижать наркомана. Узнать, где живет, и скинуть ментам. Пистолет он брать не будет. Ни к чему. Пугать стволом – дешевая игра.
– Ты спи, Кука, – сказал он Арине. – Я скоро вернусь.
. . .
Кондратьев опоздал на десять минут.
Артем ждал его. Наркоман был крепкий и высокий, хотя исхудалый уже. В куртке-аляске, с шарфом, по кадык залепившим шею, с непокрытой неостриженной головой.
Он был похож на молодого борцового утомленного пса, с талыми язвами глаз и ртом. За фаянсово-молочными зубами пса, нежными в своей голубизне, копилась едкая горячая слюна. Пса – мужественно дохнущего от чумки.
И что, вот этот……... Вот это чмо? остаток от человека? Она на это купилась?
Он же больной, у него руки дрожат. Такого убить зазорно даже – он на ногах не стоит.
Лицо Кондратьева было лилейно и хирургически белым.
Челюсть пересыпана металлическими опилками щетины. Малиновые гематомы подглазий светились легкими вурдалачьими тенями. На поясе джинсов висела на ремнях с карабинами портативная сумка.
Он привез боксы порошка, завернутые в полиэтиленовый пакет.
«Здесь четыре», – сказал, почти не разжимая рта. «А, спасибо! хорошо». – Артем высчитал в бумажнике деньги. Сломал купюры вдвое, протянул Кондрату. Постояли.
– Не кукла?.. – спросил Артем, кивнув на пакет.
– Я не напариваю клиентов, – отвечал Кондратьев, благородно темнея глазами.
– Ладно, не серчай... Я лишь так сказал.
Артем втолкнул пакет в карман. В левый. Во всегда просторном правом не было места.
Взгляд его был прочен изнутри как прут ребристого железа – чумные глаза Кондратьева сминались об этот взгляд.
– Спасибо, – отвечал тому с улыбкой. – Может, выпить зайдем?.. Здесь рядом погреб есть пивной.
– Да нет, спасибо. Мне ехать надо уже…
– Элитное пиво. Бельгия, бочковое, два десятка сортов. Я угощаю. (На дармочка-то, а, наркоман?)
– Ну, если элита, – пожал плечами Кондратьев.
Они зашли в погреб «Ад Мира Лъ». Символический кабачок, подумал мельком Артем...
Там выпили по кружке чешского темного, посидели с пять минут, куря молча. Артем смотрел, Кондрат смотрел тоже. Уколы глаз, спарринг без звука. Вдыхали теплый полусумрак, пахший свечами, влажным металлом бочек, орешками, холодом, солью. Говорить было не о чем. Кондратьев поднялся, протянул Адуласу длиннопалую кисть, с ногтями в бледных девственных крапинах.
– Спасибо. У меня – овертайм. Мне в эту сторону, на метро...
– Всем в эту сторону на метро. Пойдем короткий путь покажу. Я знаю здесь.
Артем задавил бычок о линзу пепельницы.
Был десятый час вечера, мглистое небо в полосах затуманено-синего цвета, переплетенного с горячими чернилами черного. Они шли через зады универсама и пустырь, поскальзываясь на подошвах – мимо мертвых коробов гаражей, покрытых испариной инея, расписанных лаконичным граффити («Аршавин – АС!..»); минуя вымороженные кораллы кустов. Ветер носился гривой десятиградусного холода, цеплял за кожу лица, шею, раструбы штанин, кидал в лица мелкие гребни и горсти снежинок.
Артем шел, грея руки в карманах. В левом мято шорхал пакет, в правом было тесно и холодно, пальцы замерзали. Перчатки были заткнуты в джинсы.
– Да, слушай… – Он приостановился. – Я сказать тебе забыл.
Он помешкал. – Ты помнишь... Девушку-врача, которая вела тебя в наркологии? Вы общались после еще... Ну, ты кайф подгонял ей. Арина…
– Арина? А кто ты Арине?
– Ты ей кто?.. Вот что я знать бы хотел.
Артем сглотнул слюну с таявшим вкусом спиртного. – Потому что я – муж.
Кондратьев глядел на него, опрокинутый. Чувства боролись на лице его. Вспыхивали, наползали, сменялись одно другим. До него вдруг дошло. Вся мизансцена... Весь балаган.
Он молчал без страха в глазах. И – было невозможно ударить его. Молчавшего и бесстрашного.
– Ты типа тот, от которого она не кончает? – сказал наконец, без усмешки.
Пальцы Артема – там! в кармане, – вонзились в лед цвета безлунного жесткого серебра.
– Закрой свою вьюшку, укурок!
Артема мутило, жгло, колотило.
«Я не смогу убить шкуру... – подумалось вдруг. – Черт, нет! я дерьмо. Я не смогу».
Рукоятка легла в ладонь идеально. Кондратьев не видел... Не замечал. Рука в кармане – велика беда.
Нежность стали, ее молчание учащали сердце Артема.
– Теперь послушай внимательно меня, – сказал он.
«Я не смогу». – Трясло напряжением пальцы.
– Если ты еще раз с ней встретишься… – («Бля! нет. Какой из меня киллер…»), – Я тебя уничтожу. Задавлю левой и сброшу ментам. Хочешь быть на свободе и пыряться дальше – твоя воля, но с Ариной ты не общаешься больше... Ясно сказал? – («Я не смогу!»)
– Сдай пар. – Кондратьев глядел с вызовом, рот его кривился. – Ариша была беременна от меня...
Наверное, черные дыры – это когда вакуум.
Пустота совершенства.
Идеал небытия. И абсолютная, ацетатная, стерильная тишина вокруг.
Артем ослабил пальцы и проглотил черную дыру – не вздохнув.
Беременна?
В смысле? предохраняясь от мужа?..
Сердце брызнуло лимонным соком глаза. Ебаный наркоман, поставщик звездно-белого героинового пепла. Трахал ее... Спускал свой ядовитый мутный сок.
Артем стал черен и нежен, в глазах всплыли и окоченели ртутные кляксы. Рот выжег на лице изгиб зорро – ласковый очерк ненависти и долготерпения.
В нутре – где мясным куском качается жизнь – ему виделась Аришка... Хрупкое чудо, цеплявшее за него пальцами в минуты любви. Ее глаза, расширенные от любви… выгиб шеи. И снова – лицо этого поджарого щетинистого парня. Его конвульсии – какие они были?.. как делал он это? – сколько минут? – что она чувствовала, при этом…
Кондратьев стоял: ждал реакции, ответа.
Молчание Артема ширилось, звенело, обнимало обоих. Душило, стягивало их. А ты в курсе, сволочь – что с ней сталось…
Наконец он сказал:
– Не расслышал.
– Ариша сделала аборт, – сказал Кондратьев. – Она любит меня… – Его рот исказился. – Я тоже… Она не сохранила, лишь потому что я – наркоман. Иначе б…
Долбак, гнида, тварь.
Артем, удавом левой руки, воткнул свинец пальцев в шею парня, сжал глотку, правой выпростал из куртки пистолет, передернул затвор о джинсы, приставил ствол к горлу.
– Пусти! – прохрипел Кондратьев.
– Позже, – отвечал Артем, заводя локоть. – За жену...
Ударил кулаком с пистолетом в зубы. Не стал бить рукояткой – вышибать весь зубной ряд. Стрелять было нельзя: могли услышать люди.
Зубы Кондратьева пропороли на сжатых веером фалангах багровый влажный след. Во рту его что-то шатнулось, подавшись хрупко. Парень осел оземь ватным манекеном. Кровь, бегущим ручьем, высвободилась из носа и легкой проточиной заструилась на подбородок, соединяясь с кровью изо рта. Заблистала текучим черешнево-черным. На почти белом, в парше двухдневной щетины, лице.
В мозгу Адуласа пронеслась картинка – слайды помрачения и боли, – как этот нарик всовывает себя в ЕГО Аришку, дергается на ней бедрами, агонией дышит в лицо, оставляет в ней дозу поганой собственной слизи.
Х...в инъектор.
Артем отвел руку с пистолетом, наклонился и сработал им как кастетом, ударив Кондратьева дважды в висок. Сашка вздохнул, точно его встряхнули за воротник.
Вттха. Голова его подернулась и мотанулась набок – через нее вылетало тело…
Последний удар рукояткой – был контрольным. Он пришелся по затылку. Парень – лопнувшим стуком челюсти – откинул вбок голову, не вздохнув.
Артем смотрел молча, глотая выраставший покой ужаса, на павшее в лед безответное мужское тело. Которое когда-то пользовало Аринку. Надиралось наркотой. Дышало... Кого-то любило. Меряло землю шагами, неся свой крест на плечах.
Не бог ли было с ним… пронеслось вдруг в мозгу.
В жилах сердца, дребезжащим изогнутым тангенсом совести – полз мокрый гад неутолимой вины, – что-то членистоногое, с черной гнусной оглянцованной спиной.
Я ПО-НАСТОЯЩЕМУ убил человека.
Я убил человека, который забрал твою душу, Аришка.
Я – кончен. Я сгнию, моя девочка. Я буду в яме много лет... Я хлебну гноя, параши и крови. Меня отъебут во все дыры. Но ты. Ты... Ты.
Я убил его – за ТЕБЯ.
И за того – неизвестного мне, – величиной с перепелиное яйцо, с уже испорченным мозгом и кровью – кого он посеял тогда в твоем лоне… И кого ты вытравила с помощью хирурга.
Было темно, воздух сжигал эпидерму лица, путал дыхание. В блеске позвоночных столбов, остовами черных палачей, темнО склонив головы, молчали фонари. Скелеты деревьев, в солевых наростах инея, мерцали точно проволочные кварцевые нитки. Снег, льдистой пленкой, блистал под ногами.
Артем стоял над телом, пустой как бубен. Разжимал пальцы, сведенные некрозом мускулов, давивших рукоятку. Тремор мышц ослабевал, но руку трясло – крупно.
Душу затапливало темной высотой и немым облегчением тошноты, равным хоралу литургического ужаса.
Он воткнул пистолет за пояс и обтер костяшки пальцев, выпростав из куртки платок.
Ссадины горели и лучились в фонарном свете как зерна граната. Облизал, засасывая кровь. Без толку. Текло.
Кондратьев лежал на льду, и снег ложился на его лицо – легчайшей ядерной крупой, осаждаясь в тенях у носа и рта. И снег должен был проедать на лице кислотные каверны, но он не проедал.
Артем вложил перепачканный платок в карман и, не в силах сделать глоток слюны – позабыв надеть теплые перчатки – крупно и сдержанно пошел прочь.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Он приехал домой к полуночи.
Заглянул в комнату. Арина лежала на кровати, свернувшись в калачик – на руку ее был намотан детский розовый шарфик. Артем вынул из куртки пистолет и ушел в ванную. Смочил тряпку мылом, вытер – каждую риску и впадину. Отчистил тряпкой карман. Выполоскал и кинул сушиться на змеевик.
Чеки с дурью он кинул в унитаз, залил кипящим водоворотом бачка. Дважды.
– Раскольников ты долбаный, – сказал себе в зеркало. Рожа в зеркале усмехнулась в ответ.
Умыл лицо, зубы почистил. Опрокинул стакан водки. Давясь, как умирающий от жажды. Ушел спать.
Спать он не мог – лежал, думал.
Он хотел думать – что это все сон... Этот пустырь и эти запотевшие короба гаражей, это черное волглое небо. Озноб горячей влаги на лице наркомана Кондратьева – красной как пятилетнее бургундское.
Тлен ужаса оползал вдоль лопаток, и жало горло – от сухости, ладони прели от влаги, глаза текли стылыми мазками по стенам...
Он думал.
Кто мог видеть его – Артема – в том дворе, за гаражами?.. Кто свидетель? Да никто.
Дом, улица, фонарь, аптека, и нобади кого-нибудь вокруг, – как прописал пролетарий Маяковский (не тем будь помянут). В окна вряд ли кто-то там смотрел: ни звука не было лишнего.
Отпечатки пальцев на купюрах, где сотни других отпечатков? Его звонок на сотовый наркомана, с просьбой о встрече?.. Звонил от магазина «Спорттовары» – не идиот. Эс-эмески жены: на мобиле ушлепка? Мало девочек укуривал он?.. И мало их, ложилось под него?
Кто станет вычислять его, Артема? Кто вообще искать его будет – когда вскроют тело Кондратьева и увидят, что оно принадлежит наркоману. При сегодняшней милиции никто заморачиваться не станет – искать того, кто задавил такого. Со счетов скинут и вздохнут: одним упоротым меньше. Свои же и кончили.
Он уснул внезапно – как скошенный. Не заботясь о сне. Предохранители сработали все-таки. И в двадцать три года есть такая штука, не знающая сносу – как здоровье.
Во сне он обнимал Арину, совершенно позабыв – что он зол как сатана, намерен кончить с этой историей, с этой женщиной; он обнимал – и щеки его скрашивали ее волосы, а волосы ее пахли травой и шампунем (ну, не золото ли теща!), и выемка под ее волосами походила на лунку от выстрела, затянутую новорожденной теплой кожей…
Инфаркт тоски разжимал свои пальцы, отпуская горячие ногти из мускулов сердца. Рубцы изглаживались, возобновляя кровоток. Арина лежала, не отвечая на его руки.
Наутро он поднялся и ушел на кухню.
Он врубил музыку в радиоприемнике – джаз. Погромче. Его отпускало.
Артем сварил овсяную кашу, заправил маслом и солью, притомил крышечкой. Пришел в комнату, сел рядом с Ариной. Потрогал ее волосы, у самого лба. Потянул их за кончики.
– Просыпайся, Кукуня, – негромко сказал ей.
Арина вздыхала. Раскрывала глаза, – сонные, теплые, похожие на застывшие капли канцелярского клея; в глазах стояла и стояла бессмыслица... Луна катилась в радужках, цеплялась за ненадежные белки, перемещалась к пушистым ресницам, замирала, центрируя текучий перламутровый глаз на Артеме...
Ты жива, подумал он.
Ты жива, моя любимая девочка… Я помогу тебе восстановить твои клетки. Все чепуха – что они отмирают. Я помогу, и ты сможешь снова болтать об Авиценне, о киногении Кэмерона, о своих наркопсихах (я их тоже люблю!), о Набокове и молодых годах Хэмингуэя... Париж, праздник, который всегда с тобой. Ты сможешь. Ты сможешь все.
Я стану овощем тоже, помогая тебе вспоминать букварь. Я стану на одну доску с тобой... Раз уж так вышло. Мы будем складывать палочки, вспоминая счет. Я буду водить твоим пальцем по географической карте, очерчивая границы обеих Америк. Мы будем разучивать песню про солнце, и будем гулять в парке, и я сломаю зубы каждому, кто скажет мне, что я выжил из ума, беспокоясь и тревожась о тебе.
Он протянул руку и потрогал аринину щеку.
– Пойдем-ка завтракать, – сказал он. Он сгреб ее тело, привлек к себе, поднял с подушки плети арининых рук; он приник, воткнул свое лицо в копну ее волос. Так они сидели молча, дышали друг в друга.
– Арина не будет, – сказала она вяло, голосом смоченного пергамента.
– Арина будет, – отвечал Артем.
Они дышали, и в дыхании их не было консонанса – Адулас вздыхал глубоко и размеренно, она поверхностно, неслышно почти. Безвольное, мягкое ее тело рождало в нем запирание горла, – холодный противень тоски, спаянный с язвой на сердце, с нежностью, с тошнотой, отвержением – вставал поперек его груди. Ты виноват, думал он, сволочь, ты виноват, что не разглядел вовремя; и ты еще больше виноват, что до пьяной крови из глаз – ее, такую, белую, чахлую, жуткую, славную (господиненадо), оступившуюся; больную, смешную, родную – ненавидишь, прощаешь, распинаешь и любишь.
Так кривовоколенно, как один ты умеешь.
Но мы начнем все сначала.
Я позову сюда твою маму, – она поселится у нас, она не может не поселиться. Она будет преданной сиделкой тебе. Мы снимем ее с работы, – денег на жизнь хватит. Ты поправишься, и родишь мне еще сына. Шурку-второго... Мы будем слушать блюз-бенд «Дети винила», и будем заниматься под него любовью на вот этом самом мохнатом зеленом ковре.
Арина слушала, царапала его шею чистым бесчувственным пальчиком.
Сознание пальчика было не здесь. Они дышали, смотрели в стену, и он думал уже, что нужно снова греть кашу, – она вполне уже простыла.
Он, кажется, не плакал.
____________________________
** – свидетельство Алексея Смирнова
Егор Ченкин
безграничное спасибо Юле Геншафт – за профессиональную врачебную информацию
и массу бесценных деталей
Легкость и необязательность – пожалуй, это главный ключ понимания напетого счастья: касания, взгляды, поцелуи и шепот. Все это есть... И всего этого нет. Любовь как полет, как взмахи крыла – сильный толчок, сильнее, еще сильнее, еще, до крика... Ощущение высоты. Но высота не хранит следов, она всегда чиста, она манит.
Легкость и необязательность, – а пульс как сумасшедший и температура плавления... Приближение издалека, нарастание, тряска, адский шум, заложенные уши, сжатые зубы, закрытые глаза... И вот тихо... Совсем тихо... И было или не было?
Никита Марзан
Здесь достаточно часто умирают люди. Живые, причем. От передоза. Не обязательно наркотиками. Передознуться можно и жизнью.
Здесь тусуют люди, которые понимают, что терять им в общем-то нечего, кроме своей собственной невостребованной жизни.
Ginn
детям любви и детям героина
. . .
Prologue
Маршрутка затормозила у перекрестка. Арина вышла и немедленно увязла по щиколотку в снегу, и начала пробираться – в ущелье протоптанного снега – на территорию клиники. Зима выдалась расточительно белая, хрусткая. Снег не вывозили. Отгребали на края тротуаров, подсыпали день ото дня, доводя сугробы до состояния утесов и крепостных игрушечных стен. Как здесь все – сегодня? Как будто полжизни прошло. Какие лица, из новых – в палатах? Какие она знала еще в декабре?.. Потеплее ли в кабинете. Сегодня снова будут ждать ее больные – после месяца перерыва. Это отвлечет ее.
Пареньки и мужичонки, с печальными сердцами, глазами битых псов, с истерзанными летописями жизни.
От вида наркологической лечебницы чем-то давило на сердце.
Тянуло нездоровьем, искалеченным мозгом, больными глазницами окон, нищетой.
Внутри все было так же, как месяц или двести лет тому назад – свежая вонь разбавленной хлорки, старинный лед кафеля, гулкие шахты лифтов, тапочки на цыплячьих щиколотках пациентов. Потолки уходили в колодезно-далекие своды небытия. В высоте их было что-то кафедральное.
Псориазный и сизый колор коридора походил на макияж лицедействующей старухи.
Шаги, еще шаги. «Здравствуйте, Арина Юрьевна. Рады видеть вас снова…» – «Тоже рада».
Глаза устали, слишком белки напряжены. Наверное, кровеносные сеточки... Так мало сегодня спала.
От палаты алкоголиков несло жуткой вонью. Хорошо, что ей не туда.
У нарков было легче. Не сказать, чтобы чище – но амбрэ гораздо сноснее. Вновь прибывшие глядели бодрячками, детокс их еще не взял за горло. Их почти не ломало. На третий день они скисали жестко. Ходили и сидели в испарине, – тормознутые, ершились, стучали зубами, бледные как утопленники, с расфокусированным взглядом. Хотя права продолжали качать: требовали «недоданный» им промедол, выцыганивали анальгетики помощнее.
«Арина Юрьевна! к вам на приемчик можно?..» – «Чуть позже, Кудыкин».
Шаги, шаги, шаги. «Второй уровень». Палаты реабилитаций. Здесь почище. Но лица грустные у всех, глаза тяжелые немного... У всех тяжелые глаза.
Зачем я пришла сюда, господи. Лежала бы дома. Лежала бы и думала о Шурочке…
Конец шагов.
Комнатка психотерапевта, сиречь ординаторская. Блин, здесь тоже люди, конечно.
Почему, когда никого не хочешь видеть… «Арина Юрь…» Провалитесь все, ненадолго, не нужно вопросов, потом, все потом, здравствуйте, да.
Это карточки новеньких?.. Ах, да, завотделением ей обещал! В качестве помощи. «Чтобы отвлечься». Хороший мужик – завотделением. Брусникин К.С. … Каэсик, добрая душа, свой в доску парень. Хотя она, Арина, здесь без году неделя – учится, интерн по психиатрии, не имеет еще права вести пациентов. Но, почему нет. Почему нет... Если можно не думать при этом о…
Ни о чем.
Часть I.
Интерны народ совершенно бесправный. Искать больного такому врачу – по сути, стажеру – медсестра пособит лишь в том случае, если тот сам, кровь из носу, не может больного найти.
– Наташа! я чего-то Кондратьева не вижу, – сказала Арина сестре. – Он, вообще, тут?.. Я два раза в палату заходила.
– Да тут болтался, видела его. Кондратьев!... На беседу с врачом. – Голосом гренадера выкрикнула в коридор медсестра.
Полминуты – еще полистать анамнез. О, да.
Мда.
– Э, доктор, здравствуйте... Я Кондратьев. А чего, это вы меня будете беседовать? Меня, вообще-то, вел Брусникин...
Арина подняла голову и внимательно посмотрела на вошедшего.
– А теперь вас буду вести я. Садитесь… Меня зовут Адулас Арина Юрьевна.
Наркоман оказался выше среднего роста, слегка мускулист, но больше поджар – джинсы на нем висели как флаг на шесте в безветренный день. Кисти рук были похожи на сильных белых сухих пауков. 29 лет, в анамнезе. «Наркотическое поражение нервной системы. Абстинентный синдром…» – гласил диагноз в медкарте. Он был похож на Джареда Лето из культового кинофильма «Реквием по мечте». Темноглазый, развинченный. Наверное, привлекательный. С руками и пальцами незадачливого виолончелиста. С индусскими, широко расставленными глазами, черничного цвета, навыкате слегка. Было видно – здесь из недавних.
К истории болезни была скрепкой пришпилена записочка от Брусникина. «Этот расскажет тебе правду. Держи обеими. Заноси в память. Особенный экземпляр».
– Кондратьев Александр Витальевич? – Спросила для проформы Арина.
– Точно так. Можно – Шура. (Адулас, вздрогнув, изменилась в лице). Или Кондрат... Как вы хотите. Так будет проще.
– Спасибо, – с усилием отвечала она. – Я буду звать вас Саша, если позволите.
Кондратьев пожал плечами. Оглядел Арину, цепляя глазом халатик. «Кнопка...», – назвал ее про себя. «Ты красивая, кнопка», – следом прибавил. Арина помахала авторучкой, раскрыла – заломом листов – свежую в клетку тетрадь. Сюда она будет писать всех новеньких. Всех, из своей новой, с листа начатой – сегодня – жизни.
Кондратьев поглядывал на Арину с иронией.
– Доктор. Вы такая свеженькая и симпатичная, может, не будем говорить о такой шняге, как наркота…
– Спасибо. Мы все-таки попробуем.
– А чего говорить-то о ней?
– Сколько употребляете?
– Ну, блин. Чего «употребляю»… Вы конкретные вопросы задавайте. Что именно вас интересует? Я вообще начал с булгартабака с 8 лет, тоже наркотик тот еще...
– Меня интересует героин.
Кондратьев поглядел исподлобья.
– А почему вас интересует именно он? Вы знаете, сколько я зла перепробовал, пока дошел до геры?
– Тогда расскажите.
– Да это ж как мужчине про роды рассказывать! Технически – поймет, а на собственной шкуре никогда почувствовать не сможет.
– А что, героин – это настолько круто, что чтобы понять, надо попробовать?..
Кондратьев глядел на нее, в его глазах стоял упрек.
– Вот, вот доктор... – упрек выпрыгнул из глаз Кондратьева, приземлился на тетрадку Арины, уселся между букв, помахивая ногой. – Сразу видно – молодая вы, зеленая. Что вы видели в этой жизни... Вот вы сейчас зачем со мной беседуете?
– Хочу знать, что вы собираетесь делать дальше…
– Когда это? через пару дней, когда свалю отсюда?
Арина изобразила на лице удивление. Авторучка затихла в ее пальцах.
– Так быстро? (Кондратьев скривился как от луку.) Вы не останетесь на программу восстановления?
– Солнце мое, сколько из нас остается на нее?
– Не переходите рамки, Саша…
– Послушайте. Рамки есть у вас. Я наркоман, у меня давно нет рамок – после того, как я дал своим дружкам угнать папин тарантас, за десять грамм. Ну, чего я делать буду, на этой вашей программе? Лепить пластилиновых зайцев, рисовать города будущего?.. Крестом вышивать? – Кондратьев вынул из джинсов пачку LM, постукивал ею по колену. Точно подумывал – закурить, обождать?.. – Ваша программа – фуфло, бывших нарков не бывает. Это вопрос времени – как быстро у кого все закончится. Героин всегда вернет к себе выпавшего из строя.
Он вскрыл сигареты, выбил одну: аккуратно и молча как снайпер. Вскликнул зажигалкой. Всосал щеками дым – исходную порцию, – углом рта пустил язвящую и точную стрелу.
О том, «можно ли», не спросил. Наезжать Арина не стала…
Она разминала пальцем сгибы тетрадных листов. И понимала, что прав наркоман, что он озвучивает ее собственные мысли. Конечно, не приходили они сюда излечиться. Снимали ломку – снижали дозу – уходили. Две недели – это вышка. Единицы оседали надолго и доходили до психотерапии.
– Как вы пришли к героину?
– Как все. Алкоголь, анаша, дальше винт, вода (бутират), потом гера.
– Во сколько лет начали употреблять алкоголь?
Кондратьев сбил пепел, неторопливо перегнал на лице желваки. Глаза его поблескивали начищенной ласковой медью.
– Рассказать тебе весь мой тернистый путь, крошка?.. Алкоголь был в ходу лет с девяти, травка с 10, все остальное уже после армии. – Он помолчал, кусая губы. Потом, как будто, спохватился.
– А, добавь в свои записи грустную тему о том, как я вернулся из армии, а моя девушка замужем за моим лучшим другом…
Он уставился в нее бледными жерлами глаз. Точно ждал, как среагирует Арина. Насколько пробьет ее. И как она в утешениях и соплях растечется.
Старый ковёрный прием.
Он стибется надо мной, подумала Арина. Гаер...
Кондратьев кивнул, предупреждая вопрос.
– Ага. Я тоже думал – это такие тупые песни и анекдоты… И что со мной такого никогда не случится. Ни фига – случилось.
Он осклабился, щелчком отправил с джинсов звездочку пыли. Скрипнул на стуле, закинул ногу на ногу. На ногах его были кроссовки. В больнице. Вместо тапочек... Ненавидел тапочки, наверное.
Он хочет вывести меня, подумала Арина.
– Так вот, героин, – продолжал Кондратьев. Затяжная сжатая струя дыма вынеслась из угла его рта. – Стаж четыре года... Доза – два с полтиной грамма в сутки. Бросить это невозможно. Да, в общем, и не собираюсь. Хотите что-то знать еще?
– Хочу. Например… Есть ли что-то для вас, что вы цените не меньше наркотика. Творчество. Музыка. Путешествия, не знаю... Любовь вашей женщины, наконец.
Кондратьев вздрогнул – как вздрагивают от стакана кипятка, внезапно прижатого к коленке. Сузил глаза.
Он подал плечи вперед, убил локтями поверхность стола, ртом в опушке нежной щетины прошипел в Аринины глаза:
– Любовь женщины?
Он толкнул к ней навстречу локоть. Смахнул углом его авторучку. Не достиг полсантиметра до тетради Арины.
– «Любви женщины» не существует, доктор…
– Есть желание женщины – твоего тела, – продолжал после паузы. – Это раз. И есть ее вкус – к твоей одержимости ЕЮ… Два. К твоей престижности и силе. К удержанию возле себя. К перспективе отношений с тобой… Заполучению здорового ребенка. К безбедному существованию, в итоге. Доктор, вам ясно?.. Это все.
Он откинулся и ударил снова позвоночник о спинку стула. Глядел на нее искаженно.
– Хотите сказать, не существует преданных женщин? – спросила Арина неловко.
Она почувствовала, что Кондратьев готов темно и сухо загоготать.
Стало как-то вдруг неприятно, немного холодно плечам. Росло ощущение, что он презирает ее – за этот ее безызъянный халатик, льняные ровные волосы, ее мир, полный трафарета, рассудка и благонамеренной ученической лжи. Ее принципы, правильные как обезжиренный творог. Ее чистые отправления тела и мысли. «Я ботаничка», – подумала Арина.
– Существует... – отвечал Кондратьев. – Пока ты рядом, пока силен, пока ты «блюдешь». Перестал быть рядом, перестал быть силен, перестал блюсти – фьють, нету женщины. Ищи ветра в поле…
– Но ведь любить…
– «Любить» – это только глагол, – сказал Кондратьев резко. – Доктор, все, давайте сменим тему.
Копье дыма он выдул небрежно и жаляще. Сидел, взглядывал сумрачно на Арину.
Арина была сухенькая как травина осоки. Строгие бровки. Кожа – йогурт, нежнее матового стекла. Светившаяся изнутри. Покусанные губы. Волосы прямые русые тонкие, не доходившие двух ладоней до пояса. Забранные в косу (косу тот заметил, еще входя). Белый докторский колпак. Нитка морщинки между бровями.
Не дитя героина, чего уж там. Цветик-семицветик.
– Да чего разговаривать с вами, – сказал Кондратьев. Он перебросил сигарету из одного межпальцевого промежутка в другой. – Чего вы время-то тратите? Я все равно уйду, переломаюсь – и уйду.
– Почему вы не хотите попробовать побороться за себя?
Кондратьев сидел, усмехался чему-то.
– Доктор, да вы вообще на практике знаете, что такое наркотики?
Арина подумала, оценила ожидание его. Отвечала:
– Я знаю.
Кондратьев снова откинулся на спинку стула. Осадил коленом колено. Макнул воздух носком кроссовки.
– Ну, что вы там пробовали? Травку один раз покурили, и не торкнуло? Вам лет-то сколько, доктор? двадцать?
– Двадцать три. И в моем возрасте не обязательно совать пальцы в огонь, чтобы понять, что будет больно...
Кондратьев затянулся. Секунда наслаждения никотином. Баллистический выдох.
– Да в том все и дело! Наркотики – этот тот огонь, который ваш ожог сделает мега-приятным. Вы знаете, что такое изменение восприятия?.. Что такое уйти от БОЛИ, от проблем. Неужели если бы вы знали способ, вы бы избежали его? Что вы пробовали, доктор? кроме алкоголя и травы?
Арина покусывала губу. Как дать ему понять, что она – на его стороне? Ослиный упрямец... Что она не инквизитор, не исповедник, не строгая тетя с указкой в руке. Что она хочет помочь. Помочь еще одному человеку, пустившему свой эшелон здоровья, разума, молодой солнечной ярости – под откос.
– Кокаин.
– Ого! да вы продвинутая. – Кондратьев выгнал тонкий и сдвоенный поршень дыма через ноздри. – И что скажете, доктор? вы поймали свою птицу счастья?
– Один раз.
– И вы б смогли от этого отказаться – предложи вам еще раз?
– Он дорогой для меня.
Еще одна стрела никотина ушла в саркастический и острый полет.
– Да бесплатно. Факт в том, что вы бы не смогли отказаться!.. Я это вижу в ваших глазах. Что вас останавливало? цена? А представьте, что кока стоит копейки? ну и где вы, доктор? по какую сторону – по свою ли, врачебную? – Кондратьев дотянул руку до раковины, вдавил туда окурок, сбросил в ведро. – Прекратите выспрашивать у меня, как я дошел до такой жизни, вы ничем не лучше меня... Вам раз попробовать героин – и через мои четыре года, если выживете, будете отсасывать у роты солдат за дозу и детей продадите в рабство...
Арине вдруг стало скверно. Хреново.
Начавшийся было бросок в наступление вдруг погрузился в песок, увяз по самые колени, сменился неожиданным упадком. Откуда-то наползли и вытекли слезы и застряли у истока ресниц, готовые выкатиться на тетрадь.
Кондратьев разжег сигарету еще. Снял с фильтра невидимый отпечаток воздуха, поднялся – вдруг и без повода. Втянул никотин особенным – тонкостенным – перекатом щеки. Смазал Арину пальцами по плечу.
– Не плачь. Ты же все-таки еще ее не перешла – эту грань. Все, я пойду, ты позволишь, ладно?.. За беседу спасибо.
С сигаретой в зубах он и вышел.
Арина осталась сидеть за столом, вдыхая следы и последствия его организма и его посещения.
Кондратьев вернулся в палату.
Кинулся с размаху на койку. Пружины кровати взныли, точно сетку – слегка – ударили по зубам.
– Что за девка, на мою голову. Я думал, там Каэс будет!.. Базар по-мужски, все такое.
Сосед его, рецидивный винтовщик Кудыкин поднял голову от рук. Это был крепкий, как вяз, пацан, бритый под ноль, простой и уже полностью «органически поврежденный».
От расхожего винта умирают быстрее и легче, чем от дорогостоящей «пыли». Сутками Лешка Кудыкин лежал в кровати – читал энциклопедию потолочных сосудистых трещин, бессодержательного движения собственных глазных планет: на том же, белом лице потолка.
– Да не, Кондрат. Она ничего. Она тут недавно... А мне – так нравится даже. Добрая и симпатичная.
Лицо Кондратьева бороздила усмешка.
– Ну да, зелена и добра, жизнь ее еще не ломала…
– Зря ты так. У нее полуторагодовалый сын умер. С месяц назад...
– О-опс, – сказал Кондратьев. И отошел к окну.
Он курил.
Глотал желудком табачный обман тишины, выдувал стрелы и кольца. Глядел в пустой, как черный пенал, дворик лечебницы, засыпанный чахоточным снегом.
«Ну, это я поврежденный. Точно». – Подумал о маленькой докторше, с косой. Чистенькой как кусок пластика, которым раскатывают героиновые дороги.
Он втягивал бронхами желчную истину никотина. Пролагал в дыхательный канал уверенную дымную жилу. Вспоминал дом и город, жизнь последней недели его – там, в реальной резервации жизни, перед тем, как скрутило его.
...
Тогда – за пять дней до больницы – он марафонил на квартире одного собоянщика. Мелкий барыга, что-то вроде. Кондрата влекло на хату, он предвкушал заранее оттяжку: два дня совершенной выключки из событий земли, – и мысль, что сейчас приду, ширнусь, потом еще! без промежутка для выныра сознания – она грела сердце как войлочный сапожок.
Хата для сходок была в доме-кораблик, в сраном подъезде с битыми стеклами, с лестницей, загаженной окурками и кошачьей мочой. Кондрат взбежал на четвертый этаж, позвонил.
Квартира была уделана в лучших традициях молодежного срача, то есть срач был великолепен – ушарканный, как баркасная палуба, пол, в доску самортизированная мебель, истертые, забитые пылью ковры, нездоровые золотушные пятна на занавесках, в которые разве что не дрочили и не сморкались. Стены, местами протертые до желтой подложки, в пучки цветов и в полоску, еще помнили страну молота и серпа.
Комната, куда он сразу вошел, была самая большая в квартире. И могла бы – точно! – быть побольше. Первое, на что наткнулся – как всегда, его взгляд – был засаленный диван. Напротив стоял телевизор с грязным монитором, коробка видака накрывала его как кепка грузина. В комнату влезла еще одна кровать и сервант. Посередине помещался стол. За ним белый, как лунь, мужик с усердием давил в плошке таблетки. Димедрол. Было вонюче и душно.
На диване двое пацанов невзрачной наружности, вихрастые, лет по 13ти, – деловито ляпали патроны с планом.
– Детскому саду «Чипполино» привет! – сказал Кондратьев. – Не рано детям.. Усы еще не выросли, – хозяину сказал.
– Ты сам-то когда начинал? А это наша новая кровь. «Молодая Гвардия», Фадеева в школе читал?
Новая кровь – в смысле новый источник дохода. Ну, да...
Кондратьев заглянул в малую комнату – полутемную, затхлую, с наглухо зашторенным окном; там спали двое парней, на голом матрасе и койке: в мятых футболках, штанах, упоротые в говно. Полумертвые тела, угловатые как остовы деревянных человечков, закостенели, казалось, в том положении, в котором владельцы их свалились в сон, подкосив о лежбища колени и локти. На голову одного из мужчин была напялена шапочка. В кухне чалилась Лика, числившаяся девушкой хозяина. Сам хозяин лениво бродил, сося сигарету, зажатую между большим и указательным пальцами, уже изрядно датый и подштыренный. Кондрат припозднился на пару часов.
Белый как лунь мужчина закруглялся: он ворочал в миске ложкой, размешивая истолченный димедрол – бодяжить чистое героиновое вещество. Хорошо не мелом и стиральным порошком, и на этом данке шён. Оба пацана закончили забивать штакеты. Взорвали по косяку.
Поддули.
Фугаснули.
План пыхтел неровно. Один из мальчиков подлечил слюной, макнув языком по кромке бумаги. Опыт проскваживал.
– Бабло на кассу, – сказал хозяин дежурным голосом. Кондратьев отдал ему пачку купюр. Тот пролистал со скоростью счетной машинки и сунул в карман джинсов.
Геру разводили на кухне. Банка общая, шприцы свои, – у двоих из компании был ВИЧ. Гепатит у всех, кроме девушки. Свои люди.
Отсыпав для раствора необходимое, хозяин осторожно сгреб оставшееся в миску.
– Это чистяк. Что разбавим – лохам толкнем… Пускай травятся девочки и мальчики. Ага?
– Само собой.
– Нах, где димедрол?.. – Вскричал хозяин из кухни. – Толкач. Натолок там?
– Вота.
– А ручки мыл? Не мыл! (Один из мальчиков гоготнул. Наверное, вспомнил, как самого заставляли мыть руки, перед манной кашей). Ну, ладно. Сыпь сюда!
Пырялись культурно и грамотно. Стаф был чистый, приходы солнечны, оглушительны и, как первозданный фохат, глубоки. Души были ужалены светом.
Всаживали – от широты сердца – очнувшимся в малой комнате парням. Один паренек все время падал. Никак, ну, не хотел догоняться. Обморочно заваливал себя, ломая воздух, набивая гематомы о стулья.
– Дениска! ты хочешь догнаться? Кусков?.. – Кондратьев его усаживал в кресло. – Щас, родной, щас все будет…
Он закатал рукав парня. И – присвистнул.
– Ого. Турбины... Фонари на взлетно-посадочную полосу. Страшно колоть! родимчик будет.
– Тебе-то страшно? – сказала Лика-борзая, девушка 22х лет, худая как щепа, с анемичной маской лица, с лунным шорохом волос, подколотых птичьей гузкой на затылке. С провалами врубелевских глаз. Все героини Врубеля, не исключая ангелов и богодев, выглядят на полотнах законченными кокаинистками.
– Ну, в «обратку» проколи. – Лика жевала пиццу, подхватывая ртом, с руки и запятнанной бумажной тарелки.
Кондратьев приподнял руку парня, оглядел жилу вены, полозом вившуюся вдоль тыльной части предплечья.
– Нда, канат. Качается, что ли, шварценеггер.
– Или вскрой ему пах. Чтобы в целиках не ходил... Он, чай, не пробовал еще.
Кондрат расстегнул парню джинсы, откатил кверху пройму трусов, нашел пальцами бедренную вену. Присосал к подкожному нежно-синему канатику жалящую плоскость иглы.
– Похоже, пробовал уже. – Ввел.
С раскрытой губы его, мокшей теплотой, оползало напряжение. Поршень достиг конца, игла, дрогнув выдохом, по-пластунски оттянулась назад.
– Это тебе догнаться, Денис.
Опустил обморочному трусы, запахнул джинсы. Тот улыбнулся – через фаталь чудесной дурноты, и поморщился, едва.
Второй мужик в малой комнате резко охнул и что-то забормотал, – пьяным бредом и слюнявой кашей несло от этого вскрика.
Кусков Денис – которого они ублажали сейчас дозой дармового герача – был никто.
Моль, ноль и копейка. Двадцатиоднолетний укурок, присосанный к сходкам к квартире по больной потребе организма. Он челночил в хату постоянно – брал товар, сбывал клиенту, крутился, башлял помалу бабки, а иногда оставался с ночевкой – торкнуться часов на семь, но не на буднях, потому что работал каким-то там траханым курьером сетевого маркетинга.
Денис был похож на стебель одуванчика, с горьким соком, оставлявшим коричные следы. Он был симпатичен Кондратьеву, тот сам не знал, за что.
Малина находилась на отшибе Петербурга – городская хулиганская тьма, озеро Долгое, полчаса пилежки от метро. Хату держал тридцатилетний мужик, с погоняловом Сын. Кусков и Кондратьев были так же неизменны здесь как цвет обоев, побитые молью ковры или застоявшийся воздух.
Сын был банальный фраер.
Там подмочь, здесь ножичком почикать. Доставить товар, сбить бабки с павильонов, тех, что под зоной контроля – шестерил на подхвате.
Еще он пас калек с Чечни.
Инвалиды огребали метрополитен, колченого таскаясь на костылях, катая культи на избитых дощечках. Их возили в колясках наемные девочки, прикормленные там же – на хате. Добрые и конченые души, с сизыми глотками, в одежде пост-секонд-хэнд третий отжим, такие же датые и обдолбанные, как их подопечные.
Мужичков было четверо, пятым был Вощенко, – тому срезало ноги по пьяни трамваем, но кто в метро об этом знал. У Вощенко была красная морда, глаза блудного пса и денатуратный голос. Ему давали меньше всех, за что Сын порол его душу наихудшим из наказаний: не отпускал вожделенное ширево.
Калек держали на другой квартире – с бабой, которая варила им, убирала, стирала.
В их распоряжении всегда были косяки, марафет и водка. Дорогой героин и мартини перепадали редко. Сын присматривал, чистил с них деньги, иногда давал коленом в морду. Водил к ним на отсос проститутку. Закидывал коробками дешевые продукты с контейнерного рынка.
Он был крепок по-крестьянски, с шакальей челюстью и мускулами, полусферами катавшимися под кожей. И был сентиментален не больше медведя гризли, расхристан, круторук и рисков, – готовый клиент на дощатую лавку в клетку городского нарсуда.
В его двухкомнатной хате кантовались 6 или 7 собоянщиков, давно сложившийся круг, – вместе сбрасывались, вместе делили-бодяжили кайф, варили винт, кололись ширкой, дули косяки, глотали фармацевтику от знакомого коррумпированного терапевта.
Ну, и конечно, героин.
Двое суток они всемером (девушка с ними) бродили в трансцендентных садах белой и пламенеющей вечности. Многократно летали они и перехватывались с вечностью поцелуями счастья. Догонялись, ловили за хвост «вторяки». Понятие времени стерлось и кануло.
Утро третьего дня было скверным, белым и сумрачным.
Сын сидел в кухне, Лика с ним; Кондрат дремал в комнате, – он обсадился до зеленых ежей. Белый как лунь мужчина ушел. Продвинутые дети свалили еще раньше. Денис Кусков и еще один мужик – в шапочке и в стоптанных ботинках – не подавали признаков жизни.
Золотое русло иссякло, и рог изобилия показал свое порожнее нутро. Кондрат поднялся и выполз из комнаты. Ощущение было нетутошнее. Голову явно сняли с плеч и унесли куда-то на хранение. Вместо нее пух и ширился шар испорченного света. Все-таки с герычем лучше лежать… Вертикаль никак не улучшала мироощущений Кондрата – тело функционировало в противофазе с душой.
Лика-борзая вколола себе из общей дозы винта, слитого в банку, и врубила немецкое порно по видаку.
Винт, сваренный из противокашлевого сиропа Трайфед, был дешев как никакой другой кайф, вдобавок с него реально перло, а потенция взлетала реактивно.
Давно уже умер первооткрыватель перегона микстурок от кашля в наркотическое вещество – мир праху его, сколько народу он экскурсировал до райских врат, а сколько скосил! а нобель так его и не догнал... Кондратьев пристроился рядом с Ликой. Порно было пару-тройку раз виденным, но под кайф пришлось в самую тютельку.
Сашка глядел в экран – в штанах твердело и нарастало, вздыхало инфарктирующим сердцем, в душе томилась никчемная бесстыдная солнечная нежность.
Как иногда хочется ЛЮБВИ, подумал он остро. Вот именно – любви. Потрахаться до чудовищного спуска сока, но чтобы потом – через это – остаться в любви, не утратить вот этого расширения в сердце.
Кондрат смотрел на немецкую видеоверсию make love, и понимал, что даже вантуз не работает столь активно, как эти хорошо сработанные организмы. Строителям надо бы поучиться забивать сваи у этих белокурых ребят, которые даже не вспотели, – агрессивно втыкая во все точки женского тела, способные служить ножнами для члена.
Кондрата заводили крики актрис, учащенные и с отдачей, как хук втыкаемого в плоть томогавка. Вызывали здоровую зависть и смутное соперничество ходкие задницы порноактеров... И очень хотелось женщину, а женщины не было, – борзая Лика была не в счет. Рук допустить было нельзя... Зачем тогда порно? Кондрат откинул пульт и пришел к Сыну в кухню.
Тот пил портер, сидя верхом на табурете, ускоряя реакцию прихода.
– Я, пожалуй, скоро двину, – сказал Кондрат, накатывая себе в чашку воды. – Бабон там беспокоится уже…
– Как скажешь, Шура.
Раздался условный звонок в дверь, – Сын, крякнув сильным телом с табурета, ушел открывать.
Пришел мент Леша. Расхристанный, как водится. «Защитка», ремень с бляхой, сигарета в искаженном зубном углу, ноги вразвал, уже, похоже, мягко датый.
– Ну, че, бабосы – на крышку рояля?.. – спросил он.
Мент Леша был сволочь и драл деньги как последняя шлюха, но его кормили, потому что он прикрывал квартиру от шаставших в опорник бабок-пенсионеров и мамаш голоногих прыщавых тинейджеров, живших в подъезде. Мамаши дрожали за сыновей и хотели бы выцарапать Сыну глаза, но не смели, потому что Сын был опасен и был ублюдочно красив, и дышал горячей смуглой силой. При себе он носил нож Protech, Леша это тоже знал. Но когда тебя сосут и лижут – бескомпромиссные боевые ножи как-то растворяются до размеров перочинных.
Леша небрежно смахнул деньги с краешка тумбы. Воткнул их – как носовой платок – в карман. Принял чек «пыли» в бесплатный довес, и на первой передаче, чмокая ботинками о бетон, поскакал вниз по ступеням.
Сын вернулся, морщась и листая пачку банкнот. Негосударственные сборщики податей отжимали его так же безболезненно, регулярно и равнодушно, как отжимает каждого из нас налоговый инспектор... Но в отличие от государства, мент Леша являлся когда хотел. Приходилось терпеть и платить.
Мутно восстал один из двух мертвяков в маленькой комнате, – пришел качаясь, размазывая листвой ладоней по лицу. Автомобильный щипач, мужичонка лет сорока, худой и мелкий как вошь. Шапочка его сбилась на затылок. «О, м-мать, как проняло-то!» – «Погулял в садах эдема?..» – «Более чем». Ушел опорожняться в туалет.
– Дениска в жопу дернул кайфа, – сказал оклемавшийся, вернувшись в комнату с ополоснутыми глазами. Подбородком качнул на Кускова. Кусков Денис лежал трупом, как весь последний час, с той лишь разницей, что его безжизненная кисть болталась не на ковре, а была приткнута Кондратьевым на джинсы.
– Как обычно.
– Динечка у нас торчок, – сказал Сын, войдя в комнату. Он зависал конкретно, его качало и мазало. – Регулярно наркуется мальчик. Вгонит в венку ширячок, а потом пялит мальчиков. И – девочек... И все планеты солнечной системы. Хе, хе, хе.
– Глотнуть бы аршин портера… – сказал мужичонка-щипач.
– Глотни.
– Да и пожрать схожу заодно, кишка проснулась.
– Валяй.
Сын был близок к аншлагу.
– И что такое Дениска, – продолжал он, хлебая из кружки вино. – Он никто. Помогала. Вшивенький. Банкует и шестерит... Там перепродаст весачок, здесь другому вдует. Кормится, в общем. Наш ноль, без палочки…
– Оставь его. Он такой же, как все мы, – отвечал Кондратьев.
– Как кххто?..
– Да ладно, Сын, это я так.
– Догонимся? еще дозу? – нетвердо сказал держатель квартиры. – Ужалься, Шура...
– Я нашпигован уже.
– Ну, как знаешь.
– Сын, я пойду.
Кондратьев поднялся, цепляя пальцами заскорузлый диван, ловя ногами уходящий набок пол. Ошлепывал ладонями качавшиеся стены. В коридор – собираться.
Шатаясь – травмированный оргазмом сердца и вечностью, – Кондратьев вернулся домой.
На лифте он поднялся на свой этаж – в старом фонде, без КПР, колонка, санузел раздельный, контейнер для мусора во дворе. Ущелье лифта громыхнуло отдачей.
Штопор заставлял Кондрата держаться за лифт. Перед глазами плавали неоны и радуги, прокалывали иглами света сетчатку. Звуки, как всегда после ширки, возрастали в мозгу умноженным саундом.
С боем врезалась в пустую лифтовую конуру отлетевшая назад дверь, хлопнуло дерево о дерево, сомкнулось капканом дерево и железо. Сотряслась легким ознобом решетка. Металловое эхо, ударившись о стены, скатилось на самое дно пролета, расшиблось о бетон и умерло там, плеснув – гибнущим талым броском – еще куда-то. С лязгом защелкнулась ручка.
Было холодно, и дуло от окна, глубокие тени сквозили, пустая лестничная клетка оглашалась, как надфилем, давлением шагов; кислый свет лампы, желтым глазом, мутил сознание.
Кондратьев вздыхал и пытался взяться за стену, как за женскую грудь – мягко и трогательно, пальцами сквозя по штукатурке, усиливая уверенность. Удивленно…
Кожа воспринимала волны тепла, исходящие от горячей трубы отопления, идущие с той стороны стены. Шар электрической лампы жалил темя головы, через шапку. Электричество ощущалось как подвижная и живая энергия.
Открыть ключом он не мог – тряслись руки и заплывали глаза.
Пальцы споткнулись о кнопку звонка и указательный лег в углубление.
И не хотел покидать гнездышка. Кондрат стоял так, слушая разлитие электрического дребезга в недрах квартиры. Он слышал и чувствовал бабушкины шаги, и видел, как идет она к двери, – в ватном своем стеганом халатике, видел на уровне сверхсознания. Точно растворилась – как сахар в дымящемся чае – стена. Щелчками затвора раскрылась дверь.
Перед ним стояла бабушка. Она и вынула уснувший в звонке палец.
– Бабон! – сказал Кондрат нежно. Растянул лицо в подобие улыбки. Так, наверное, улыбаются лори. Пушистые и мягкие. Лори, когда они пьяны. И обдолбаны.
Бабушка заулыбалась, протянула руку – сухонькое чистое запястье, в диабетных прожилках, чтобы схватить внука, не дать ему упасть. Тот нежно обошел ее, цепляясь за стену и косяк, подворачивая ноги, боясь задеть ее, хрупкую, в ночном слежалом халатике, и, наконец, падая всем телом – в нутро квартиры.
А!..
Он подломил стопу в ботинке, навернулся об угол и попал телом во что-то, больно полыхнувшее острым и солнечным. Грохот раздался. Кажется, это был коридорный торшер, как это некстати, – прости, бабон, я не хотел……...
Бабушка помогла подняться ему. В силу своих детских мускулов и высохшей девяностолетней энергии.
«Бабон! все нормально, мы выпили с друзьями». Ввалился в свою комнату.
Он не дошел шага до койки, качнулся и – вязким движением, как в киношном рапиде – подрубился о землю коленом. Он лежал так, падая в сны. В звездном мареве радости, заливавшем глаза. Проваливаясь в сахарное небытие.
А назавтра были гонки.
Кондратьева штырило и впирало. Но уже не кайфом... Отходняком и паранойей.
Его садило, он зверел, сознание ломалось на куски, душа разваливалась на части. Сцепило в мозгу все шестерни... Он бредил, метался, его давили кошмары. А еще через день он сам, добровольно, сдался Брусникину в наркологию. В гнилое место, истребительное лечебно-карательное учреждение, на Васильевском острове. Подальше от дурки.
В гренадерские ручищи медсестренки Наташи.
. . .
– Ну, как тебе, давешний персонажик?.. – Шепнул завотделением Брусникин в аринину макушку. Огладил ее волосы, и легким толчком – как дыханием – от ладоней отпустил.
– Кондратьев? – Арина замерла от суровости его ласки. – Необычный случай, правда.
– Не задержится у нас это случай... – Отвечал ей. – Ну, дерзай. Вот еще двоих тебе. Извини, я больше дать не могу, чем богат, мне других врачей кормить надо.
Он хлопнул карточками о стол и вышел, не дослушав аринино «спасибо».
Арина забрала медкарты и пошла в приемный кабинет.
В коридоре бродил Кондратьев, курил из-под рукава. Увидав ее, он прояснел лицом, навстречу шагнул.
– Арина.. э, Юрьевна. Ты не сердись на меня. Ага?.. Я в детстве свинкой болел. После нее бывают проявления.
– Я не сержусь на тебя, Саша.
Из палаты высунулся паренек лет 15ти, – юркий, ершистый, в бейсбольной кепке на одно ухо. Кондратьев кивнул в его сторону.
– Это типа мой брат, Арина Юрьевна... Познакомьтесь. Виктор.
Арина кивнула, с улыбкой.
Ей было некогда: ждали на чай в ординаторской. «Потом в палату загляну», – решила про себя. А когда, спустя час, заглянула, – Кондратьев был уже один. Брат ушел... Кондратьев сидел на кровати и выглядел не самым рождественским образом. Взмокший лоб, стиснутые пальцы, бледный как яблоко белый налив. Усмешка его имела вид уже воспаленный.
Ему было херово, Арина видела это.
– Саша, хотите – у меня время есть, – пойдем, поговорим?
– Если про наркотики, может, не стоит? – Кондратьев не трогался с кровати. Лыбился. Зубами скрипел.
– Пойдемте. Мы просто пообщаемся…
Они пришли в кабинет, сели. Кондратьев буднично раскурил сигарету. Арина закашлялась. Он здесь же загасил.
– Как ты чувствуешь себя? – Арина измерила Кондратьеву давление. Пульс частил, ну – это норма…
– Спасибо, бывало и значительно лучше, – отвечал ей.
– Какие планы у тебя...
– Планы. – Кондратьев усмехнулся. Арина поймала себя на том, что привыкает уже к этой его манере. Ожидает ее даже. – Мои планы. Паббароть зависимость, доктор... – Со смешком отвечал. Торжественно и угрюмо. Глумился, прикалывал снова.
– И как?
Он переплел на груди худую силу пальцев с веслами предплечий.
– Ну, вот перестанет тошнить меня – начну бороться. – Он глянул на Арину как на законченную клиническую идиотку.
– Да никак, – уже серьезно сказал. – Неграмотная ты все-таки, доктор... Мы, опиатные нарки, прямо-таки обмечтались, чтобы начать снова курить анашу и пить сухое вино. Нам нужен этот бычий кайф?.. Настоящий кайф в игле с маком. Поэтому больничка для нас позволяет только «завязать дозняк».
– Не поняла тебя, Саша.
– Ну, значит не завязать совсем, а лишь сократить минимально достаточную дозу... За год вольной жизни мой дозняк «распускается», и лучшее дело его завязывать, когда я бываю в «калечной». А для меня, наркомана со стажем, «расфуфлить дозняк» – вообще дело месяца.
– Ты где-нибудь работаешь? – спросила, покоробившись, Арина.
– Контора по дистрибьюции компьютерной техники. Что-то вроде администратора...
– Расскажи мне о своей семье.
– Блин. Ну, что семья. Папа богатый у меня. В бизнесе рулит, – мама на подхвате… Оба, сутками, в фирме. Им не до меня всегда было. Доставал их, доставал: мам, пап, побудьте со мной. В один прекрасный день бросил. А теперь уже и сами не достают – я на другую квартиру свалил. К бабушке. На младшем брате теперь отсыпаются. Витьке... Ну, брателло крепкий у меня. Выдюжит.
– Твоя бабушка на пенсии?
– Бабон-то?.. А, да. Уже давно. Она у меня первоклассная... Такая же крейзанутая как я. Бывшая искусствоведша, да. Две книжки издала. «Балет Петербурга», и одну еще – о театре тоже. С Барышниковым за ручку держалась. Живого Нуреева, до эмиграции его – еще когда на сцене Кировского прыгал солистом, – видела, да… До Мориса Бежара вот не добралась.
– Выходит, бабушка правильная у тебя…
Кондратьев усмехнулся. Душевно, незло.
– Куда как «правильная». Она-то мне и сказала, в мои восемь лет: «Ну, чего, Шурка? Все равно ведь в школе с пацанами закуришь. Так давай, ну, попробуешь дома... Под присмотром. Моим. И я – вместе с тобой». Сама до этого сигареты в рот не брала. Так закурили. Вместе. Ага.
– А семейное положение твое?
– Холост, открыт для общения. Пойдешь в кино со мной, Арина Юрьевна?
– Саша, я вообще-то на работе. Соблюдай дистанцию, по возможности.
– Ну, не знаю! Я вижу – в целом – хренового доктора, но вот – девушка... Девушка лучше в разы. Что ж, я не могу ее в кино пригласить?
– Спасибо, Саша. Я обещаю подумать над этим... Не будем события торопить.
Стандартный ответ-динамо. Кондратьев кивнул с пониманием. Опустил – молча – предъявленную подробность: легкое движение пальчика. Безымянного. Опоясанного колечком.
– А учился ты где?
– Ну, отец хотел меня тиснуть в университет, на юрфак. Но там надо было пуп развязывать, экзамены сдавать. Хули мне было, при его-то деньгах. Я пошел в частный вуз, на платный курс... Заочка. Полгода проучился – в армию замели. На Северный флот. Морозить яйц… простите, уши.
– А девушка твоя… Когда ты понял, что что-то не ладно?
– Да на второй год армии где-то и понял. Год еще верил ей, туда-сюда. Письма строчил, – как два идиота. Весь второй год только и делал, что подозрениями мучился – она мне редко писала, звонила, а дома я вообще ее не заставал. В отпуск меня не отпустили тогда... А мой лучший друг – мы с детсада вместе – вот он ко мне приезжал. Уже будучи женатым на ней. Да, да. Я в его глаза смотрел, и не знал, – кого он трахал тогда… Я это потом все узнал. Большой для меня был fuck, – и постфактум.
– А что ты делаешь по жизни. Ну, помимо работы администратора... Как ты борешься с наркотиком. Чем.
– Арина Юрьевна, ну вы пропагандист. Какая борьба?.. Сколько мне еще там осталось. Лет пять-семь? При моей активности приемов... Зачем бороться за жизнь, – когда все равно помрешь раньше многих. Выпрыгивать из штанов.
Он докурил, забычковал в пепельнице окурок, встал, отер ладони о джинсы. Взялся за дверь.
– Кстати, Арина Юрьевна, видели в истории, – у меня ВИЧ и гепатит С... Так что если согласитесь в кино – берите презики, я вас предупредил.
Вышел.
Арина сидела и думала, – да, он привлекателен. Не только из-за глаз. Почему-то всегда привлекательна неторопливая наглость и честность. Сила организма, пускай испорченного злоупотреблением и болезнью. Наверное, его губы на вкус достаточно мягкие. Он красив, хотя и некрасив он вовсе. Неканонически, конечно... В греческом зале ему не стоять. Не между антиноями и дискоболами.
Ладно, пора собираться, Артем уже наверное дома. Голодный и необласканный. Пора.
. . .
Артем Адулас сидел в кухне, не обращая внимания на включенный телевизор. Убивал время, дожидаясь, пока Арина моется в ванной. Читать не читалось, в компьютере не сиделось, – он разглядывал свой любимый талисман, пистолет системы «смит и вессон».
Иногда он подумывал – хорошо бы, чтоб Арина была царевной Будур... Поменьше мыться любила.
Артем приложил дуло к щеке. Прохлада была чудесна, проста и внимательна. В душе мягко расцвел цветок силы. Уверенность ствола ласкала кожу энергией красоты.
Он с наслаждением потрогал прямоугольный затвор.
Сдуть, легким выдохом рта, с металла, несуществующую пыль, почти коснувшись дула губами. Холодный поцелуй, закаленная steel. Огладить, холмом под большим пальцем, бескомпромиссный ствол, простой и чистый – как чиста справедливость. Лаская фалангой указательного пальца гильотинный прогиб спускового крючка. Предохранитель не подведет, и выстрела, of course, не будет.
Артем оглядел экстерьер «чемпиона» – калибр 11, модификация смит и вессон, модернизированная американская модель, с передергом затвора за переднюю часть. Поворачивая всеми плоскостями в руке, неспешным взглядом эксперта: отстраненно и безошибочно, с блеском усталой любви на дне глаз. Любви, которую он испытывал к оружию.
Пистолет был красив и суров как религия. Спокойные линейные очертания, с нежным льдом бесстрастия. Рассудочный экстерьер, с одним лишь легким строгим поллуэллипсом – рукоятки.
– Играешься? – Арина вышла из ванной. Закинув руки, закручивала на макушке косу. – Сколько нам лет уже? Три?.. Или двадцать три?
– Не понял. Я с вами играюсь разве меньше?.. – отвечал ей. – В чем упрек.
– Вот, Ариша, смотри… – продолжал Адулас. – Кусок металла, а сколько в нем силы. Можно в тире стрелять, а можно ушлепать кого-то. Ты берешь в руки оружие, и что-то смещается в тебе... Возникает мощь, неудержимость. Человек с оружием и без него – это два разных человека. Хотя они сделаны из одного и того же мяса, и мозгов в головы налито одинаково. Совершенно не значит, что я иду по улице и думаю, кого бы ухлопать. Но спина у меня при этом в несколько раз прямее, голова выше, звук шагов тверже. Знаешь, если б оружия не было, – его бы стоило придумать... Короче, зацени машинку, жена.
– Машинка, нет слов, хороша. Но зацени жену, – сказала Арина и распахнула халатик.
Адулас поднял глаза.
Умытая, Арина была чиста глазами и лучилась кожей: электрический свет – через прорези абажура – ласкался к ней, обертывая теплым воздухом венецианского кружева. Легкие полукружия грудей вздохнули и стихли, аккуратно напряглись наконечниками из мятного шоколада. Свет с них падал и торопился в прохладный плачущий пупок, стеклышком влаги блиставший над животом. На лобке, воткнувшись копьем амазонки, струилась черная узкая язвящая оторочка.
Царевне Будур шло к лицу это – мыться.
– Дочь наша... Мы не разгневаны, – сказал Адулас, не переменяя тональности. Вессон – мягко – лег на стол. Нежнее и тише пера. Артем подошел и сжал ее шею.
Ввел курок языка между теплых и сильных зубов, ввинтил себя бедрами в горький стебель ее тела, прорисованный нитями и узорами вен.
– Аладдин. Ваша пряжка весьма холодна, – задыхаясь, сказала Арина.
– Уберите ее...
– Вы полагаете?
– Вне сомнений.
Потом, уже после, они лежали – дело шло к полуночи, но бра горело еще, – Артем скисал, его гнуло в сон, но Арина разгорелась, и он чувствовал – десяти минут разговора не избежать.
– Ну, чего твои укурки? – спросил, поглаживая ее. – Как день прошел... Был кто интересный?
– Да! мне Каэс подкинул случай, – отвечала Арина. – Хочу включить его в мою писанину... Я за завтраком все расскажу тебе. Идет?
– Идет. – Артем загасил свет. – Спи.
Арина не спала: тело сухо ныло.
«Кука, ты способна расслабиться?» – стоял в голове голос Артема. – «Я – да». – «Ну, и где ты... Что с тобой».
Тогда – ему в ответ, – она попыталась воссоздать теплоту внутри себя, переживание водопадов энергий, текущих через ее тело, ощутить мускулы и арыки своих внутренних чудесных женских садов – дать увлажнится им и взорваться цветами, послав ее сознанию, телу – спазмы света.
И снова – за головой мужа, целующего ее, – Арина увидела робкое белокожее лицо сына. Будто проступившее из темноты. Сжимавшего губы грустно, как пятачок новорожденной ягоды. Сын садился на корточки, глядел внимательно на нее – и во внимании этом сквозила печаль. Там, во сне, он уже умел говорить. И он сказал ей:
«Папа обижает тебя. Он делает больно тебе…» – «Нет-нет, детка! нет. Маме приятно». – «Ты кричишь и плачешь, мама». – «Это раньше! я больше не делаю так».
Шурка рассек между ними путеводные нити, которые отвечали за вхождение Бога в аринино сердце и тело, – то, что на языке земного человека называется оргазмом.
Наутро Артем проснулся раньше, сидел на постели, растирал глаза пальцами. Встряхнул головой. Сидел так с минуту.
– Мне снился Шурка, – сказал он Арине, просыпавшейся рядом.
Арина раскрывала глаза, потягивалась немного. Муж был теплый и родной... Она приподняла голову, услышав беспокойное «Шурка».
Артем смял веки снова, отпустил. Теплота разливалась на его лице.
– Лет пяти уже. Совсем лопушок... Подсолнух. Каким я был в мои пять. Полминуты всего, я сразу проснулся.
Арина напряглась и перестала дышать.
– Послушай, может, правда – давай, кончим предохраняться? – сказал, наклонившись над ней. – А то и мне он сниться начинает. А? Ну, тебе же легче будет… Тебе нужно заботиться о ком-то. Переключиться с… (не смог произнести). Не все же печься о своих нарках и психах.
– Никогда не будет такого второго как Шурка, – отвечала Арина.
Как отрезала. Холодом цинка. И – голодом сердца.
В горле стояла вата и влага: величиной с детский кулак.
– Тогда еще покупаю таблеток? – спросил Артем глухо. – Этих, твоих, для предохранения… Ты название только напомни.
– Я сама куплю, – отвечала мужу, бесцветно.
Он отдернул одеяло, поднялся голый. Добросил – коротко – одеяло назад. Вдел в тапки босые ступни. Ушел в ванную, молча.
За завтраком ни она, ни он не произносили ни слова. Рассказ про пациента Кондратьева остался ждать лучших времен.
. . .
Но не ждал сам пациент.
Он стоял в коридоре больницы, с пакетом в руках. Одетый для города, улицы. Стоял и выглядел обособленным – в оживленном этом коридоре. В городе. В жизни. Как будто не прирастал к ней – к этой жизни – ничем.
Арина окликнула его. «Куда вы, Саша?...»
– Меня Брусникин выписал. Я ухожу, – отвечал ей.
– Может, останешься все-таки. Ты раньше срока…
– Да нет, зачем, сейчас попроще будет. Итог-то все равно один.
– Тебе бы тут помогли... Несколько дней продержишься – физически уже отпустит.
– Героин никогда и никого не отпускает.
Кондратьев закатал рукава – рубашки и куртки – обнажая локтевой сгиб.
– Смотри сюда. – На сгибе локтя дышал свежий, как ласковое пламя порока, синяк. – Вот мои документы гнусной реальности.
Арину точно пнули между лопаток.
Мужской и точной ладонью. Без трепета. До глухой отдачи в сердце. В глазах стемнело на четверть секунды.
– Саша, ты чего? Ты подкалывал?.. здесь?!
– Ага, мне Витька притаранивал... Братишка. Ну, помните, я знакомил вас как-то.
Арина вычертила – плечами и телом – 180 градусов. Расставания.
И пошла прочь. Честно, яростно, холодно. С руническим спокойствием.
Ну же, гад. Поверила, дура! А этот наплевал… На беседы. На ее участие. Тактику! Сострадание. На……
Кондратьев сделал движение к ней, скачком догнал ее. Сказал ей быстро, чуть в сторону глядя:
– Да ладно тебе, Арин Юрьевна! Ну, не серчай… Ну, чего ты. Я надеюсь, ты не подумала, что меня яблочко в темечко стукнет, и я забуду о гере.
Арина не слушала его. Летела и шла вперед. Полы халатика развевались.
Он отстал. А она шла, красивая и чистая, ее колотило. И было тошно и горячо. И гадко. И жалко… И больно, что все так. И что вот этого – не спасти тоже.
И никого из них не спасти, никого! Пока кто-нибудь из них – сам! – в жесть не захочет.
И все это вранье: «Я вылечусь, я брошу». Вульгарное вранье. Приходят свежеуколотые, зная, что бабла на следующий укол может не хватить, или депресс их гонит конкретный. Триста тыщ раз скажут, что героин – зло злоебучее, что они хотят с этим покончить.
А спросишь такого про будущее его… Каких он тебе замков тебе не настроит! Рыдать от умиления хочется. У теток повально: «Трахаться больше ни с кем не буду – ни за дозу, ни за деньги, опекунство над ребенком верну, на работу приличную устроюсь, полдома родительского из ломбарда выкуплю...» и т.п.
А ты ешь, ешь, Арина Юрьевна! ешь и верь им – не зря же Брусникин доверил тебе работу с больными тебе: девочке-интерну. Который не доучился еще... И опыта у которого – голый ноль. А только вера, и гребаная его, интерна, ботаническая чистота. И красный диплом. И муж – красивый и правильный. За что-то любящий даже.
И……….
. . .
Кондратьев вышел на улицу.
Нет, он не ошибался, полагая, что эта молодая врачиха, Арина, бишь ее – семицветик который – она не знает подкладки этой больницы, еще не нюхала пороху в ней. А он, который бывал здесь уже не единожды, нахлебался этой каталажки по самое, знал все ее медицинское дерьмо.
Отделение наркологии сами нарки считали за семинары по обмену опытом и называли «санаторием». Эффективность лечения в «санатории» всегда была близка к нулю. Кондрат ненавидел – и вместе с тем считал избавлением – это угрюмое здание, где решетки армируют окна, и где амбарные замки на дверях.
Где палаты на десять человек, а вечерние интересы сводятся к просмотру старенького полусдохшего телека, который кажет все программы одинаково красно-зеленым. Где верхом телеэрудиции считаются Танцы на голольду, борзой Малахов, Камеди, Новые Русские Бабки и Петросян.
ВИЧ-инфицированные и гепатит С, – все вместе, одна процедурная, общая ванная, работает раз в неделю. Санитаров нет, полы моют пациенты в режиме трудотерапии, иногда их моет буфетчик. Облупленные стены – протечки, известка, поганочные грибные пятна, плесень.
У таких же, как он, наркоманов, татуированных перстнями, ножи; героин не переводится, отработанный чифирь выливается литровыми банками. Все контакты и встречи происходят в сортире, который дополнительно еще и курилка.
В сортире налажены «дороги», поблескивают – нередко – жальца шприцев. Откуда берут?.. С Большой Земли, вестимо. Особенно фартовым подгоняют родственники, друзья.
Алкоголикам – тем скармливают таблетки, колят мощную терапевтическую дрянь. Бедолаги заваливаются в сортире, в постороннем ссанье, или ползут по коридору. Один, плача, спросил у Кондрата: а какой здесь срок лечения? Тот ответил – ты, главное, дядя, не хавай этих таблеток и уколами не порись, а то пиздец тебе.
Пиздец, как и всем нам.
Сестры там, пожалуй, такие же, как и везде. В процедурной не церемонятся, напиваются под вечер, погавкивают в коридорах.
В сортире-курилке неторопливо плывут разговоры.
– Выписался через 10 дней, так ширанулся четвертью дозы – перло весь день!
– После этой больнички от барбитуры придется два месяца отходить…
– Такое впороли, что полночи искал туалет, как в компьютерной игре; обоссался – вон, трюли сохнут…
– А сколько на жену записано… теперь все отберут, б**, овца дырявая! – И кулаком в дверь, где хозяйственный инвентарь. В треск.
Иной раз Кондратьев смотрел телеигру. Поражался.
– Бля, какая память у людей на имена! Тут три раза повторишь и х... запомнишь!
Тогда, в свой первый свой раз, в этой наркологической больнице – уже день на пятый – Кондрат отказался принимать лекарства и пищу, потребовал звонка домой. Мобильники отбирали еще при поступлении. Он сказал, что уползет, вцепившись в кого-нибудь зубами – битый, истерзанный, закованный в цепи, но уползет. Видения и глюки его забылись, они отступили, ошарашенные. Они сменились новыми, которые уже не покинут его никогда.
Он вернулся домой похудевшим кило на десять, заросший волосами до плеч, абсолютно деморализованный и готовый расплакаться по ничтожному поводу. И поклялся себе, что больше никогда туда не попадет.**
И, конечно, загремел туда снова.
Но как загремел, так и вышел. На улицу.
Мороз пощипывал лицо и было свежо и остро, как бывает всегда, – когда под небом ниже 15ти.
День, и воздух, и морозец – и переживание кожи лица, – напоминали ему тот день, когда он первый раз попробовал героин.
В подъезде, на сигаретной пачке. Только что выйдя от продавца. Он разделил тогда героин на две дороги.
Отсек лишнее телефонной карточкой и сбросил в пакетик. Скрутил из девственной сотки нюхательную трубку. Выбирал дозу, вжимал ноздрями растворимый экстаз, впитывая порами легких прохладный дух, шедший через бумажное дуло. Отсасывал носоглоткой нежную космическую пыль.
Тогда на нем была кожаная куртка с мехом. По пояс. Молния расстегнута, потому что подъезд, и на улице минус 15.
Через пять минут куртка все еще расстегнута, на улице всё те же минус 15, но уже неважно. Проводишь рукой по лицу, медленно, и этот жест остается на долгие годы. Как будто лицо его ужасно устало, и его хочется оттянуть вниз, как в каком-нибудь мультфильме, а оно со щелчком и реверсией встает обратно, но усталость не снимается. Тебе так только кажется. Глаза прикрыты, их внешние уголки опускаются вниз, ты суешь руки в карманы.
Говорить о чем-нибудь не хочется. Кайф настолько сильный, что закладывает уши. Минус 15, куртка расстегнута, но это неважно, сигарета в руке, она предпоследняя – и думаешь, что надо купить простой LM – они покрепче и именно то, что нужно.
Ты чувствуешь себя охуительно. Как будто рай можно пощупать руками. Он в каждой клетке твоего тела.
Кондрат стоял и погружался в новый для себя мир.........
Он однозначно был лучшим из всех миров, в которых он успел побывать.
Двери познания открылись и он заглянул туда – на другую сторону. Он расчесывал свой нос и блаженно улыбался в никуда. А потом он проблевался.
И после рвоты на него накатила новая волна кайфа.
Он стал оглушительно счастлив и самодостаточен в своем эгоцентрическом счастье.
Пришло забвение собственной слабости. Все худшее в нем умерло. Истлели, стерлись страхи, неуверенность в себе, в собственном будущем.
Постепенно – стэп бай стэп, – гера избавляла его от всех вокруг – даруя взамен себя. Себя и ничего больше.
И это напоминало служение.
И он отказался от всего, ради того, – чтобы становиться единым целым с Нею день ото дня. Все остальное перестало иметь свое значение.
Она заменила его личность своей собственной, – собственной, готовой абсолютно на всё, лишь бы задержаться в мире, а значит и в его теле, на как можно более длительный срок. И он стал Ее раб.
Раб, – который за удовольствие поглощать духовную пищу, шаг за шагом, лишался своего собственного духа. И это была высокая пошлина.
. . .
Оружейный салон «Арбалет» был элитный и крохотный: пять человек персонала.
Небольшой зал, дверь и напротив прилавок, изогнутый буквой Г, окно во всю стену – слева от двери. Касса и стул охранника – оба у входа. Стеллажи с оружием, у двух продавцов за спиной. Свой тир, договор с концерном UMAREX, доступ к серьезным и лучшим игрушкам, непыльная мужская работа.
Артем Адулас работал здесь второй год, закончив юрфак. Юристом и – на паях – продавцом.
Он любил холодный воздух салона, шедший от черных плиточных полов, от угольных графичных оружейных стволов, прорезавших витрины, макеты и стенды. Их красивую честную статику смерти.
Артем был рыж как опаленная пожаром трава.
Шея его была вытянута, жилиста. Некрупные уши, прижатые к голове, волосы ершом, поднятые кверху. Джинсы – провально пустотелые – на совершенно плоском заду. Исколотое угрями и веснушками лицо. Неровная кожа на скулах и резьба двух или трех мимических складок возле рта. Плоский, сухой и непомерно костлявый – вешалка вешалкой.
На свой первый оклад в «Арбалете» он купил пистолет. Смит и вессон, калибр 11, тот, что в ходу у американских армейцев.
Выдирая пальцами картон, он вынимал пистолет из коробки, стараясь не сломать уголки, и ломая их непроизвольно. Он разворачивал росу полиэтилена и выпрастывал из громкой шелухи обертки крепкий и нетронутый остов «чемпиона». Тот был прекрасен как сама невозможность. Его можно было гладить и прикладывать – чувственной лаской к щеке; тот отзывался прохладным пониманием.
Инструктор Леня Осадчев – маленький парень без возраста, румяный как школьник, с нитями лунных волос в голове, спортивный стрелок, кандидат в мастера – учил Артема стрелять.
– Артем. Спокойно! Оружие – это женщина... Твоя кожа, твое ощущение себя. Мускулы сердца, ты понимаешь? Управляешь им четко, уверенно.
Рука медленно привыкала к оружию, его балансу, положению в руке.
Отрабатывал хват – максимально фиксировал рукоятку без тремора мышц. Сжимал пистолет в руке до появления дрожи, затем ослаблял силу хвата, пока не исчезало дрожание оружия. Закреплял кисть – жестко – в лучезапястном суставе.
В тире он выводил руку в цель, не глядя на нее. Добавлял выхват оружия из-за пояса и досылал патрон левой. Отделывал чистоту хвата двумя руками и одной рукой. Спуск в холостую, до автоматизма. Скорость удара. Технику спаренного выстрела, строенного выстрела, серии из 4х и 5ти.
Жена Аринка пришла в его салон лишь раз: с целью поразить его сотрудников.
Почему нет? Поразить, и при этом не обнаружить свой статус. Такая маленькая замечательная женская игра. Артема она не предупредила.
Зато подготовилась всесторонне. Взяла полушубок у Светки, искривший собольим серебром. Причепурилась… Лиловые узкие джинсики, бандана, из-под которой сыпался шок ее волос. Слегка кинула брошку, туда-сюда колечки, специально поперлась зачем-то в солярий.
Ногти Аринка красила с удовольствием и упоением. Сделала долгий и прихотливый мэйк-ап.
В таком драматическом виде она подошла к прилавку Артема.
– Мне нужен пистолет, – заявила она, блистая серьезно глазами, полными чайных слез, с лавиной волос до крестца, залитого джинсами стрейч.
– Вам? Пистолет?.. – сказал Артем, слегка изумившись. – По мухам стрелять?
– У меня строгий муж. Мне нужна защита. От него...
– Му-ууж, – сказал Адулас, не переставая изумляться. Слегка.
– Любимый, кстати, – прибавила она.
– Электрошокером его, – отвечал он улыбаясь.
Арина красиво и талантливо возмутилась.
– Вы продавец? Продайте мне пистолет.
Инструктор тира Леня Осадчев глядел на них с любопытством.
– Девушка, ну зачем вам пистолет? – Артем обпер о прилавок локти, сделал гримасу. – Вы что: в состоянии стресса сумеете быстро выключить предохранитель? Дослать патрон в патронник? прицелиться?.. Берите револьвер! Это проще и безопасней. Направили на человечка. Нажали на крючочек. С человечком – муэрто. Опять же – в сумочке носить легче.
– Покажите, – приказала она.
Артем достал с полки умарексовский Викинг – травматическую игрушку, бьющую резиновыми пульками, баловство чуть-чуть пострашнее баллончика. Умарекс хлебнул с ним по полной, из-за прописанной в законе об оружии пресловутой «бесствольности». Но не спасовал перед этим.
Арина повертела револьвер, слегка подкинула в руке, сделала вид, что намерена забрать. Адулас высвободил игрушку рукой за ствол.
– Арин, ну все. Шагай домой... – сказал ей негромко.
– Поцелуй меня.
– Послушай, Осадчев меня не поймет.
Леня маячил за прилавком, перебирал что-то в ящиках, наблюдал за ними искоса в отдалении.
– Пускай он думает, что ты плейбой, – настаивала Арина. – Поцелуй...
Артем перегнулся через стойку и мазнул ее губы ртом. Снял револьвер с прилавка и убрал его на стенд.
– Знакомая? – спросил незначительно Леня, когда Арина ушла. Адулас приподнял бровь, подержал ее две секунды. Вернул бровь точно на место.
– Моя Аринка… – обыденно отвечал. – Жена.
– Мушкетер, не будь я сам женат, я б за такую лег на асфальт, – сказал Осадчев негромко. Как бы между прочим. Поглядывая в товарные чеки.
– Асфальт уложен, Леня, – отвечал Артем улыбаясь. – А, впрочем, спасибо, брат...
С того дня за Адуласом закрепился ярлычок «счастливчика в браке», а он не отрицал.
Тем паче, что это была правда, – ащще и совершенная правда, да и льстило это, в общем. Потеря ребенка только прибавила весу золотой монете: браку его. Вместе несли, вместе с болью сражались.
Подводные камни своего брака камнями он не считал. Так, надводные мелочи…
Арина была никакая хозяйка, готовил ужин почти всегда он, – подчас это в корягу Артема напрягало. Иногда он пинал плиту и хлопал дверцей СВЧ (зарраза). Но куда было деться ему?.. Арина приходила отжатая, – после учебы и после смены в больнице: ни руки, ни ноги не поднимались.
Молодую ячейку общества спасали супермаркеты и фастфуд. Бесперебойные пельмени, картошка фри, окорочка и двухминутная овсянка Быстров. Овощи из пакета и такая вонючая лазанья, что запирало дыхание. Но Арине нравилась эта жуть, и Адулас терпел.
После ужина у него доставало еще сил расспрашивать Арину о текущих зачетах, о преподах, очередных кавалерах подружек и ее собственных больничных клиентах.
– Ну, как там твой отец-героин Обкумаренко?.. Ну, этот, твой случай знаменитый?
– А. Он уже ушел... Раньше срока.
– Мм! У Обдолбащенко случилась внеплановая линька... Много пера потерял? Жаль порхатого, от сердца. Ну, туда им всем дорога. В конце концов.
Артем варил Арине кашу.
Заправлял маслом, кидал здоровую ложку клубничного желе. Ставил перед Ариной на стол, следом подкатывал к тарелке не менее здоровую чашку горячего чая. Добрасывал кусок хлеба с сыром – на блюдце. Домашний макдональдс работал как часы, с перерывом только на выходные.
Одним словом, Адулас Артем был весьма неплохим чуваком.
…
Таблетки купил все-таки Артем – Арина, конечно, забыла.
Десять минут, пока таяла капсула, Артем накрывал рот Арины поцелуями. Сажал поцелуи осторожно на теплую почву ее губ. Потом переплелись. Раскрылись легкие внутренние крылья ее сердца. Сердце Арины плакало загубленным счастьем…
Спокойный бивень его сострадания лег в мускулы этого сердца. Замок их был почти совершенен. Они не могли расторгнуть его несколько горьких и сильных минут.
Под утро Арина снова видела сон. О сыне.
Шурка был тихий и серьезный, лет уже пяти. Каким снился Артему тоже.
Сын подошел к ней: внимательный, рыжий, глазастый и деловитый. Без улыбки почти.
Он поднял ручонки и открыл дверцу, за которой отстукивало аринино сердце. Морща губки, он достал сердце и подержал его так – с великим напряжением – минуту. Как какую-то драгоценность: бесценную машинку там, или солдатика в полной боевой амуниции. И сказал: «Мама, ты не бойся. Я не уроню!» И – не дыша – он нес прочь аринино сердце: на вытянутых руках.
Сон ударил по ней...
Арина оползла на пол – без лица, с глазами красными, точно в белки были выдавлены две капли брусники. Пальцами, прозрачными как гильзы из папиросной бумаги, она перехватывала свои колени и зажимала рот – попеременно – чтобы не рыдать.
– Я больше не могу! я не могу, не могу…
– Я скучаю по нему. Не могу спать….….... Он стучится в мое сердце, – плакала Ариша.
Она твердила. Шепталась. Кусала пальцы, обнимала Артема за шею. Влагала губы в нежный надкушенный порез его рта. – Он был – ТЫ... Он был ты, только маленький! КАКТЫ.
– Артемка! мне нужно в церковь…
Артема отпускало; она плакала, а он вздыхал, сжимал и целовал ее сандаловые горькие волосы.
– Ну, чего ты… У нас еще куча будет таких как я. Куча!
Он обнимал ее кольцом рук.
– Ну, тише, все… Ты хочешь в церковь? Ну, давай еще раз сходим в церковь. И давай купим тебе успокоительных каких-то. Ну, кто из нас доктор? Вон твои нарики – пырнутся, и жизнь прекрасна… Мы-то чем хуже? валерьяночка? Пустырник? Что там еще… Ты спроси у Брусникина – какая таблетка помогает от стресса. Пускай он выпишет! мы купим.
Нарики? Арина обтерла глаза... А ведь – нарики, правда. Наркотик это не то, что транквилизатор. Это мощнее, и это – разово! – быстро поможет.
Артем – того не зная – сам назначил выход. И вспомнился вдруг – Сашка Кондратьев.
. . .
Почему-то ему она доверяла больше всего.
Но спрашивать что-нибудь «для забвения» – у Кондратьева… Как он среагирует на это. Конченый этот стебок.
Арина подняла в архивах его телефон. Два дня она рассматривала цифры, покусывавшие бумажку. Дозвонилась на домашний с третьей попытки, почти растеряв присутствие духа, – дважды она попадала на бабушку.
«Ого!» – сказал Кондратьев, когда услышал, кто звонит. Он обалдел.
– Могу я поговорить с тобой, Саша? – сказала Арина. – Я не хотела бы в стенах больницы...
– Ну, давайте. А о чем…
– Ты мне расскажешь, как ты живешь сейчас... Чем дышишь. Мы пообщаемся в неказенной обстановке. Скажем, в парке Муринский ручей... Я там живу недалеко. Это не займет много времени.
– Типа, чего я делаю битыми днями? – усмехнулся Кондратьев. – Я вроде даже работаю. В смысле – пока еще... Ну, ладно, валяйте, доктор.
Встречались в полупустом и простуженном парке. Не жарко было, конечно.
Начало апреля, чуть ветер, но уже полностью сухо. Чудесные нагие деревья: сухопарые как насекомое палочник. Небо в полгоризонта. Птицы – как клочки и росчерки сажи. Подножная грязь, с зимы, таращилась и лезла отовсюду. И казалась почему-то особенно беспардонной – в отглаженных простынях веселого солнца.
Арина ждала Кондратьева на скамье, кусала губы, мяла сумочку. И думала – как она расскажет ему о деле. О том, зачем позвала. И что сказать?.. А что опустить. И вообще, какой он теперь – месяц-то спустя?
Не начнет ли стебать ее и подкалывать… Усмехаться как отъявленный школьник-оппортунист. Упирая на пиковость ситуации. Нежнейше лыбясь в глаза. Ага, вот так… И еще – куря вот этими стрелами, и вот так делая пальцы.
Блин, уйти совсем, что ли…
– Привет! Ты извини, я в пробак на микрашке попал…
Кондратьев подскочил – на редкость свежий, в путевой куртке. Неплохо острижен. Не сказать, что наркоман. Если только на дне глаз – известковые отложения потаенной тоски. Абортированные последствия свиданий с Богом и вечностью.
– Здравствуй, Саша, – отвечала Арина. – Как ты?..
Пахло от него силой, упрямым теплом, крепким холодом воздуха, неизвестностью. И, конечно, была в лице усмешка, – но немного как бы тише, вопросительнее, что ли.
– Я нормально, я в своей колее, и этим счастлив, доктор, ты ведь не за этим позвала меня, а?..
«Нет», – отвечала себе самой Арина.
Он всунул сигарету в угол рта, разжег ее. Слил на воздух первую и сильную стрелу. Никотин вылетел и погас нитяной белокурой торпедой.
– Я – в системе. Мне не соскочить. Да и не могу. Нет замены гере, нет, понимаешь... Нет другого рая – для меня.
– Саша, ты не пробовал жить «скучно»? Иметь постоянную работу, друга хорошего, семью...
– Я?? – Кондратьев скорчил гримасу. – Лучший мой друг – это я сам. – Сказал через зубы, не вынимая сигареты. – Кто не с наркотиком – тот мне не друг... С тем мы говорим на разных языках. А те, кто сидят на кайфе – тем я не верю тоже... В любую минуту подставят, заложат. И придавят, если что не так.
Он приблизил к ней лицо, прошептал очень ласково. Отведя сигарету в руке:
– Если выйти из их круга. Перестать давать им – барыгам и дилерам – наживаться на себе… Понимаешь меня, доктор?
Она все понимала. Этот мир…
Мир Кондратьева, мир таких как он. Этот мир не имеет принципов. И, прежде всего, казалось ей, – принципов любви. Кристалл наркотика для них – безотказная религия и наилучшая любовница. А для барыг они – ребята, девочки, – пыль и мусор, способ накачать деньги. Машина по отсосу денег.
– Чем я могу помочь тебе, Саша?
– Помочь?.. Мы разве не выяснили в больничке – что ничем? Доктор, я не начал подростком, я сформировался. Все это было сознательно. И вытаскивать меня – неблагодарная работа... Можно только упасть, со мной вместе. Ничем, Арина Юрьевна. – Он похлопал ее по руке.
Арина не могла решиться. Перебирала варианты его – Кондратьева – реакции, и то, как она ответит на возможные издевки его, и приставания, если там что…
Наконец превозмогла.
– Саша, скажи, ты мог бы… Помочь мне достать что-нибудь из кайфа.
Что-то в ней заколотилось, холодком задышало, задрожало солнечной дрожью. Внезапно запотели ладони, подмышки. – Мне нужно что-то… чтобы отключиться.
Кондратьев усмехнулся, перекинул сигарету – из угла в угол – во рту.
– Ого! Доктор, да вы радуете меня… Какая резкая и славная перемена курса. Что-то случилось?.. А чего, медицина не может себе выписать рецептик?!
Это был тот же Саша – честный, циничный, изломанный.
– Медицина может многое. Но не может всего... Пожалуй, я пойду.
Арина поднялась, Кондратьев перехватил ее за пальцы.
Черт, и это было первый раз – пальцы – у них.
Арина не знала, что у него такие упрямые, дикие – серьезные – насмешливые пальцы. Как пожатие радости, которая кончится через вздох.
– Сын? – спросил Кондратьев коротко.
– Ты откуда знаешь... – В изумлении сказала Арина.
– Мне Кудыкин рассказал.
– Да. Шурик. Сын... Знаешь, я вижу сны. Их трудно переносить. Они не уходят. Саша, мне нужно вырубить себя из реала. Хотя бы раз…
– Хорошо, давай. А что бы ты хотела…
– Мне нужно что-то. Что обычно принимают в начале?.. Вот ты сказал: «медики… сами». А я не умею даже подделывать рецепты! Для меня это – петля. И я даже спиртного не пью... Только шампанское, три-четыре раза в год. И кроме кокаина – тогда, единственный раз – я не пробовала ничего.
– Смотри, ты подсядешь. Нужны будут деньги... Раз от разу все больше.
– Я не стеснена в деньгах. Муж полностью меня обеспечивает. Не подсяду... Мне только раз. Ну, пару, может.
– Вот, вот. «Пару». А за парочкой – десяток... Но я не против, я молчу! нужно так нужно. Здоровья, я так вижу, тебе не жалко?
– Ты что, не понял – мне один раз... Просто – раз. Снять напряжение.
– Хорошо, тогда давай попробуешь буту… Кислоту, может. Потом, ну… догонимся чем-нибудь. Это для старта.
– Давай. Ты только скажи, сколько взять денег. Какие расценки.
– Ну, пару тысяч возьми. Там – как пойдет... Это на круг.
– Где ты передашь мне? здесь?
– Я приглашаю к себе… – отвечал Кондратьев. – Я живу с бабушкой. Только давай ты не будешь – там – исповедовать меня, как я дошел до этой моей жизни. С богатым папой и элитной бабкой, державшей за руку Барышникова. Почему я каждые два месяца меняю работу. Не имею семьи… Дую в вены всякую срань. И почему один раз я сп** дил у бабушки серьги (а ты думала). Когда нечем было перекрутится. Воздержимся от исповедей, ага?..
– Воздержимся, – сказала Арина. – И еще: я могу только в субботу. Я учусь и работаю. Больница выматывает меня. Вдобавок, ночами я пишу. Работу тоже... Большую, научную. О наркоманах.
– В субботу? Отлично! О, так я же – плацдарм для изучения. Опытный, так-скать, экземпляр... Опробируешь меня. Ага? Или – я те…
– Ты не экземпляр. Ты – трепак и клоун. – Арина поднялась со скамьи.
Кондратьев не слушал – он щелкал телефон.
– Давай назови номер мобилы. Я тебе скину адрес эс-эмеской.
Назвала. Условились на десять утра в субботу. До метро он ее довел, а по пути трепался и дважды – легко и беззастенчиво – брал Арину за пальцы. Присваивал ее пальцы себе.
Полдня еще оставалось у Арины незанятых, и она поехала к Шурке на кладбище.
. . .
В принципе, рассуждала Арина, – Кондратьев, наверное, встретит ее по-кавалерски. В постиранной рубашке, свежих штанах. Разве что не с цветком в зубах… как там еще женщин встречают.
Когда она позвонила в дверь, он открыл ей через полторы минуты. Неторопливо открыл, в общем.
Глаза были у него мутные, он качался.
– А! проходи… – Он был уколотый.
Жестом он указал ей на крохотный пятак прихожей. Арина надела мягкие войлочные, наверное, бабушкины тапочки. Огляделась. Теснота, хлам и длинный коридор, потолки с темнотою и пылью, коробки на высоком шкафу. Резко пахло коммуналкой. Они прошли небольшую раскрытую комнату – два арочных окна, кушетка, стол и книжные полки. Накидано там было не пойми чего.
– Это вот моя нора, – кивнул туда Кондратьев. – Пойдем, у бабона отметимся…
В другой комнате – дальше по коридору и большего размера – стены были покрыты картинами и эстампами, стояла оттоманка, буфет, телевизор, пожилое фортепьяно «Красный Октябрь». За круглым столом, посередине комнаты – под желтым абажуром – сидела бабушка. Она раскладывала пасьянс.
На окне росли и ветвились калеки-растения, какие бывают они у глубоко пожилых. Вроде бы здоровые и нормальные, но каждое с каким-то увечьем, – мумифицированный лист, песком подсохший стебель, опавший мертвым птенцом или насекомым цветок.
Бог весть когда и кем протертые поддоны. Среди растений белелся кувшин с водой, старинный, с надутыми, как щеки лебедя, боками.
Дарья Кондратьева имела два высших образования, цистит, болезнь суставов, две изданных книги, множество учеников и публикаций, обветшавшие связи в культурной среде Петербурга и 91 год от роду.
Кондратьев взял Арину за плечи и втолкнул в свою комнату. Подтащил стаканы с кухни, бутылку воды, извлек из шкафа пакетики с чем-то толченым.
Арина отдала деньги, Кондрат сунул их в карман джинсов. Никакого миндаля он не выказал – точных подсчетов, сдач и тд. Деньги разумелись.
– В венку будешь? – спросил он, как спрашивают: «чаю или кофе». Запер дверь на шпингалет.
– Мне нельзя колоть. Артем увидит руки. – Отвечала Арина.
– Ну, «один раз – не пидорас»…
– Один раз – это м н о г о раз после.
– Ты права. Ладно. С венками позже тогда.
Кондрат что-то бодяжил в стаканах, потряхивал, взбалтывал по кругу, – Арина не следила за технологией. Спидбол – кажется, так называется это. Она секла в арго наркоманов, но арго был подвижен – обрастал, как плющ, дикорастущими словечками.
– Ну, как живешь? – спрашивал Кондратьев Арину. Продолжал размешивать, сравнивать, отмерять, добавлять. Протирал стакан пальцами, вертел им, брал на просвет.
– Ты думаешь, я скажу тебе: «айм файн»? – отвечала Арина. – Ошибаешься. Я не живу айм файн. Я живу плохо, Саша Кондратьев…
– Сюжет знакомый, – отвечал он. – Знаешь, помню, раз – я болел. Аж целых три недели! Валялся в четырех стенах – ужас был тогда для меня. Едва дождался, когда на улицу разрешат нос показать. И вот когда показал – после – я понял: НИЧЕГО не изменилось!.. Только птички пели громче, потому что гнездовались. А мир вращался точно так же. Он не заметил бы, если б я не вышел еще сто лет... Никто не ждал меня, Арина.
– Тогда я понял первый раз, – продолжал он. – Мир бесстрастен к тебе как к единице. Мы все ждем, что кто-то ВДРУГ посмотрит на нас… Оценит нас! сделает к нам шаг. Полюбит нас и не предаст. И – будет в нас верить. Верить!.. Арина, я готов был горы свернуть за того, кто верил в меня! И что, в результате, нашел? Измену, обман, равнодушие, ложь, гуттаперчевые души паяцев…
– Я понял дальше! Жизнь внешняя – это параша. БОЛЬ. Предательство, равнодушие, насмешка, страдание… Юзание друг друга под маской дружбы, любви. А больше – в целях комфорта, морального удобства. Люди присасываются друг к другу как инвалиды – встречаться, жить вместе, обнимать тела друг друга, кормить тела тостами по утрам. Размножать их... Следить ревниво, чтоб не размножались с другими. Создают отдельно взятый рай на тридцати квадратных метрах. Но рай живет и существует ТОЛЬКО внутри… Жизнь души – вот единственная ценность. А все, что вовне – говно в шоколадной обертке. Пустопорожний спектакль. Реальная жизнь дерьмова, Арина...
Сашка растряс бутылку, оценил консистенцию и остался доволен.
– Живешь, – отвечала задумчиво Арина, – и не думаешь, что счастлив... Так – день за днем. А посмотришь назад – после, потом! – и видишь: да это было попросту блаженство. Маленькое чистое блаженство. – Он помолчала. – Я поняла тебя, Саша. Все бы ничего… Но только для своей души – ты убиваешь свое тело.
– СВОЕ, Арина! – Кондратьев ударил себя ладонью в ключицы. – Я никому не делаю вреда. Никого не трогаю, никому не лезу в душу... не порчу тоже никого.
– И все-таки... Считаю, что жизнь – это счастье. – Как зомби ему отвечала.
– У тебя сын умер… счастье!
Лицо Арины помертвело. Свет соскочил с ее лица – точно задернули занавеской окно. Она сжала пальцы, впилась в плед ногтями.
– Он у меня был, – проговорила с трудом. – Я его ЗНАЛА! Я видела эти глаза. Эти руки! Я держала их – в собственных руках... Я слышала стук его сердца. – Губы Арины задрожали, затряслись. – Бог надел его тело, и обнимал меня – ИМ. И если он перестал обнимать меня через ребенка – значит, он мне готовит что-то другое. Он обнимет меня – иначе!.. Через другое тело и другие глаза. – Арина напряглась, смотрела в одну точку. – Ему знать лучше, к а к будет лучше для меня. Для моей души, ее роста… Моего развития! блин, иди к черту, я ухожу.
Волной она поднялась с кровати.
Кондратьев – коротко – влепил в ее плечи обе ладони. Неторопливо к себе повернул.
– Арина!
– Арина, прости. – Задержал в руках плечи. Отпустил. – Я сволочь, уебанец. – Стоял, кусая губы. – Но я не всегда был таким... Я был честен! я верил. Я страдал, черт, веришь мне, Арина! это дорогого стоит... Я на этой вот шкуре знаю – ч т о такое страдание.
Он сгреб свой ворот, тряхнул. Сел – мешком – на койку.
Арина опустилась рядом, совершенно молча.
– А знаешь, почему все?? – продолжал он. – Потому что мир – суки… Потому что в этом мире все тебя предадут. Только кто-то тихо и не палится, кто-то громко и с вызовом, что прав. Скажешь нет?!.. Знаешь, если бы меня еще раз спросили «за что», – я бы ответил: за то, что по натуре человек – блядь. Мужчина тоже, но особенно женщина!..
Он сжал зубы и свел в единое пальцы.
– Да! я нашел мой рай – в гере. И это есть мой наилучший роман. Я честно плачу за это, Арина! Мозгом… Жизнью, кровью. У меня раздерганы нервы, мое здоровье сыпется. У меня бывают гонки... Меня режет и глючит. Ужасы давят меня. Бредовые мысли разнимают на части.
– Но у меня есть высшие минуты, – Кондрат взглянул на нее резко. – И это такой экстаз, какого ты во сне не можешь себе представить... Я продал жизнь – за эти минуты, ты понимаешь меня?
Он отвернул лицо от нее, окунул глаза в ладони.
– Понимай меня, Арина. Не говорю уж – люби.
– Я хочу помочь тебе. Но как?..
Он молчал, глядел перед собой.
– Никак. Может быть, просто – не суди.
Он взялся снова за бутылку, двумя взмахами докончил разбалтывать. Разлил на две порции.
«Пей». – Протянул ей стакан. – «Что это». – «Пей, не спрашивай. Ты расслабиться хотела. Растаешь как сахарная вата на солнце».
Он включил магнитолу. Ударом пальца послал в эфирное путешествие невидимый CD. «Билл Каулиц. Том Каулиц. Токио хотел». – Так и сказал Арине «хотел». – «Немчики забойны по части вокала. Эти младенцы особенно».
Младенцы, точно, забивали. Арина слушала, потягивала из стакана коктейль. Кондратьев пил и посматривал на Аринино стройное тело, на ее ногу, качавшую в такт музыке носочком туфли.
– Потанцуешь? – искоса спросил.
– Бабушка ведь услышит твоя.
– Что услышит бабушка? Как мы танцуем?.. Моя Даша – лучшая бабка во вселенной. Она сюда не войдет, – даже если мы на вот этой люстре трахаться начнем. Да и на ухо она туговата…
Неплохо для первого раза, подумала Арина. Но чего ожидала она, раз сама пришла сюда…
Пришла – расписалась в доступности. И здесь уж не лги самой себе, Арина Юрьевна.
Она молчала, глядела в одну точку – точка мутнела и расплывалась.
Арина отекала глазами – Кондратьев казался ей ангелом, ненароком испачкавшим крылья в гудроне, – руки, ноги: все человеческое, а крылья – ангела… – гудрон вязко капал с пуховой чешуи сашкиных перьев.
Кондратьев замедлился, он залип и завис – его взяло с пойла тоже, хотя он без этого был накачан. Он глядел в аватар арининых щек, татуированных нежностью.
– Как ты? Получше?
Он засмеялся, ему полегчало – наркотик пробил кровь.
– Расплетешь свою косу, ага?.. – Сказал ей слегка подтопленным голосом. – Я хочу посмотреть. Ну, чего ты... Давай.
Арина развила – запинаясь фалангами пальцев – белые, как неотбеленный хлопок, волосы. Наркотик укладывал ее в горизонталь, она вытянулась на сашкиной койке, – койка казалась плотом, текущим в софитами слепившую вечность……….
…………………
«У меня в голове облака, а не мысли». – «Тоже». – «Я хочу чистого снега... лицом зарыться. Тронь меня, я жив?»
Откинул, бережно, руку ей на грудь. Тронула. Был жив – как уходящее небо. «У тебя рука такая белая и с сеточкой», – сказала ему. – «Сними. Она такая безобразная».
Слил исколотую руку с груди. – «Тогда ты положи мне. На живот... Свою щеку. Я почувствовать хочу. Не так... Рубашку задери». – Арина смяла его рубашку, заголила пупок. Сползла к нему, примкнула щекой. Затихла, слушая его пульсации. Жизнь билась в его животе слабыми и солнечными сгустками. Нежность за горло взяла. – «Кондратьев, я не могу». – «Лежи так! не убирай»…………..
Остановилось и склеилось с вечностью время.
Поднялись с кровати – нежные как два цветка, перевившие стебли. Он гладил ее, распускал руки. Ворошил ее волосы. Влагал в них пальцы, нанизывал, путал.
– Гнездо кукушки у тебя. – Засмеялся. Подержал ее ворох, короной на голове. Опустил, растрепал. Оборачивал ее шею – признанием пальцев. Легкими, как дождь или свет. Целовал, точно слизывая воздух с ее рта. Едва.
Едва слышно.
Едва.
– Мне пора. – Арина, с мукой, от него оторвалась.
– Погоди, у меня человечек есть один... Щас подбросят тебя домой.
И, выйдя из комнаты, он говорил. «Рома, денежка нужна? Ну, давай ко мне... Мою подругу хорошую отвезешь. Такса как обычно. Часам к пяти давай, под аркой... ага?»
Арину побросил домой в Мурино мужичок на красных, пропыленных – как палатка бедуина – жигулях.
И в квартиру Арина вошла веселая, расслабленная и живая.
– Чего довольная такая?.. Откуда ты? – спросил Артем.
В глубоких карих зрачках ее не заметил расширения. Соцветий нежности. Последышей стыда, загубленной совести, кайфа.
«У меня в «Арбалете», сегодня, – начал рассказывать он…….……. Да ты не слушаешь».
. . .
Ночью Арине снился Кондратьев.
Она не раскрывала глаз, сознавая, что сон, – продлевала ощущение, зарождавшееся в спелом и мятном, как цветочное дыхание, ободе матки. Там заплеталось слабое биение.
Кондратьев вступал в ее сердце, похожее на сумеречный театральный зал, – с багряным бархатным занавесом по краям; – он раздвигал занавес широким протестом распахнутых рук – жестом фашио, гильотиной диктата, – распахнув, Сашка входил так, и стоял, глядя в ее глаза – Аринина одежда истлевала под его глазами……....
Ей снились фантастические картины.
В них был Сашка, – она шла в эти картины, похожие на гаремно-расточительные, иноземные ландшафты кинолегенды Аватар… Арина натягивала стрелу сердца, чтобы отпустить тетиву и пригвоздить Кондратьева к небосводу своей ломкой перламутровой нежности.
Он, безусловно, был ее раб, – еще со времен мезозоя, когда волны заката золотили ее кожу.
Ей снилось, что он шел рядом, повинуясь безгласному щелчку ее пальцев.
Готовый в любую минуту издать трубный рокот, и рыком своего голоса поднять клубы страха на загривке встречного зверя... Ужас зверя дыбился, шкура позади шеи поднималась ершом, мурашки прокатывались по телу зверя укусами москитов. Зверь осаживал лапы, жался к земле тряпицей безвольного тела с горевшими страхом глазами, – а он, вильнув тяжелым упругим хвостом с медной кистью, медленно встряхивал гривой и благодушно смыкал клыки. Выдыхал облачко горячего воздуха.
Там, во сне, они гуляли – странная пара, несоразмерность во всем... Тонкий аист ее фигурки был точным перпендикуляром его остова, упругого как жгут смерча, красивого как свирепое полдневное солнце, – золотоцветный лев с красной гривой, волокнами лучей разметанной вокруг замшевой морды.
Дни вырастали, смешались континенты, темнели ее волосы, завиваемые ветром, сужались от ветра глаза, – черты лица ее, похожие на маску юного бэтмена, обнаруживали в себе что-то сарацинское – махаоны насурьмленных ресниц предвещали бедуинский плач.
Морда льва теряла свой охристый теплый бархат, загар густого ворса мутировал в батист нежнейший кожи, – позвоночник обретал вертикальное положение; он обращался в юношу, до холодной смерти прекрасного, завернутого в хлопок пустынного плаща, с тюрбаном поверх непокорных волос, пятнавших плечи черными кольцами.
Они оба были дети пустыни.
Дети разбойничьего племени, промышлявшего в песках грабежами. Дед их был старейшина рода, отъявленный сорвиголова; отец сложил голову в схватке. Сын не унаследовал от них страсть к скитаниям и бретёрству – он был меланхоличен, нежен, рассеян и хмур. Не скакал по щекам барханов, с ружьем наперевес, не разрывал воздуха сатанинскими гиками. Не гремел сбруей и карабинами оружейного ремня. Не вспахивал пустыню в фонтаны желтой порошковой слюды.
Днем мать и прабабка заставляли ее ткать – вместе с другими сестрами. А вечером он катал ее на старом верблюде, покрытом седой волокнистой шерстью.
Они были погодки, исход семнадцатилетия – глаза их отражали огни и клинковые тени песчаной тоски.
Он был одинок… На закате лежал он спиной на циновке, приручая желтые звезды, а она ложилась рядом. Расправляла складки своего платья, запутывала его пальцы со своими, слегка отняв от своего лица покрывало. Она не стыдилась его – он был брат. Они лежали так и смотрели на звезды. Незаметно перемещала она руку на его грудь, переплетала руку со складками его холщовой рубашки: она ожидала ответа его… Он лежал без движения и только дышал, поднимая свое дыхание к звездам.
И потом он целовал ее рот, – и загибал назад ее голову, продевал в волосы пальцы – простым и точным движением. И совершалось проникновение. Они переплетались – прекрасные, гибкие, сильные. Тела их, горячие как влажный сок каучукового дерева, застывший во времени, походили на двух нежных дельфинов.
Так продолжалось какое-то время.
Пока на загривке его не начинала пробивать горячие волокна шерсть, мешая ее пальцам, – нос хладел и обнажался вдруг влажной темной кожей, зубы вытачивались в форме резцов – раздвигая губы его в безобразную маску, а глаза наливались волчьей нефтью, вытесняя полностью белки.
Завидев испуганные глаза ее, с пятнами страха – ее оторопь, острую как под горло воткнутый кинжал, зеленый ужас зрачков ее, – он отряхивал шерсть, тяжело поднимался и уходил по-звериному молча. Оставлял горькие, гордые следы на песке, – вогнутые пятилистые цветки, которые путал ветер, постепенно занося их песчинками, погружая в эти выемки тонкое пение воздуха.
Она оставалась облегченно и бесполезно плакать в обе ладони.
На плач ее приходил сын Шурка – закутанный в бедуинскую простынь: рыжий, маленький, с отцовским пистолетом за веревочным поясом. Закопченный солнцем, до бронзы целованный ветром. Целомудренный как осколыш сердолика. Он говорил ей: «Мама. Шурка – это Я!.. Ты любишь МЕНЯ». ……….. Арина стыдилась. Она запахивала свое пустынное платье, она пыталась привести волосы в порядок. Чувствовала, что на ней нет белья – там, под ее покрывалом. Задергивая вуаль, она отрезала глаза, – от нежности рта, куда целовал ее Кондратьев.
…………………..
– Кукуня, что-то снится тебе? Эй, проснись. Ты зубами скрипишь...
Артем будил ее, разворачивал к себе. Дожидался едва раскрытых глаз. «Чего ты? Шурка снова?..» – «Да». – «Ты мое бедное», – шептал он, и облекал ее бедра в свои. Твердел сам и угнетал ее живот – скольжением нежности. Кусал ее рот и гнусно мял одеяло. И она едва успевала вспомнить о капсуле.
Кончался май, – в небо уходила и гибла тихая недвижная весна, не надорванная ветром – чудесной своей леностью воздуха напоминавшая такую же прозрачную ясную oсень: двенадцать лет назад.
...
Тогда стоял замечательно теплый, пронизанный таявшим солнцем сентябрь.
Медленно и замирающе – сваливались, ложились тонкопало на воздух – отекали к земле – слегка пергаментные листья. Очень медленным и очень разреженным дождем. Солнце вылизывало парты и утомленно повисало на прямоугольниках окон. Учебники хрустели от новизны.
И в класс Кукиной Арины, 5-й б – пришел новенький. Феноменальный новенький, чтобы не сказать больше. Прибалт по отцу – фамилия Адулас, рыжий как кора горящего дерева. Огромный, как показалось Аринке. И ей почему-то подумалось тогда, что он второгодник.
Артема посадили с двоечником Рудневым – наверное, чтоб уравнять потенциалы обоих.
Мальчишка оказался яростный хорошист. Иногда он краснел и резко заикался, а еще он превосходно бился на палках и раз в неделю ходил драться к серьезным взрослым дядям – в рыцарский клуб «Камелот». Он был выше всех в классе, неуклюж и беззастенчиво белокож. Авторучкой он рисовал в тетрадях фантастические персонажи – драконов, кельтских воинов в шлемах и плащах, ладьи викингов – лонгшипы и драккары. Еще мечи, эфесы, прихотливо кованое оружие, современные пистолеты.
Четыре года он и Аринка существовали в одном классе элегантно и порознь. Аринка называла его не иначе, как «этот оранжевый». И особенно в спину – когда тот не мог обернуться и дать по ушам: «Вон пошел Жуткорос Кипарисович Телебашенный».
Артем был застенчив так же, насколько огромен. И даже шариками из бумаги в нее не пулялся.
А трудовой лагерь под Лугой, на исходе девятого класса – свел их заурядно и просто.
Случайно, Артем пропорол гвоздем руку. А, в общем, нет! не случайно. Просто игрался – мальчишески – лихим своим жеребячеством. Таскал ящики с овощами, закидывал их на самый верх штабелей. Ящики ложились идеально. Артем играл ростом, играл мышцами, играл глазами и всем чем можно, и получал от этого истинный кайф. Пока один из ящиков не пропорол на его запястье серьезный рваный рубец. Рука же осталась цела. Не зря, при переноске, надевают перчатки. За перчатку гвоздь и зацепился. Было не столько больно, сколько странно видеть столько крови на плетеной белой ткани...
У кого-то нашелся носовой платок, им пытались обвязать руку. Платок оказался гораздо меньше, чем кисть руки, – кровь лилась и лилась, капала на рабочие штаны. Артем припустил в сторону медпункта.
– Ну, чего случилось у нас? – спросила Артема сходящая с крыльца медпункта медсестра.
– Да вот руку! гвоздем… И, ржавым, похоже!
– Ого! да сильно у тебя… Ну, ты проходи. Там обработают тебе.
Сестра ушла, и Артем взбежал на крыльцо, зубами разматывая с запястья носовой платок. В чудесной и сильной горячей крови. В избе сидела Аринка и почитывала книжку. Шлепала мух, садившихся на коленки.
– О, Кукина. – Артем перестал рвать зубами платок. – А ты че делаешь здесь?..
– Помогаю убиенцам... Таким, как ты, – отвечала с сарказмом Кукина, откладывая книжку.
– Круто. Моя тебе уважуха…
– Ну, присядь. – Указала ему на колченогое подобие стула.
Артем повалился на подобие. И Кукина промывала и терзала нежно его рану.
У нее были легкие пальцы: как лепестки или слезы левкоя. Коса была похожа на выкинутый на спину невод – запутанный, многослойный. Но йод Адуласа все-таки доконал. Он дернулся, чтобы не заорать и не выдрать руку из аринкиных пальцев. Задуть очаг возгорания. Затрясти кистью – точно вспыхнувшей ветошью.
Колени их встретились. И Артем он впилился в аринкину ногу.
– А противостолбнячную введешь?.. – спросил, закашлявшись, он. Коленки Кукиной были красивые и круглые.
– Неа! – Смеялась. – Дождусь первых симптомов. Красных глаз там... Или температуры.
– Ржавый же гвоздь, – сказал Артем. – Че, даже руку мне не спасешь?
– Да на что мне она? Спасу, а ты – лапать начнешь... Ну, я подумаю.
– Вот чуть что – сразу лапоть... А мы из городских! вот как есть, из городских, – отвечал ей пародическим голосом.
– Да у тебя и с юмором в порядке...
– Дак и не только с юмором.
– Слушай, а тут глубоко. Давай еще раз йодиком, а?
Артем полез на стены, – он улыбался стенам мужественно, как Сергей Лазо в топке паровоза. Безобразно громко скрипя зубами.
– А ты чего… во врачи собралась? – спросил он, чтоб не заорать.
– Ага. Доктором по головушке, – отвечала Аринка, закусывая кончик бинта.
Она перехватила бинт – с ловкостью удава, захлестнувшего кольцами свою жертву; перетянула запястье Артема кандалами узелка.
– Это кем?
– Психиатром.
– Зачем...
– А я мысли читать умею. И будущее знаю. И вообще – я ведьма.
– Ну, и о чем я думаю? Ведьма...
– Ты-то? – оценила его глазами. – Так это ж, ватсон, элементарно... «Вот дура Кукина, выставила коленки, еще и психами интересуется – а глаза красивые у нее, что за гадский гвоздяра, на дискотеку бы ее позвать».
– Ну, ты, – только и нашелся, что сказать Адулас. – Да нафиг совсем!
– Вы свободны, Га Ноцри. Ваши стигматы больше не кровоточат!...
Артем скатился с гнилых ступенек медпункта с ощущением, что получил носком ботиночка в солнечное сплетение.
А потом была дискотека.
И, конечно, круче и серьезнее всех танцевали гопники и оторвяги: десятый и одиннадцатый класс. А еще, в клуб навалила местная гопота – с глазами и рожами малолетних рецидивистов, чуть-чуть не в сапогах на дискотеку пришедших. И все они – попеременно – выбирали Кукину Арину. А танцевали под треки столетней давности, из которых единственно сносными были Basic Element и А-ha. И Артем подошел к Кукиной и сказал:
– Ну че, пойдем пообжимаемся?
– Пойдем.
И они танцевали под этот дешевый дискарь. И было неловко и темновато, потому что Артем был высок и велик, а Кукина ему годилась подмышку. И он задевал подбородком макушку ее, а потом, в конце, когда дали тьму – наклонился и смазал губами в краешек ее рта. И Аринка странно улыбнулась.
– Ты как – может, сходим в кино? – спросила она через день. – В клубе какую-то ботву офигенную крутят, пойдем оторвемся…
– Ага, давай дернем, – отвечал он.
Кинофильм был первоклассный, назывался «Авиатор».
Выйдя на волю, они ржали как кони Пржевальского. Над режиссером и сценаристами. Сюжетом и кастингом. Над беспримерным героем ДиКаприо... Строившим острые и гневные, разящие – как фатум – самолеты. Горевшем в этих самолетах. И, видимо, от переизбытка CO-2 сошедшем все-таки со своих героических салазок.
Все удовольствие обошлось в полста целковых на двоих, потому что Адулас просочился без билета. И еще – два часа кряду они держали друг друга за пальцы.
Пальцы – не грудь, понимаю. Но это был большой уже прорыв.
Назавтра Артем Адулас вовсю разворачивал плечи, кидал на меже ящики, бесперебойно оттаскивал ведра с травой – все это одной рукой. Всех доставал, задирал и мажорил, как и положено влюбленному человеку.
Друг его, Руднев, сказал ему: «Артюха, ты чего, врезался в Кукуню?..»
И получил кулак под самый нос.
А потом, с поля, все потянулись на обед. А они отстали, потому что Артем заартачился пилить в лагерь стадом. И сказал – я под небом вольным поваляюсь... И Кукина осталась с ним, хотя он не приглашал.
И они лежали в траве.
И бороздили глазами небо, а еще обсуждали любимую музыку, косяки «Авиатора», – Артем рассказывал о рыцарском клубе, Аринка мела пургу насчет своей психиатрии. Артем разбросал свои руки как весла – руки мяли веерно стебли, – вертел в зубах травинку. Волосы его пахли силой и теплом.
– Как рука твоя?.. – спросила Аринка.
Артем потряс ею в воздухе. Бинты его имели вид перчатки автогонщика.
– Да вот, все думаю, оторвется или нет... – отвечал ей. Аринка наклонилась над ним на локте.
Вглядывалась в глаза. «Короче, стой, сейчас я все узнаю про тебя...»
«Я как бы лежу», – хладнокровно отвечал. И разинул глаза нарочно и конкретно навыкат. До напряжения склеры и красноты белков.
– Че там видишь? – спросил ее гаденько. Красиво плюнул травинкой. Губу облизал.
Было жарко, и очень. И хотелось ее лица еще ближе. Чтобы совсем стало слышно дыхание. Его беспокоила Аринкина близость, пугали – влекли? – сливовые ее глаза и то, что шло от нее...
И еще, он был в напряжении. И думал, что у нее очень красивая грудь и очень короткие шорты. И что она ведьма.
Аринка отпрянула – усмехаясь криво и магнетически.
– Да ниче. Ну, и будущее у вас, дорогой товарищ…
– Какое.
– Беее. Не скажу… А то забьешь меня левой.
– Умру, что ли, в расцвете лет? – сказал Адулас, переставая таращиться на нее.
– Подсвешником хочешь по голове? – серьезно сказал Аринка.
Он смолчал.
Аринка взяла Артема за руку – перевитые пальцы, ноготь к ногтю, фаланга к фаланге.
Она дышала в них, и его сердце делало кульбиты. Она держала его руку с нежностью хирурга, – не больше, чем было нужно, чтобы он почувствовал, холодный зной в паху, слабые сжатия нежности, прокатившиеся по узлу его тела серфингом сладкого и медленного испуга.
В холодном ознобе, он глотал свое сердце, а она высвобождала его от майки. Он дотянул майку с торса – крупно, неловко, зацепившись за пуговицу джинсов – и просунул ее под аринкины бедра, чтобы не было колко...
– Ты не б-бойся только, ладно? – он дрожал, успокаивал ее и себя. – Я осторожно все... – Волнуясь, он все еще заикался.
Он знал, что табу любви, натянутое в средоточии ее, – похоже на алое крыло бабочки. Что оно испугает его на мгновение, едва он его ощутит.
Он выдохнет, ресницы поглотят упавшее в ее зрачки солнце – и он сделает короткий толчок бедрами, точно и коротко, неожиданно, остро – и провалится в тугой и тесный вакуум. И тот ожгет его красотою. Его накроет, и сердце забьется в солнечном сплетении, подсасывая медленно и скатываясь в пах………..
Никакого табу не оказалось в помине. Но это даже не было важно.
Адуласа затянула глубина, ему было страшно аринкиных глаз – они топли и тонули в его взгляде. Они звали и закрывались, давали ему карт-бланш на все, молили, поощряли, оправдывали, плакали. Ей было странно и что-то неясно, – он видел и не хотел этого видеть; он закрывал на это глаза. Его затылок палило падавшее солнце, ворошило сильное и влажное небо. Трава шеборшала горькой стихающей прелестью.
А после – он гладил Аринку, ронял тяжесть рта на незримые лунные рубчики кожи, на завитки волосков, каждую гладь, и каждую впадину……..
И было грустно ему оттого, что в ней побывал уже кто-то. И кто бы ни был он там, думать об этом Артем не хотел.
Зачем.
Обратно в лагерь они шли молча, – Аринка впереди, он сзади; он был почему-то ужасно счастлив, – все тело была одна музыкальная фраза – наверное, джаз; ноги шли легко и гибко, руки были нежны – хотелось ближе к Кукиной прислониться, прижаться еще, хотелось еще окунуться, опять почувствовать запах, кожу – близость ее грела… Артем не знал, куда девать себя от ощущений.
Они шли, – и в носовом платке, вложенным Аринкой в шорты, было липко, и она беспокоилась – не протечет ли влажное до пятна. Потому что были светлые шорты... И была еще нежность: к этому красивому нелепому мальчику. И, наверное, она бы пошла за ним на край света – если б край света кончался Петербургом.
Лето кончилась как оборванная кинолента.
На месяц они разъехались – ни одного звонка, ни письма. Аринка писала ему, но мяла и рвала. Артем не писал и не рвал: околачивал балду у московской тетки.
А потом – осенью, вдруг – нечаянно между ними выросло что-то. И это что-то, накрыло тогда неокрепшие их души.
Дети решили, что сказка возможна: они играли взрослые партии, они не продвигали фигур – локтем, на клетках, – не держали тузов в рукаве; они доверились друг другу. И мальчик, выросший без отца, вдруг стал опорой и тылом для стыдливой и насмешливой девочки. Ему понравилась новая должность. Янтарный мальчик со щитом бойца ливонского ордена.
Аринка залетела в предвыпускном классе.
Денег на мифегин у них не было, а с вакуумом они опоздали. Артем, с колотьем в душе, признался матери; та – посидев молча на стуле (полчаса прошло, должно быть) – дала им денег на прерывание.
Аринку вычистили в каком-то левом роддоме. Отслоили ей что-то, при этом. Воспаление было жутким: ее ломало и крючило. А врач потом сказал – девочка, вот с детьми теперь навряд ли...
Как она плакала об этом нерожденном, неизвестном ей рыжем – об этом знал только плюшевый медведь, ее камрад с трехлетнего возраста. Артем покорно слушал выговор матери, – на хрущевской кухоньке величиной со школьную географическую карту мира.
На первом курсе они поженились.
Артем целовал Аринкины пальцы, и риски на сгибах ее фаланг казались ему зажившими порезами от ножа, – воткнувшего ее плоть под его сердце. Все было так.
В загсе на Аринке было то же платье, что на школьном выпускном: тонкое шелковое, цвета шампанского. Из гостей – обе матери, Аринкин «воскресный» отец да кучка необщих друзей. Помпы не было. Как и два года – детей после этого.
И был как-то день – обоим тогда было по двадцать – когда все у них складывалось идеально.
С утра они купались в Озерках, трубить до Кавголово им было лень, – ловили караты первого летнего солнца, потом они пришли домой обедать: усталые и сильные как два тонких зверя, и Артем кормил Аринку с вилки картошкой. Ночь была прорезана чистым жестокосердием нежности.
Наутро царевна Будур пожелала помыться (из жизни вычеркнуто сорок минут). Артем варил кашу и кофе.
– Графинюшка!.. не желаете кофею? – спросил Адулас, просовывая голову в ванную. – О, нет! промашка. Кофеек подождет.
Кофеек ждал, закисая, на плите, рядом с сыром, поднимавшим обветренные крылья. Пока Артем отмерял для своих рук маршруты движений, задевал плечом дверь, нарушал недолговечную порядочность простыни...
И вот, кажется, в этот день соединились их клетки – по крайней мере, Артем Адулас тогда все сделал для этого.
Аринка раскрылась ему. Ее питательные емкости, русла, цветущие жертвенной кровью, ожидали его дар. И он исторг в них, спазм за спазмом – белоглазое заплаканное солнце. Капли кишели тысячелетней любовью. Аринка приняла их. Она позволила восстать им – в ней – и оголтеть от жажды цели.
Артем выдохнул и затих, точно как выброшенный на берег тюлень. И потом он целовал ее ушки, ее щеки – в надежде, что зацепится хотя б одна его микроскопическая жалящая клетка – за ее ворсистый женский неповоротливый шарик, вытолкнутый ее организмом в путешествие по трубам…
Ночами царевна Будур продолжала просиживать за письменным столом, завесив лампу полотенцем. Она писала работу о наркоманах.
Артем ворочался, скрипел матрацем, щурил глаза, растирал их пальцами. Подымал голову, он видел профиль жены, кусавшей губы, листавшей статьи и циферки, бегавшей пальцами по клавиатуре ноутбука. Снова рушил голову на подушку.
– Миноносец «Неспящий»… Спать ложись, сердце сорвешь.
– Я фигею, Артемка... – шептала Арина. – Я вижу причины, ПОЧЕМУ. Что ими движет. Я – изнутри. Ты понимаешь?.. Я понимаю, как если бы я ТОЖЕ.
– Ох! не дай тебе «тоже», – отвечал, Адулас, засыпая. – Мне б с тобой и такой справиться. Без тоже.
Когда тест показал две полосы, Аринке показалось, что она бредит. Артем орал как индеец чероки, звонил друзьям, полошил и брехал про свое счастье, – Аринка не могла его остановить.
Беременность она не носила – лежала. Доползала до санузла, выблевывала в каолин унитаза желтоватые остатки желудка, обтирала лицо, за стенки и углы передвигалась обратно. «Мальчик», – констатировала свекровь, Артемова мама.
Сын Шурка родился через кесарево сечение: у Арины было слабое зрение.
В год Шурка был рыжий как солнце Марса. Совершенно безбров. Белые ресницы и синие глаза – калька с Артема, уменьшенная вчетверо. Глядя на собак, Адулас-младший хохотал как помешанный, глядя на бабушку – принимался буянить. Аринкин палец на прогулках Шурка зажимал кулачонком – точно викинг свой излюбленный меч.
В год он жевал и мусолил яблоки, выдирался с горшка и утяжелял памперсы добросовестным бойцовым трудом. Словарный запас его содержал пять слов: «Агтем», «Агиша», «мудык», «водай», «нигачУ». Мужиком он был с пеленок. Отдавали ему все, что он просил. А не хотел он всего, что ему пихали в рот на ложке.
Артем закончил юрфак и ушел работать в салон оружия «Арбалет».
Платили там хорошо – Артем поднялся, деньги завелись. Аринкина мать жила тогда с ними, помогала по мере. Аринка бегала учиться, академический не брала. А потом учеба закончилась. Аринка Адулас получила свой красный диплом. И ей остался – только дом.
Шурке стукнуло полтора года.
Четырехстенность, перегрузки ухода и одномерность быта сыграли с Аринкой свою необходимую ритуальную роль – она восстала. И сказала, что идет работать. А Шурочку она записала в ясли. Артем фыркал целый день.
– Зачем в ясли так рано… Топтыгин малой. Ему мамка живая нужна, а не тетка в фартуке, – с горшком, песочницей, бибиками и кашей. Ни один твой упоротый нарик не стоит волоса с Шуркиной головы!..
– Я не поэтому, Артемка. Меня заели четыре стены… Я тупею, я не вижу людей. Мой интеллект к нулю катится. И еще – я работу доделать хочу. Про наркоманов… Это важно для меня. Это смысл и цель... Помочь этим людям.
– Помочь – КОМУ?.. Объебосам и анашистам? У тебя сын грудной, об этом ты думать должна! Собственного ребенка растишь, пани доктор... Это так, между прочим. Нового человека, извините, вселенной. Некстати – полностью зависящего от вас. Задумывались над этим, хер айболит?
– Дурак.
– В общем, ты поняла меня. Я против... Что выберешь – на твоей совести будет. Но только ты ребенку нужнее, чем твои алконавты – тебе. Никто из них спасибо не скажет...
И Аринка сделала выбор. Наркоманы тоже ее волновали – она продолжала писать о них.
Забивала компьютер статьями. Черновиками и фотоснимками, от которых передергивало Артема – лепрозорий казался после них лучезарным пансионатом и побережьем Сен-Тропе.
Брусникин ждал ее, – она приглянулась ему еще в институте.
Шурика отнесли в ясли.
Три дня Адулас-младший орал в яслях без продыху. Он достал всех.
Он закатывался трубным воем – голосовые связки были каленые, как полагалось связкам наследника двухметрового прибалта-отца. Артем забирал его полуслепого и красного от рева. Последним из всех. Аринка не успевала к шести из больницы, он срывался из «Арбалета» и гнал тойоту через полгорода: к детсаду «Журавленок»…
Шурка протестовал, что взрослые нарушили его миропорядок. Вторглись в устойчивость его безызъянной вселенной. Матери больше не было рядом, а те часы, что она была, никак не вмещались в понятия Шурки о счастье...
Арина нервничала на лекциях и дергалась в больнице, думала о сыне. Прибегая домой, она схватывала Шурку в охапку, целовала его щеки, поднимала на руках в потолок. «Мой свиненок! топтыжка…» – твердила она, улыбаясь как подсолнух в мультфильме – во все щеки. Шурка лепетал, щерил мордочку и прилеплялся к ней как клеящий карандашик.
Укачав ребенка, Арина закидывала в стиральную машину ворох бельишка. Запиралась с книгой или пачкой медсводок в туалете. Сидела там до первой звезды. Артем качался на стуле, засыпая. Выходя, она восклицала:
– Артемка! факты еще… Быстро поджигай ноубук. Да скорее, мне мысль пришла!! Вывод века, срочно.
Артем подчинялся, втыкал в сеть машинку, освобождал стул от барахла. «Ага, – очередная планетарная находка из жизни наркоманов...» Шел спать, закрывался с головой скафандром одеяла.
Артем злился – оттого ли, что он и Шурка были ею, Аринкой, обделены?.. Или к работе ее ревновал? К этим обдолбанным неизвестным парнями – синякам и торчкам; к фиолетовым теткам, которые приходили к ней и гнули душещипательные истории, – о своей загубленной жизни. И которым она помогала.
Артем и Арина ссорились. А по ночам к ним приходило раскаяние. И раскаяние это заставляло содрогаться Артема.
Глаза Аринки покрывались – от раскаяния лишь! – уходившей патиной небытия. Она напрягалась и падала... Она сдавала побежденное свое тело – радостному хладнокровию грешного стрелка… Как забиваемая лань, она делала свой последний бессодержательный рывок к жизни. Пальцы ее чертили борозды на его плечах, и пьяные судороги – подземного свода мускулов ее – говорили ему: Адулас, ты – Бог.
И еще.
И последнее движение. И он доканчивал – принуждая лань – дождевым вздрогом век, – смыкать глаза и откидывать лилейную голову на пригвожденной к бессилию шее.
Один раз Аринка пришла очень поздно: ее задержали в больнице.
И дом, когда вернулась она – был переполнен электричеством раздражения и упрека. Артем ворчал, мазал кашу в тарелке, успокаивал Шурку... Подбирал игрушки. Пахло всепоглощающим детским страданием.
– Ты вообще-то в курсе, что есть ребенок у тебя? – сказал он не глядя. – И муж, как бы, тоже... Но мужа здесь можно в расчет не принимать!
Топтыгин путался посреди игрушек на ковре. Мохнатом и зеленом, как его сопли.
Он заходился плачем, кричал, разевал десны, в крапинах зубов, – живая теплая плоть, обернутая и запакованная в памперс, ползуны, рубашонка из фланели – год и пять месяцев, ботиночки, семь зубов, три слова словарного запаса, уже бегает. Канареечный пух на макушке, легкая зябь, сквозь которую светит теплая кожа, пальчики-слизнячки, постоянно во рту, мокрый нос. Беспрестанный ринит. И голос – треснутый щелью, ничем не смазанной, по нарастающей набирающий громкость, особенно когда недоволен.
Арина подняла его на руки. Положила на сердце. Он присосался ручонками к ее шее и стих. Раззявил рот – полный соплей, облегчения, радости. Он не мог без матери, а мать не могла без него. И это было всем очевидно.
– Тебе мало было интернатуры? – сказал Артем сумрачно. – Училась бы, в ус не дула... Без психов, нариков и прочего расходного материала. А с Шуркой мама бы помогала… И все довольны.
И вот тогда Арина решила – снимаю Шурика с яслей.
Но не успела.
Топтыгин заболел. Допротестовался. Чтобы услышали.
Ведь не сразу услышали. Он покрылся температурой, стал похож на печной шкафчик.
Цветом лица – на раскаленный кирпичик. Его везли куда-то ночью, – в холодной как ледник скорой, кутали в ватное одеяло. В насквозь глухую и спящую детскую клинику на Литовской. В приемном боксе смурной медбрат снимал с них – Артема, Аринки, – данные, заполнял медицинскую карту. Шурку кукожило, пузырило жаром, он хрипел, дергался. «Вы можете побыстрее, – твердила Арина. – Он задыхается». Медбрат копался в бумагах. «Где врач вообще… – чуть-чуть не кричал Адулас. – Где бригада!» Какая ночью бригада…
Пришел заспанный врач, украшенный синяками под глазами, в халате мятом как туалетная бумага. Осмотрел корчившегося Шурку. Велел унести. Арина плакала. Артем был седой лицом как пепел. Он глядел на спину медбрата, уносившего ребенка, и мечтал о порции стрихнина: для кого, зачем?.. Бог весть, разное в голову лезло.
Артем поехал домой – наутро было в «Арбалет». Арина осталась ночевать под дверьми в реанимацию, куда забрали сына.
Она позвонила Артему наутро. Сказала одно-единственное слово.
– Шурочка.
И колокол тишины ударил Артема по глазам.
Вошел в зрачки и смял их в жижу канцелярского клея. Докатился до сердца и пал ниже – в желудок. Там сцепил кишки – скорпионом конца. Ушла и откатилась земля под ногами.
Пятнадцать секунд Адулас сухо рыдал, не зная, что сделать с лицом.
Лицо расползалось в раздавленный пластилин боли и ужаса. Кисель лица нельзя было собрать. Наконец, Артем выдохнул, обтер жесткой ладонью глаза и поехал к Аринке.
За три дня Аринка поседела на два волоса, а Артем, в двадцать три года – постарел на пять лет.
Ее душа перестала отзываться на имя Аринка. Душа изменила лицо. Из черного яйца боли, ломая скорлупу, холодными укусами толчков – вышла новая женщина: Арина…
Вернувшись со Смоленского кладбища, эта женщина легла на кровать и не сходила с нее двое суток. Лежала. Лежала. Лежала. «Я не хочу есть. Не надо мамы. Не трогай меня… Принеси полотенце. Выключи свет». Не сводила пустых брусничных глаз с Шуркиной кроватки. Вдруг разражалась звуками тихого песьего воя. Давила лицо в полотенце. Смолкала снова, закаменев.
Подруги доезжали ее, а Брусникин звал назад, – обещал ей интересные факты и практики.
Артем кружил вокруг нее как санитар. Наконец, он не вынес:
– Ариша. Пойдем погулять…
В ответ услышал ватное, хриплое, безучастное:
– Оставь меня. Я – психиатр... Мне не нужна терапия.
– Тебе нужен кислород.
Артем поднимал ее на ноги, одевал, вталкивал в ее рот четыре ложки каши и чай, выводил гулять, как выводят собаку.
Свое слово Брусникин сдержал.
Ее ждали карточки, и среди них – та – знаменитая карта Кондратьева А.В.
Часть 2.
Кондрат и Арина встречались в субботы. Не каждую.
Когда могла Арина, и когда хотел Кондратьев – а он хотел постоянно, потому что Арина несла деньги. На них они отрывались. Сашка не считал и не взвешивал копеек, и, в принципе, будучи честным до конца, он понимал, что гуляет он – большей частью – на деньги Арины. Наполовину бесплатная ширка, кто о том не мечтает.
Арину влекло туда – ее отпускало от мыслей, стирались сны, легчало бытие и сознание; не знаю уж, что на этот счет трактует марксизм… Одним словом, ей было хорошо.
Артем находил, что она похорошела, – Арина была всегда в духе… Но она тормозила, зависала с ответами на его, Артема, вопросы, вообще с реакцией на него. «О чем ты думаешь?» – спрашивал он. – «А?» – Не сразу откликалась Арина.
– Ты заторможенная какая-то, Ариш...
– Это успокоительные... Транквилизаторы. Принимаю, чтобы расслабиться. Чтоб отпустило немного.
. . .
В одну из назначенных суббот Кондратьев встречал ее с глазами, пытавшимися долго нащупать центровку. Легкий и мягкий как горсть тополиного пуха. Цвет лица его был выжат. Он был – вставленный. Его гребло и перло.
– Шпиганемся?
– Нет.
Арина села на кровать. Положила молча деньги на тумбочку. Кондратьев забрал, едва пролистнув.
– А я догнаться хочу.
Он разогрел на «весле» героин, всосал иглой дозу, подколол себе – зачем, неизвестно. Демонстрировал процесс? убеждал, что нестрашно? Плевал на условности, женщину? Арина отвела глаза от его локтевого сгиба.
– Доктор! одно жальце, ну, для полноты жизни... – куражился Кондратьев, сдергивая жгут, и принимаясь за болтанку питья для Арины. – Нет?
Она смотрела на его пальцы – точно он был Фаберже, Денис Мацуев за фортепьяно или искусный метатель ножей. Смотрела, закусывая губу, и сердце ее ходило в груди как подвешенная гиря, – он видел в зрачках биение ее сердца.
– Я тебе нравлюсь, Арина Юрьевна?.. Мм? – спросил он.
Арина смотрела.
– Что-то новое открывается мне, – отвечала ему. – Мне хорошо с тобой, да. Мне легче с тобой... Я тише и спокойней думаю о Шурке.
Кондратьев дал ей стакан, взболтав чуть больший концентрат, чем это необходимо.
– Вот. Это посильнее. С погружением будет.
Арина взяла.
– Ну, а кроме Шурки. Что-то еще тревожит тебя? Ты с мужем-то как живешь...
– Прекрасно живу. Лучше быть не может. Просто я... Не испытываю разгрузки, Саша.
Арина посмотрела на ногти: – Оргазма, если так проще тебе.
– Что, никогда не улетала от секса…
– Улетала. До смерти сына. Еще как было... До семи раз – не лыбься, у женщин все иначе, мы много раз можем… Когда мы любим. Ну, или думаем, что.
– Вы и думать умеете?.. – саркастически улыбнувшись, вставил Кондратьев. Куда он, без своих пяти копеек. – Извини, это я свинкой болел. А сейчас как?..
– Никак. Кайфово, приятно, классно, но не ОНО…
– Ну, ну. Как это – «никак». Ты живая... Красивая. Ты маленькая и крепкая. У тебя блестят глаза. У тебя чудесная грудь, особенная форма уха... у тебя потрясающей формы бедра и ноги, а значит ты темпераментная, доктор.
Кондратьев помолчал, и было видно, что какая-то мысль бороздит его сознание.
– А хочешь – раз, – он приник губами к ее щеке, – попробовать со мной? – сказал это пристально, быстро. Шептался тесно в ее щеку. – Осторожно, и с резинкой... Твой муж не узнает ничего. Ты же целуешь меня! у меня нет ранок на слизистой. Мы купим самые крепкие презервативы. Экстра контекс... Те, что у пидаров в ходу – жерлом пушки не сломаешь. Мы задушим моего вича, он не вздохнет! И ты такое испытаешь... – Кондратьев отнял щеку. Задержал ладонями Аринину голову. – Я нежный. Я нежный, ты слышишь меня... Это никакая не будет измена. Я ведь – кто? Со мной – ноль перспектив, а значит это чистая терапия. Ты помогла мне, я – тебе...
Арина высвобождала голову из его рук.
– Я не помогла тебе, Саша. Я не смогла ничем помочь. Хорошо, допустим даже, я испытаю с тобой оргазм... Дальше-то что? С мужем все равно не испытаю. Так и бегать к тебе, презервативами запасаясь?.. Ладно, все, поприкалывались, и хватит.
– Ну, как знаешь, доктор!
– Ты сердишься? Я – не женщина твоей мечты, Саша. Не сердись…
– Да мне-то что?!.. Ты чистая? ты преданная, да? Как меня чистые женщины достали! Все-то им «порядочность» нужна. Этика!.. Хирургия высоких отношений! Все врачи такие, что ли?!?
Я не все врачи, хотела возражать ему Арина.
Но не смогла, – голос расплывался в мятный сироп… глаза катились солнцами, сердце взмывало к ключицам.
И потом – уже в кайфе – она понимала, что слегка холодно ее бедрам.
Хотя их крепко держат руки Кондратьева. Держат – разняв полностью, в коленях, ее ноги. И самое мягкое, самое уверенное счастье – ягодной, теплой, растраченной нежностью – роняется, чертит и мажет линзами языка – капает между ног ее: вовнутрь…
– Лежи. – Приказал он, едва отрываясь. – Лежи, я сказал. Лови кайф…
Припал, снова – к чудесным разрезам ее, – выбирал ртом черешневое русло.
Вдруг стал глубоко и бездыханно замедленным. Вымывал и вынимал ее... Задерживал тихие – мертвенно – губы поверх Арининого рдеющего чайного листка. Разлагал ее шаткую совесть.
Его волосы были похожи на оперение ежика. И почему-то снова распласталось сознание.
Взмыло, взорвалось и кануло. И томительно – сжатием, вспышкой и цепью – ударило в самое сердце женского ее средоточия.
– Ку, ку. Ты здесь?.. Очнулась! Ты что будешь, я спрашиваю, – молоко? воду?.. Нам скоро ехать – восьмой час уже.
Кондратьев был совершенно одет. А, похоже, и не раздевался. Аринины трусики валялись на полу – молочной мятой горсткой кружев.
– «Кука» – так муж меня зовет…
– Просыпайся, Кука.
– Что такое ты дал мне, что так вырубило меня?
– Ты не пугайся, ну, нормальная бута – ну, с димедролом, так, слегка…
– Ты гад.
Кондратьев шумно глотал молоко – он отрывался от кружки, говорил и отрывался снова.
– Ага. Щас праздники будут… Я сольюсь с экрана на пару-тройку дней.
– Уезжаешь куда-то?
Кондратьев усмехнулся.
– Ага. В эден…
– Ты марафонишь с кем-то?
– Арин, ну что за вопросы… Ну, да. В принципе, да. Есть одна хата, я давно кантуюсь там. Оттуда подгоны. Там и ширевом разживаюсь. Мои последние два года.
– Где это?
– Озеро Долгое... Ни к чему тебе знать.
– На всякий случай, дай адрес. Вдруг что-то…
– А что? Ты беспокоишься обо мне?
– Саша, пусть у меня будет адрес… Я тебя не буду искать. Но так мне лучше будет, правда.
Адреса он не дал ей, конечно.
Зато вызвал безотказного мужичка Рому. На красном жигуленке – пропыленном как палатка в пустыне Негев.
– Расплатишься сама, хорошо?.. Он скажет тебе, сколько.
Шептал ей, целовал угол глаза. Что ей делать оставалось?..
Весь путь мужичок-бедуин поглядывал на нее в зеркальце. Латунными пчелами поблескивали глаза.
– Хороший вкус у Шуры на женщин. Очень хороший…
Арина не отвечала ему.
…
Она пришла домой в состоянии выжатого белья. Неживая.
Коса развита по спине, макияж вымыт сном и давностью времени нанесения. Под веками полоски нежного сумрака. Рот измазан набухшей ягодой помады «люмене». Сумка – где-то там.
Арина растерзала замок на босоножках и сбросила их об коврик – красивыми швырками маленьких ног. Каблук босоножки хрустнул на лестнице, обломившись птичьей костью, и болтался на кожаной склейке, а и ладно!
Ей больше не было дела до собственной боли – боль ушла, уколотая дротиком кайфа.
Спать – вот все, что хотелось Арине, спать и греться в одеяле, пахнущим мужем.
А то, что пережила она с Кондратьевым….... Это она закрыла дверцей. И – притерла засов. И навесила на засов железный крюк и гирю амбарного замка.
И ни черта не помогло. За дверцей был тот же Сашка – нагловатый и нежный, с отрешенными глазами индуса, пронизанными иглами героиновой грусти, добрыми как самое заклятое счастье.
. . .
В тот день, под самое закрытие, в «Арбалете» нарисовалась машина поставщиков, которую ждали только назавтра. Куда денешь броневик, – на ночь глядя? Шеф упросил ребят принять.
В порядке мягкого приказа. У всех – семьи, но надо… Адулас, Осадчев и охранник остались ждать, до первой звезды.
Немного чего-то Артем переживал... Неспокойно ему было. На звонки его – никакие из – Арина не отвечала. Предупредить ее хотел.
Последним покупателем у Артема, за десять минут до закрытия – был некрупный, с закаленной спиной, ладно скроенный парень, спросивший оптическую винтовку.
– Для снайпинга?.. – спросил Артем, снимая со стенда угольно-мускульный массив Хеклер&Коха.
Винтовка была похожа на огромного – с великолепными членами и настороженным линейным хребтом – богомола.
– Нет. Спорт.
Артем положил Хеклера на армированный прилавок. Парень поприкладывался к ней, профессионально. Артем скинул ему еще винтовку Sako. Винтовку Блазер Тактикал. Немцы… Качество без упрека.
Парень щелкал и примеривался, прилаживал руку и плечо, натирал глазницу оптическим прицелом. Спокойно и рассчитано – как ювелир или медик. Эх, если б женщину можно было так выбирать… Артем смотрел, сдержанно любуясь его подходом, – парень был похож на самурая: весь в черном, сух, бесшумен, худ…….
Но что-то думалось не о парне. Винтовка сквозила перед глазами Артема – мысленные руки, даже не его, а кого-то другого – кем он, Адулас, был в предыдущей жизни, брали ее резко, и пальцы, – не его пальцы, а фантомные, те, из прежней жизни – ощущали холод шарика затвора трехлинейной винтовки... До автоматизма знакомое движение передергивания затвора, – движение, которые он никогда не делал в этой жизни: винтовка вскинута, выстрел. И впереди падает мужская фигура. Быстрый выстрел – быстрое падение. Откуда-то это помнилось, откуда-то это жило. Похоже, мы живем не одну жизнь.
Артем встрепенулся. Парень все еще ласкал – щекой – винтовку.
Не для того, чтоб склонить клиента к покупке, а чтоб отвлечься самому, Артем начал расписывать парню технические характеристики – одной винтовки, второй, третьей.
– Вот эту, – сказал парень, указывая на Sako. И кивнул.
– Разрешение.
Артему всегда было любопытно угадывать – спортсмен или киллер. Не ошибался, это как правило.
Парень предъявил разрешение спорткомитета. А жаль… С точки зрения френологии – бугристый череп, кости затылка смещены к горизонтали, лобные дуги неразвиты и скошены – он вполне бы годился в золотую роту наемников.
Так кто был тот человек?.. Кто так честно и равнодушно шел на свою смерть. К нему, Артему.
Что же молчало оно, подсознание.
Артем упаковал винтовку, присовокупил патроны, чехол, оснастил покупку векселем короткой улыбки. Надеясь, что пострадает только мишень, и что парень не берет оружие на чей-то приватный специальный заказ.
И все-таки он еще раз Арине перезвонил.
На часах было одиннадцать вечера. Осадчев и охранник ждали, курили, терли анекдоты. Пошла уже третья кружка скверного пакетированного чая. Адуласу пить не хотелось, но чем-то нужно было заняться. Он звонил, – и звонок за звонком оставались без ответа.
Вода в кружке была жуткая, чай пах покойником, на вкус был такой же – Артем подумал, что где-то в трубах или дельтах разводки валяется, прибитый к оплетке металла, несвежий, колеблемый медленным водотоком труп... И вода, струясь через него, гудя, забирает микроны изношенной плоти, разбегается по водопроводным жилам района и попадает в таком виде к нему в кружку.
Хотелось есть неимоверно – супа, куска хлеба с куском колбасы, горячую подошву пиццы, на худой конец.
Броневик прикатил к девяти вечера.
Из автомобильного брюха выкидали упакованные стволы, втащили – с рук на руки – в подсобку, побросали следом коробки и ящики с мелочью. Нарезное и гладкоствольное распаковывали первым. Витхерби, Career, ижевцы.
Умарекс, травматические Эскорты и Викинги. Потом пневматику, газовые пистолеты Хауда. Переписывали холодное.
– Нож Галеон... Десять штук, – диктовал Осадчев Лёня. – Нож Легионер, пять единиц… Нож Юнкер дамаск, пять тоже. Записал?
Пересчитали требуху для самообороны. Аэрозоли, электрошокеры «Гюрза», искровые разрядники, рогатки. Оптику. Аксессуары. Бинокли Pentax, лазерные целеуказатели, кейсы и фляги.
Тесаки Егерь, кейсы, чехлы, кобуры, патронташи.
Охранник смотрел, как парни расталкивают товар на стеллажи, эргономично притыкая друг к другу коробки.
– Ну, ладно, пашихин и Рукавишников, доверяю вашей мужской силе.
– Давай, есаул. Разберемся, – отвечал Адулас.
Охранник скинул ему ключи и отвалил.
Они докидали с Лёней коробки на стеллажи, сортируя на глаз кое-как – кладовщик доведет до ума. Задраили решетки и монолиты дверей, активировали сигнализацию и вышли в десятичасовые джазовые сумерки.
Холод предночи слегка жег тело, но было безветренно. Артем подбросил Осадчева до метро – свернув на Невский, озябший глянцевыми мурашами огоньков, – ударил, перегнувшись через кресло, ладонью в лёнину ладонь, и поехал домой.
Домой Адулас приехал в первом часу.
Его встречали босоножки Арины, разметанные кувырком, – на лоскуте ковролина в прихожей. Один откинут носом об стену, распахнутым замочком кверху.
Арина спала нездешним очарованным сном. Комком, и в одежде... С подвернутой под живот рукой, подобранными коленками. Бесхитростно, румяно и просто, как лежат глубоко спящие дети.
Артем дохнул ее лицо – алкоголем не пахло. Щека ее нежно лежала на ладошке…
Он подоткнул Арину одеялом и пошел разогревать ужин одинокого мужчины.
. . .
Кайф брал Арину на изогнутые крылья светившей силы, он забирал с собой, уводил в страны покоя и мира. Тело ее оставалось лежать в комнате, душа отлетала и уносилась.
«У моей совести потеют ладони и белеет лицо, моя совесть дышит на ладан – на нее накладывают, со спины, портовые веревки, смоленые ветром, – и вяжут ее в куклу, чтобы вести на костер. Там прибьют ее к крестовине столба, и она, крича, переломится надвое: от злобных оранжевых выхлопов пламени…
Ты сломан тоже – по всем суставам и сочленениям – как деревянный человечек Пиноккио.
Твое сердце отжимает километры сердцебиений, твой мозг выстиран и выбелен героином, артерии ветвятся белыми арыками смерти. И только твои пальцы – сухие и тонкие как остов богомола – мои…
Твои глаза судачат о моем стыде.
Твои глаза – флорентийское зелье; ты льешь его на кожу, ты капаешь черничной кислотой в мои глаза – отпусти мои руки, Кондрат, раскрои ножом веревки, стянувшие их; я согласна идти на галеры, разве ты не видишь.
На твоем запястье переплетенье сосудов, оно прокушено светом; воздух с моего рта – едва ли настоящий, настолько неслышен – сгоняет это свет…
Помести свой рот в упадок моих скул – там нет влаги, но есть ненадежная тень... Я подлатаю твое сердце.
В моих волосах перепутались парсеки.
На моих губах афинский ветер, мои кости выжжены белым, как щебни мраморных плит, мои ресницы желты от пустынного ветра.
Я – та надежда для тебя, которая как утлый бот, перед столбом нависшего циклона – один окат стенного падения – ледяной зеленой толщи, – и бот, разломанный как спичечный коробок, канет в черную прорву и бездну.
Ты – мой поводырь, моя панацея от жизни.
Твое сердце – моя Палестина; твоя спина – Стена плача; в нее скрываю мое лицо, ловлю губами крупяную кожу камня, – я перетрагиваю четки твоих позвонков – долгие как у буддистов, где 108 камешков, нанизаны бусами, – или крохотных каменистых плодов священного дерева рудракша, тоже в ряд, ом намах шивайя, никогда не переставай быть – будь вечен, будь всегда… Навсегда будь, если ты меня слышишь».
Артем, ночью, был нежен. Он ходил в ее теле – красиво, горестно, пристально.
Но он просто ходил. Арина не таяла. И ничего не росло. Ее душа глядела на щеку Артема – с двумя точками родинок, точно две спичечные головки, на рот его, приоткрытый слегка, она наблюдала спокойно, – как этот рот ритмично исчезал из уголка ее глаза. И возникал снова. Так долго.
Так долго, что даже хотелось, чтобы кончилось все поскорее.
Как рассказать ему, что я……….
Что я хочу упасть в Кондратьева. Что я пытаюсь остановиться… Я балансирую на тонкой нити между – изменить. И – НЕ... Что с тем лавина нежности, от которой хочется – смерти.
Артем прав – ей бы ребенка сейчас. Ребенка, который займет ее силы, ее голову, сердце... Даже не важно, от кого из двоих, усмехнулась Арина. Усмехнулась легко – потому что с Кондратьевым нельзя все равно. Даже и с презервативом. Потому что презики слетают и рвутся, особенно в страсти, и потому что ВИЧ – очень тонкая штука. Он может влезть молчаливо и поселится в ней несколькими серебряными клетками. Мерцая таинственно и нежно... Простирая нитяные щупальца в ее органы, кровь, захватывая ее кровоток, вплетаясь черной парализующей сеткой в иммунные клетки. И она очень долго не будет этого знать.
Ребенок, ребенок. Но какой ребенок, если она – принимает…
И никогда не будет такого второго, как горластый топтыгин Шурка.
...
Она стала избегать Артема ночами.
Раз – не найдя ее в два ночи в постели, он пришел в кухню. Пришел в туалет. Арина сидела на толчке, с ноутбуком на коленях.
– Пишу статью! (Писала письмо для Кондратьева).
– О, господи, – Артем прикрыл дверь. – Ты не Набоков там, часом?.. Тот тоже, ночами, писАл на горшке.
Кондрат читал ее письма с вапа. Отвечал коротко или вовсе не отвечал. Потом они встречались, и он обнимал ее, говорил, что перечитывал 5 раз, и там есть очень глубокие его инсайты, о которых никто даже не знает, а она – чувствует... И Арина ощущала его «спасибо» за это.
В один из дней Сашка ответил Арине: «Типа, ну, приезжай…»
Она застала его раздерганым. В болтанке и депре. Его ломало. Кондрат был взвинчен и обострен. В озлоблении...
Он ходил в комнате, пинал стулья, расшвыривал диски, захлопывал окно.
Его настроение взлетало и падало. Он кидал в Арину словами и взглядами.
– Ты пришла, да?!?.. А чего ты пришла? Я пустой! ширки нет… Я слетел с работы, месяц просратый сижу. Ага! А ты думала – я всегда готов как пионер. Ну, да!
– Что же ты на мобилу не сказал, Саша…
– А я не сказал. Хрен ли мне было!
Он схватил ее предплечье. Как жгут сдавил его. – Я не сказал!..
– Я принесла деньги, – отвечала Арина. – Мне больно! отпусти. Ты попроси курьера своего: пускай подгонит нам кайф... Ты примешь. Или поделим. Здесь хватит на двоих.
– Ты богатая, да? Богатая женщина?!.. Так мне же повезло, ты не находишь? Богатая женщина – бери не хочу. От мужа бегает ко мне… За ширку готова платить!
– Саша. Тебя ломает…
– Я ведь ширяловом только тебе интересен – да, Арина?.. Да же?! Блин, ты бесишь меня иногда. – Он кидал прочь ее руку. И снова, здесь же – с решимость вепря – дергал ее руки к себе. – Мне нужно вмазаться, ты понимаешь…
Его лицо выражало страдание, – бледный, испарина градом катилась, скулы, заваленные под глазами, пугали тенями.
Тогда она подумала, что для портрета Мученика не нужно костров инквизиции, крестных мук или святосебастьянства. Нужно вот это – лицо Кондратьева, его ключицы, завал его пепельных скул, искажением сдавленный рот и подглазья, похожие на осадки автомобильного выхлопного угара.
Сашина бабка – Дарья Сергеевна – восклицала из-за дверей: «Шурочка! Что так громко?!..»
– Бабон! нормально все, – кричал в сторону двери Кондратьев. – Ты иди!!! Я с девушкой говорю! Посмотри там телевизор...
Он орал, но не кидался с ножом и не выкидывал Арину за ворот из квартиры. Опиатные наркоманы – не буйные, это не винтовщики и эйфедралы. Сашкин крик – это были оранжерейные цветочки…
Курьер – вертлявый быстрый мальчик, похожий на стебель одуванчика – Денис Кусков – подогнал им дозу; Арина выскочила на перекресток, приняла у того чеки.
Кондратьев подштырился, вошел в смаз и завис, – и все выправилось, и стало даже славно – он омягчел и стих, он сделался нежен – но Арине было пусто…
Кондрат был в нирване, в своем электрическом поле счастья, – нужды в ней, Арине, не было, не было. И кто была она – рядом с его Герой, – богиней космогонических пантеонов, с ее опьянявшим парадом миров, ее эскортами из мускулистых дэвов-громовержцев – в ожерельях из вращавшихся планет, лепестков женской плоти и оскаленных молний, – она, простая земная девочка, с плюшевыми своими идеалами. С трафаретным мужем и душком залежалой своей человечности. Не было зацепления сфер. Миры не сообщались.
Сашка вошел в свою вселенскую любовь. Он выделялся из тела, отслаивался, откачивал себя – от тела – в сторону. Он был рядом с богами, садами и планетами цивилизаций фохата… Был в музыке сфер и слышал гул пространственных огней и голосов.
Ноль, пыль, помеха – вот кто была Арина, когда он совокуплял себя с Герой – своей возлюбленной, которая сосала из него чудесное молозиво мозга, отдавая взамен свои вихревые артезианские глаза, свое, испорченное нектаром, дыхание божества, свою до дыр отскобленную матку, свою грудь, полную млечного межпланетного молока, свои лживые метафизические чресла...
– Ты стала правильная, доктор? – сказал Кондратьев усмехаясь. – Ага? Ты в лоно добродетели вернулась? Правильная как стеклоочиститель… Ни пятнышка. Ни грешка.
– Я неправильная, нет! Сашка, нет, – отвечала Арина. – Я забита образцами чести и правды… Еще родителями, с детства. Я глупа! откровенна... Доверчива. Я ничтожно – да никак! – осмотрительна. Я до дури склонна верить. Именно поэтому я с тобой. Ну, пока тебе... Тогда.
– Ага, иди. Давай, погуляй там, проветрись… Придешь назад, когда соскучишься.
– Я не приду больше, Саша.
Он захохотал. Наркотик оглушал его... Слепил, расширял. Снимал оковы с души, высвобождал от человеческих связей и пут, границ этики в том числе – полоскал его душу чудесным преломлением рая, навзничь опрокинутого в бездну.
Они расстались больные, с паутинной бледностью щек, с горячими головами, и не виделись долго.
. . .
Арина пришла домой усталая, без лица; Артем встречал ее в тапках на босую ногу. «Что-то случилось? Ты колючая как ежик». – «Да нет. Просто очень болит голова. Давление упало до нуля...» – «Ну, вот! А я тут подсуетился чего-то...»
Она вошла в комнату, и было худшее, конечно.
Салфетки, фужеры, свечка, шампанское, салаты из супермаркета «Лента», креветки – все то, о чем мечтает замужняя барышня, перехлебавшая голливудской продукции и романов нерусских и русских писательниц.
Арина не хлебала романтики и не читала писательниц. С тонким витым дымком газа и трепета, Артем вскрыл шампанское.
Они ели, почти молча, Арина делала лицо растроганой женщины – вельми успешно, Артем ей верил.
Она ела и думала – я брошу все. Никто не будет так любить меня, как он…
Кондратьев думает, что жизнь – это копейка. Он не думает о завтрашнем дне. Он и о ней-то думает – только Здесь и Сейчас... Этот худощавый и битый жизнью парень, с индусскими глазами Джареда Лето. И что он будет думать завтра – она не будет знать никогда.
…
В июне Арина окончила интернатуру и ушла из больницы.
В пустой красивой тишине дома – муж за двадцать километров, – она вдыхала наркотик или клала облатки его на язык. Шмаль она не курила – Артем чуял курево за версту, и вены не проткнула ни разу.
Под кайфом она лежала и думала о Шурке…, – о котором больше? она не знала сама.
Потом ее скручивало и резало интоксикацией по телу. С трудом переступала она отходняк, ладила что-то на ужин, и падала – рушилась – снова в кровать.
. . .
Кондратьев был в задн…. в затруднении.
Он сидел без копейки. Полный голяк, триста рэшек в кармане. Начальник его, директор компьютерной фирмы, списал его с корабля успеха. Кондрата стала подводить память – он давал тормоз, залипал в состояниях, приходил датый, улыбался не ко времени и к месту, а голубевшие пятна под глазами – все это, разом обострившееся вдруг, клиентов, скажем ласково, в контору не привлекало. Трудовую книжку начальник закрыл ему «по собственному желанию».
«Принимать принимай, но знай границу», – таков примерно был рефрен.
Кондратьев выворачивал мозги, где добыть денег…
К денежному папе идти на поклон?
Папа знал, что Сашка давно уже не легенькие дисочки сосет. И сына – старшего – он не привечал, относился к нему как к загубленной части семьи.
А мама... что могла мама. Иногда, украдкой, она подбрасывала Сашке денег, но просила тратить на дело: одежду, мужские примочки, на девушек. Назвать это «делом» у Кондрата не поворачивался язык.
Без героина – была совершенная и полная труба. В офис Сашка ходил, всегда, автоматом: чтобы только деньги были на порошок. Тридцать тысяч в месяц – был нижний порог, который требовала гера. Питался Кондрат на дарьину пенсию. Отец давал денег бабушке лично – на еду, но где один едок, там и два, им хватало. Даша кормила внука, конечно.
Арина злила Кондратьева... Он скучал, изводил себя в приступах и вел себя вызывающе. Грубил, издевался, подначивал – все как всегда.
Потом он принимался думать, что нужно с Ариной завязывать... Воспоминание кожи ее, прозрачной как поверхность ручья, – стянутого первым полиэтиленом ледка, ее глаз, как два густоцветных камешка «тигровый глаз», ее пушистой, всегда нетуго заплетенной косы – словно ворох деревенского лука, перевитого для просушки, – все это говорило ему: не юродствуй, Шура. Не порти чистоту.
И до Арины давно сложился его мир.
Он запер мир от себя... Мир свелся к допингу как к двери в запредел – как причастие к сладостной вечности.
Вечером Кусков Денис подогнал ему чеки, и Кондрат обнялся с герой.
Наутро догнался – поставил еще грамм. Утро было пустое и чистое. Никуда идти было не нужно.
Он был даже рад, что не надо переть ни в какой долбаный «Компьютерный Мир».
Не надо раздавать улыбки программерам, девушкам-юзерам и завсегдатаям интернета... Ну, тем, что сидят по пояс в чатах и форумах, присосанные к порно, и е…ут женщинам головы на сайтах знакомств. На всю голову больные от монитора, железок-начинок и своей дешевой подсадки на виртуал.
Свой собственный ноутбук Кондратьев загнал давно по сходной цене – когда героин перевесил в нем тягу к сети. Сеть была дешевый суррогат, рядом глубокой и чистой лаской наркотика.
Впереди были часы – и дни! – совершенно личного времени: ни звука извне, музыка в магнитоле – Аланис Мориссет, Токио, H.I.M, трансы, – худо-бедно наполненный едой холодильник, еще незадернутая койка – просто шкурно, до чего отлично, что никуда не нужно идти.
Его сейчас вырубит, вынесет ртутным током крови – из тела вон, и он выйдет на сотовую связь с Богом. В белую гущу счастья.
Кондрат пошел на кухню, накатил из-под фильтра воды. Он выпил полстакана, глотая гальку ледяных порций. Легчился телом, отслаивался от тела – душой. Вернулся в комнату, постоял, ощущая нирванический подъем от тела – вверх.
Отрыв. В глазах текло, светлело и расплывалось – необходимо было лечь.
. . .
Они лежали на кушетке Кондратьева – головами друг к другу.
Полынный запах весны втекал в раскрытую форточку. Их пальцы переплелись как крона дерева, добровольно в себе поселившая ветер. Они соприкасались калеками плеч и теплым ранением ртов. Сашка Кондратьев смотрел в потолок.
Он отпустил щетину, десятидневную – легкую, слегка лохматую уже, щетина походила уже на бороденку.
– Король Дроздобород, – сказала Арина. – Как в той детской немецкой киношке… Ты такой же.
– Тебе хорошо?
Он говорил, роняя в потолок бесхитростные фонемы. Фонемы падали и разбивались о солнце.
И оставляли пятнышки на потолке. Пятнышки были похожи на ноты с множеством хвостиков. На множество маленьких молочных солнц. На капли спермы. На бесцветные кляксы в школьной тетради.
– Ты возьмешь из моих рук дармовую гармонию, детка? – говорил он в лицо потолка. – Эта гармония не стоит усилий, она доступна, и она работает наверняка... Мы полетаем.
Арина молчала.
– Дармовая гармония вычтет из наших тел сердце, – шептался он. – А из наших глаз – душу. Взамен мы с тобой получим рай, а рай стоит вечности... Он стоит вечности, на сдачу с которой нам никто не даст ни медяка. – Он утопил кадык глотком.
– Я хочу вдеть в тебя мое сердце... Позволь мне сделать это, Арина.
Кондратьев запрокинул голову набок. К ней.
Арина дышала в его ключицу. Я так тебя….... сказала она одним упавшим движением пальцев. Я ТАКТЕ.
Так давно и больно.
– Не смотри в мои глаза – я вижу в глазах будущее, – сказала Арина.
– И что ты видишь?.. – спросил Кондратьев не отрываясь.
Ключица его растекалась у нее перед глазами. Превращалась в рогатку – из которой стреляют по глазам льноволосых маленьких женщин: врачей-наркоманов…
Ведь необходимо устоять. Потому что дома – Артем. Который ни в чем не виноват... Он не виноват, что невозможно больше жить без этих рук. Без этой жилки над бровью... Без убитой – серебряным вирусом – жизни. Без этой ломаной и конченой пяди героиновой нежности. Без этого серд
ца.
– Ты – это лучшее, что случилось в моей жизни. После Артема и Шурки…
Кондратьева пробило. Он пожелтел, посинел. С размахом он сел на кровати, начал срывать с рук и торса рубашку. Заголять свои вены. Рушил полотно ткани в щелчки отлетающих пуговиц. Контроль его летел и падал к черту.
– Я прошу тебя… Один раз!!! Один раз, Кука… Один укол! Сейчас, сегодня!!! Один… Раз хотя бы! Один-единственный ебаный раз…
Он скатился с кровати. Наполовину одетый, но разобранный уже. Слепыми пятками – босиком.
– Чистым дизелем, ты видишь?.. Гера чистая! без дерьма. Дай руку мне… Прошу тебя. Я все сделаю! слышишь… Ты слышишь?! Арина, слышишь меня.
Сашка синел, белел, – его било, душа и пальцы вели перекрестный огонь, – он глотал свою совесть в желудок, узлами пальцев распарывал упаковку. Всасывал заготовленный раствор. Тряслись руки его, колотилось – булыжником – сердце. Выпрыгивало сердце – из ненадежного каземата груди.
Неслось и падало – в небо.
………………..
Она больше не слышала.
Эффект был ломовой.
Их вымыло – на берег с чистым песком из золота инков. Их обернуло и стянуло – тончайшей небесной фольгой цвета белого подкожного ветра. Солнце вошло в каналы их и взорвало каналы фонтаном древней адриатической пыли, сказало совести: «моргиана, умри». Боги их целовали ванильными устами, с легким ободом киновари... Лукавые фарфоровые глаза богов, очерченные руслами индусской сурьмы, вращались как диски. Боги гладили перстнями их вымытые шелком вечности лица... В оправах перстней вспыхивали и бушевали лазеры кристаллов. Кристаллы преломляли самые чистые спектральные лучи. Они были украдены из глазниц гипорбореев и атлантов.
Легкими птицами проносились архангелы – цепляя лирами волосы Арины.
Саша лежал без движения, распростертый поверх нежно бурлившей простыни цвета индиго – размером с венерианский океан. Существа высших планетарных начал склонялись над сашиной грудью и рисовали на ней – внеземными прохладными пальцами – иероглифы победы над бессмертием...
………………………………
– Блин, мне больно.
Арина расклеила глаза, согнула руку, откинула покрывало. Там, внизу – ее междуножье дышало свежим и ласковым тлением любовного изуверства… Эйфедрин с герачом сработали хорошо.
– Фак, ты чокнулся, Кондратьев.
– Ты чокнулся, мне больно, а! я встать не могу…
– Ариша. Ты прости… Я – ушкурок. Ты прости. Я просто больше не мог… Я просто. Я был вне.
Арина сжала зубы, молча оделась. Молча стянула со стула сумочку.
Охая, ушла в коридор.
– Господи, как мне до дома добраться.
Еще не смеркалось, а ветер выл почему-то – выл как пес, – и когда они ехали в метро – косило обоих.
На них смотрели.
Мужичка Ромы не было в это раз... Кондратьев – качаясь как матрос, – привез Арину домой: спать. Втащил в комнату, укантовал на кровати, дверь захлопнул. Английский замок был, наудачу. Без ригелей.
И она проспала до самого прихода Артема.
. . .
Артем Адулас стоял за прилавком, посетителей не было.
Он пошарил глазами по залу, заметил, что охранник занят собой, и раскрыл журнал по оружию. Но стволы не радовали его в этот момент. Он думал о жене… И о женщине в целом. О том, почему такая зависимость от них. Откуда эта болезнь? И что назвать любовью – кроме обласканного самолюбия, потревоженного сердца и неотступного притяжения тела.
Когда ты не знаешь, куда деть из груди сердце, и оно точится сладостным гноем, затапливая больной тоской твое нутро – это Любовь.
Когда тебя достала ежедневная манная каша и пережаренная картошка, ебет мамаев хлам в квартире, копна неглаженых рубашек, раздражают телефонные подружки любимой, томят ее ежемесячные недомогания, – это Любовь…
Когда ты устал и не хочешь видеть любимую, когда тебя доехала ее неистощимая ласка, и ты бранишься по ничтожной причине – с тем, чтобы порвать серебряную нитку ее лучащейся нежности, а через три дня ты согласен выть, корчась ногами на полу, оттого, что ее нет, – это Любовь.
Когда тебе хочется ударить по шее свою ненаглядную лишь оттого, что она ласково посмотрела на другого, и сказала ему несколько незначащих слов, голосом, каким она твердила тебе: «Ты мой самый родной», – это Любовь...
Входная дверь хлопнула, и Артем – следом – захлопнул журнал. Охранник неторопливо приосанился – вошел посетитель.
Вопрос любви остался не разрешен Адуласом до конца.
...
Ночью Арину кумарило.
Она гнулась на постели, – мокрая от пота до самых костей. Штемпелевала влажным лбом простынь. Вцеплялась Артему в щеки и плечи. Он держал ее голову, прижимал к груди, не давая кричать, и только шептал: «Всё, всё! всё кончилось, Кукуня... Всё хорошо». Целовал в шею, зажимал ртом висок.
– Твои таблетки в гроб тебя загонят.
Арину колотило, со лба ручьем текло, пальцы крючились и выпрямлялись снова – кольями. Простынь ползла за ними следом, косяком текстильных разбегавшихся волн. Она затихла под утро, свернувшись угловатым комком – плечи, локти, коленки, – клубок утомления и острого прохладного сна.
Адулас вырубился – трупом. Оставалось спать два часа.
Наутро она выползла в кухню, где Артем, растирая глаза, гремел кофеваркой.
Он морщил лоб – сна не хватало, было тошно думать, что ближайшие семь часов необходимо отклячить как-то в «Арбалете»... Он просыпал сахар на электроплиту. Эти панели ничего не боятся, кроме сахара. Он схватил тряпку, начал стирать, чтобы не прикипело. Все валилось из рук... Крупины сахара летели на пол. Он задел кофеварку, кофе выплеснулся, зашипело столбом и треском.
Приходит предел терпению, даже когда ты любишь.
– Вот если б ты тогда не отдала Шурку в ясли!!! – вскинулся Артем.
При слове «Шурка» Арину перекосило. Потому что в этот раз – при упоминании имени – первым влетел и ударил в память – Кондратьев…
Точно простынь накинули на ее лицо. И лицо путалось в простыни, искало воздух, хватало комки кислорода.
Лицо Арины точно сыпалось...
Она смотрела, как смотрит человек из застенка – до последней минуты веря в возможность пощады.
– Я не меньше твоего переживаю!!! И я не меньше спрашиваю с себя, тебе ясно?!?... И хватит орать из-за кофе!
Артем швырнул прихватку, ударил в стол кулаком: «Арина!», «Достал меня уже...»; она спаслась в ванной, наглухо перечеркнув Артема шпингалетом.
Он уехал на работу: злой и чумной, вытряхнутый как порожний спальный мешок.
. . .
Две недели Сашка долбил аринин сотовый номер. Звонил. Засылал эс-мески. Злые и нежные, нервные, откровенные, пересыпанные угрозой и шантажом. К хорошему привыкаешь так же прочно, как не можешь отвыкнуть от пагубного... Он привязался к Арине.
Арина сбрасывала и месаги, и звонки.
Игнор. Наконец он понял, что не будет больше ничего. Он затих, кинув ей последние два сообщения.
Потом переждал – была тишина, – и, обозлясь, написал ей письмо, отвез и в ящик кинул. Без штемпеля. Фамилию на конверте левую приписал, женскую: Ира Колоскова. Дабы не. Если муж конверт заметет.
«Я съезжаю, Кука. Сейчас дозировки растут. Растет частота употребления: приближаюсь к уровню 3х грамм в сутки. Я джанки, понимаешь.
У меня срывы (не факт, что через отходы): я ищу тебя. Потому что думаю, что имею право.
Послушай, как я могу сделать тебе больно, если ты ничего ко мне не чувствуешь? За шею схвачу и начну душить в кофейне? Хрен там тебя расстроил своими выпадами мата однажды… И за секс тот прости, – это эфедрин, меня понесло, я не думал, что так выйдет.
Я не за стаф тебя виню, мне нравится свобода... Ну да, ебошил тебе мозг смс/мэйлами/звонками на отходах. Что с того?
Прошу бы об одном тебя. Ночь с пт на сб или с сб на вс. Я буду джентльмен (с учетом суммы моего долга, это будет смешно выглядеть), – не прячься за своими расходами. Ну и я знаю бюджетные варианты проведения ночи. Секс мимо, даже если ты захочешь. Домой верну, как только попросишь. Ну и... раз ты стала противник синтетического счастья (решает за рай любовь с ключиком, да?)... Тебе можно выпивать?..
Я хочу. »
Не последовало ответа на это письмо.
Сашка сламывал себя, болел и скулил от безденежья, находил – любым катаньем – деньги. Возрождался от вставленных доз.
Вся его жизнь была – качели. Бабка Даша хлопотала вокруг него...
– Все хорошо у тебя, Шура?
– Все прекрасно, ба. (Как никогда х..во, бабуля.)
– А у меня вот… подвесочка. Потерялась. – Бабушка отерла пальцем глаза. – Белое золото, изумрудик, дедушка дарил мне. Моя любимая! всегда при мне была...
– Бабуль, найдется. Закатилась куда-нибудь... – отвечал Кондратьев. – Ну, не плачь. Я – твой изумрудик... Нам вместе хорошо, да? – Прятал глаза.
– Хорошо, Шура. Ты только не нервничай так... Все к добру. Все, мой милый, все. Я пойду, – Дарья ушла к телевизору.
«Помру – и тоже все к добру будет», – подумал он в озлоблении.
И с тем же озлоблением – раскаленной испорченной нежности – он думал об Арине……..
Он был в разломе. – Она была подавлена.
Его ломали жестокие отходняки. Ее кидало из крайности в крайность.
Ее держал на кромке сознания муж. – Его выхаживала бабка.
«Царевна Будур, спящая ты моя», – твердил Артем, раскачивал плечо Арины ото сна…
Сутками бродила она по квартире немытая, присасываясь к плейеру.
В наушниках играла любимая кондратьевская музыка. Немчики, H.I.M., АВТ, Джэм, Мориссет. Музыка была волшебным порошком, оживлявшим Кондратьева – ее мелодии несли к Арине живые Сашкины глаза, ее такты напоминали его голос, который звучал, когда звучала в его комнате музыка…
Она садилась за ноутбук – будто бы писала врачебную работу?.. а писала ли? – без конца ела, спала без конца тоже, забиваясь мятой сомнамбулой в кровать. Вся жизнь была одна сплошная летаргия, с редкими вынырами на поверхность бытия.
Аутизм Арины достиг размеров монгольфьера... Возбуждение – упадок сил, – озноб – лень – вата депрессии.
Она отчуждалась от Артема, вязла в тоске и апатии. То, что произошло на квартире Кондратьева – рождало лишь один протест: «не отвечать», но – по иронии женского сердца – еще сильнее любила она его. Еще больнее и глуше скучала.
Она ждала снов, но сны не приходили.
Она перебирала в памяти черты Кондратьева. Его глаза смотрели на нее с мысленного экрана, глядели родниками понимания – прятавшими то, что нельзя произнести. Они ласкали Арину, как ласкают кожу – перья павлина; она становилась прекрасной, подавленной, божественной, щедрой, безвольной, – ее душа уносилась в его руки, ее тело полнокровно отвечало ему...
А иногда Кондрат ей грезился наяву – когда она ходила и делала что-то.
Он наклонялся над нею, дышал почти в шею. Последыши героиновых аэраций давали себя знать – Арину глючило, замыкало. «Ты сумасшедший и удивительный…»
Перекидывая локоть – за ее плечо, Кондратьев приближал рот к ее глазам, шептал в эти глаза: «Посходи со мной с ума».
Она принимала наркотик, когда Адулас был на работе. Нюхала героин, глотала диски. Ноутбук с заветной работой о наркоманах она раскрывать перестала.
Зато без конца включала с оффа телефон, перечитывала кондратьевские месаги. Затирала их трясущимися руками. Два, три, четыре – бросала, жалела немедленно, что вытерла, и злилась на себя; жестоко и голодно уничтожала еще несколько штук. И вдавливала «нокию» в грудь, и ревела, и задирала голову, и рыдала в потолок, – и только было слышно: Саша, Саша, Саша…
Благо, Артем был далеко и прочно на работе.
Арина скатилась в сладостную яму – спала сутками.
Лежала – белая и прохладная, сжавшись в узел, как голоногий морской моллюск: с фонариками небытия у подвядших от неподвижности глаз.
Адулас гладил ее иногда. Гладил, смотрел. Вид ее оставлял желать лучшего. Много лучшего.
– Ты перестала мыться, Ариша…
– Я не хочу мыться. Мне холодно.
Артем погладил ее руку.
– Ариш, давай что-то делать. Может, к Брусникину твоему обратиться?.. У тебя зависимость уже – от этих успокоительных…
– К Брусникину?
– В больницу твою. На Васильевский. Частным образом, конечно.
– В больницу?
– Ариша. Ты помнишь, какое сегодня число?.. – Он вгляделся в глаза ее. – День нашей свадьбы. Шесть лет... Число Венеры. А впрочем, тебе все равно.
А однажды Артема испугал аринин гон.
Припадок. Ей виделись картины ужаса.…..…. где разрывали Сашку…………. и рыжий маленький Шурка запирал на ключик дверцу, – навсегда оставляя пустым ее грудной секретный шкафчик. Он прятал ее сердце далеко-далеко – наверное под своею кроваткой, куда не умел залезть ни один живой взрослый: это была зона XXXX (запрещенная четырежды). ……. Артема в этих снах не было.
Адулас, как мог, откачивал ее от истерик.
Бил ее по рукам, сажал под замок, отпаивал кефиром и супом. Сам варил суп – из кипятка и польских пакетов. Жарил блины «морозко», заливал сметаной, всовывал в аринин рот по кусочкам. Пельмени еще. Обыскивал ее сумочку.
Иногда он орал. Не мог терпеть. Орал и срывался.
– Ты понимаешь, что ты с-сердце мне вырезаешь?! Я не могу видеть, как ты дохнешь. ……… Застрелить тебя, что ли, чтобы не мучилась. Господи!
Арина стала путать цифры. Имена… Она не помнила дня, когда ушел от них Шурка. 17 или 18 декабря. А когда точно? Не помнила.
Под кайфом ее мысли переплетались – они вырастали и вспыхивали в звезды. Мысли бродили по ее телу, совершали прикосновения, проникали в глаза, заглядывали в сердце.
«Прошу, сними с меня свои пальцы.
Свои невоспитанные руки и глаза – с их пиратскими путешествиями вдоль палуб моего тела, в затемненных каютах и закоулках, потаенных телесных трюмах, слегка подтопленных водой, – корабль сдался; пробоина! он взят на абордаж…
Впереди расхищение и самое нежное мародерство, и самая ужасная пощада, и усердный шепот корабельного падре, – заговор, наговор, приговор, приворот – с отходною молитвой – мы тонем, капитан?…
Они пираты – твои черничные, с молочной бисериной глаза. Твои казнящие пальцы.
Пыль ультрамариновых звезд похожа на пробои в твоих венах. Тонкая наскальная живопись твоих родинок парализует меня.
Бог загнал тебя в это тело, не пощадив твоей души – здесь ли ты думал родиться?…
Звезда Ригель – в одном из странных моих снов, – показала свою медлительную щеку, заслонившую пять шестых горизонта. Накрыла меня тяжелой, невесомой полуденной тенью, похожей на присутствие исполинского зверя. Я поняла тогда, откуда ты – мой звездный изношенный мальчик...
В твоей крови простор родной планеты, ее оглушительная музыкальная тишина, аргентум и аурум, – память о доме заставляет тебя искать пути и ворота: к достижению его…
И ты считаешь – здесь все средства хороши.
Кондрат, мои силы ничтожны... И я плачу по тебе.
Моя увечная нежность к тебе – мой Новый Иерусалим.
Она бела как все пустыни, пережженные солнцем до негатива. Седая утренняя пыль носиться на поверхности пустынных морей, застревает в мраморных щелях дворца...
Мой лоб татуирован биндой счастья, бог целовал меня туда.
О тебе скучает ВСЕ.
У меня точно содрана кожа с ладоней. Моя внутренняя стиснутая ладонь – ей больше не дождаться передачи бесценного – из рук в руки, – от тебя.
Я чувствую на бутылочном логотипе моей внутренней жизни – нежном бурдюке, способном понести нового человека, – твою недостающую часть: окатыш малиновой плоти с гранатовой выемкой для притока жизни...
Твоя тонкая канальная игла никогда не расплачется больше.
Моя мечта – находиться от тебя на расстоянии шепота.
Но не ты и не твой шепот находятся рядом со мной……………..»
…
Однажды Артем нашел жену дома в полном раздрае.
Полумертвую, нечесаную, с пепельными ожогами двухдневной косметики у глаз. С тапками поверх постельного белья.
В кухне горбилась невымытая посуда. Опрокинутая в мойку – эверестом. С клочьями мумифицированной пищи на ободах тарелок. В ванной дотлевал мамай распада и запустения. Груды бумаг на рабочем столе Артема перемежались с чашками, протравленными несмываемой накипью чая…
Арина валялась в отключке.
– Ты опизденела, Ариша.
Он врубил свет в комнате в полную силу.
Он разглядывал ее при свете бра. Ее запрокинутое лицо, лишенное выражения, смысла, ее волосы, нечесаные несколько дней.
– Ччерт! Твои транквилизаторы загонят тебя в могилу… Вставай. Подымайся!!!
Он растолкал ее, оттащил в ванную мыться. Он плескал и тер Арине лицо, обтирал его. Пачкал в ее косметике полотенце. Привел в кухню и усадил на стул... «Нельзя все время лежать. Ты овощем станешь».
Арина тупо сидела. Качалась головой, сникала, падала спать, – здесь же, за столом, подложив под голову руку.
Он холодел до мозга, терял ощущение покоя. Он видел и чувствовал – как уходит что-то, как вымывается фундамент их брака, построенный далеко не на песке…
Так ли было – еще недавно? Недавно, в его незыблемой жизни.
В которой были ребенок и любимая женщина…
Когда дома был рай – веселые окна и чистые занавески. Горячая плита «бош» с его любимой едой. Пускай даже купленной в супермаркете – но ЕЮ, Ариной, согретой. Когда было о чем поговорить, и чей голос услышать… Когда женщину можно было едва тронуть – обожженными кромками языка, или пальцев, – и он остановить не мог ее сокращений, ее стыдных и ласковых судорог, – наслаждаясь, как ударяла она пяточками и голенями о простынь… Когда ребенок бывал шумен, криклив, мятно щерил усаженные зубками десны, – и улыбался как деревенское яблочное солнце – и спал между ними, чудесно, положив кулачок под теплую сахарную свою щеку.
И как он был обыденно, обывательски, заурядно, физически счастлив...
Шесть лет брака – и еще два года до свадьбы, – с того дня, под выжженным небом ЛТО…
Как он славно сжимал сына Шурку, и притирал его к груди, запрокидывал свой кадык о диван, – и как вдруг жало из-под века. А всего-то – ком живой плоти, возрастом несколько месяцев. По сути растение – ноль интеллекта, одни реакции – оплевывание кашей стола, надрывный вой по ночам, порча вещей, грабеж личного времени, нацизм нежности, жесточайшее чудо природы.
И как бродил он, Артем – с ребенком во дворе, пас, наблюдал, переносил лопатку с ведерком, – сын лепетал иногда что-то, повреждая воздух неосмысленной кашей словечек.
Артем смотрел, как дергает сын у ровесницы пластмассовый совок, уверенно дергает, как свое, дуя щеки и лепеча: «Водай мне! водай»; и как бабка девочки, молодящаяся дама в берете, с карминной помадой, с кистями рук, искалеченными ревматизмом – с прописанной на ревматизме интеллигентностью, – с улыбкой каиновой нежности говорит ему, двадцатитрехлетнему отцу – подержите вашего сына, подержите, он ЖЕ ДЕВОЧКУ БЬЕТ!
А он, Артем, – он ни черта не мог понять, почему он должен осаживать сына – когда тот нормально, чистосердечно отвоевывает свое, младенческое, инстинктивное, мужское, никакой вины на себе не несущее.
В полтора-то года.
Никакой.
И, вспоминая, он зажимал губы, и плакал, и сдавливал челюсть и шею рукой – не в силах остановить рыдание свое: пагубное и сильное, потоком рвущееся наружу.
. . .
Кондратьев лежал с пневмонией.
Иммунитет был подорван. Клетки болезни захватывали и оцепляли еще здоровые клетки. Жар тек и разливался по телу. Сашка спал, пылая от пота. Наконец бронхи свел приступ кашля – в мокроту и убой. До разрыва трахеи. С трудом он понял, что трезвонит мобильный. Звонил Сын.
Выдернул Кондрата из мокрой ямы температуры, волчьего кашля, соленых мидий спросонья раскроенных глаз. Голос Сына издалека рождался в трубке. «...Да че ты делаешь?! Ну, ты борзая, Лика, это точно». – Куда-то в сторону, не ему.
И ему:
– Как дела-то? Забываешь нас, Шура. Не видим тебя…
– Я болею.
– Да ну? – Сын несдержанно хмыкнул. – Ну, как отболеешь – притарань должок, Шура… Добро?
– Сын. Чего ты, – сказал Сашка. – Я отдавал же тебе. Мы сбрасывались, помнишь. В общий котел все ушло...
– И сколько там было твоих? В котле-то?
– Половина...
– Это не половина была. Так, слезы.
– Хорошо, я после докину еще. Я болею сейчас…
– Ложь, Кондратик.
– Действительно, скоро...
– Ты не помнишь, это у меня богатый папа?.. Или у кого-то другого? Провалы в памяти у меня.
– Сын, мои слова – это железо... Если я сказал…
– Я жду еще два дня. Потом ты и твоя шизанутая бабка начинаете резко жалеть о дефиците железа, – сказал Сын и вырубил связь. Кондратьев схлопнул слайдер и загнал его под подушку. «Ты задрал меня, фраер».
С треском он поднял себя из койки – было девять вечера. Кондрата мутило, качало, рвало. На пневмонию наслаивалась ломка. Снять было нечем. Пороло душу, заливало кровью глаза. Подкатывало и угнетало – вот-вот – что-то ужасное…
Кондрат вспоминал припадки сознания, случавшиеся с ним.
Когда посреди улицы, в потоке автомашин, стереофонического гула людской толпы – он вдруг останавливался и терялся, переставал понимать, что происходит – куда он едет, какой сегодня день, месяц, год… и звуки, бесконечное множество, становились все громче, оглушали его, начинали искажаться, радиальной картинкой в вогнутом стекле – с брызгами многоцветных полос. Он стоял посреди улицы и не знал, что делать – тревога перерастала в непереносимый страх, хотелось на месте провалиться, чтобы избавиться от ужаса – не видеть, не чувствовать, исчезнуть, перестать жариться в этом аду.
И как дома, на черных отходах – диких и штыривших душу и тело, – Кондрат готов был повязать на шею ременную петлю, или выйти в окно.
И – нет выхода.
НЕТ выхода.
НЕТ.
А потом вдруг был день, – когда он целых тридцать секунд был ЗДОРОВ.
Как раньше. До нарко.
Когда кровь была еще чиста, и мозг работал без сбоев – как новешенький, смазанный свежестью английский локомотив. Дар...
Целых ТРИДЦАТЬ. Как раньше. 30 секунд счастья – НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО в своей РЕАЛЬНОСТИ.
Он вынырнул из толщи, которая глючила мозги, топила ватой слух и мазала зрение.
Но прошли 30 секунд, и вернулось – по кругу – то же, что всегда кусало и жгло.
Ярость.
Страх – себя, людей.
Нереальность.
Триада. ТРИ АДА.
– Ты загибаешься, Шурочка, – плакала Дарья. – Ты разрушаешь себя... Мне больно видеть. Ты стал такой худой. На тебе одежда висит.
– Бабон! Ты НЕ хуже меня знаешь, что то, что впереди – это не страшно...
– Мне девяносто один год, Шура! а ты еще мальчик... Мой первый мальчичек.
У Дарьи была единственная дочь – сашкина и витькина мама.
Кондрата злила бабкина доброта: он был беспомощен перед этим.
– Бабон, иди, оставь меня... Приготовь вкусное! – отвечал он озлобляясь. – И, если ты любишь меня – сойди с меня… Сойди с меня, сойди, блин, сойди! Это мой мир, моя жизнь. Мне комфортно в ней... Я счастлив. У тебя свои были экстазы – балеты, корсеты!.. легендарные люди. Кто, как не ты, должен меня понимать. Запомни, я – нормален! нарушено тело немного... Ну да, я им пренебрегал. Но, значит, так было нужно. Необходимо! В конце концов, единственно правильно – для меня...
Дарья краснела глазами и носом, шмыгала, сгибала голову над своей декадентской спиной.
– Бабон, я мешаю тебе?.. Тебе душно со мной?
Кондратьева мучила собственная грубость и собственное бессилие.
– Бабоник. Все хорошо, ей-богу! Не надо плакать...
Вечером Сашке было реально хуево, так хуево ему еще не было никогда.
Вдруг навалилась страшная ирреальность, хичкок и хоррор, – все было как во сне, в ужасном сне. Искажение звуков, смещение всех слоев ощущений, дьяволиада сознания – штука удивительная, но пугающая одновременно.
До дурноты его штырило, он клялся себе, – всеми святыми божился, господи, господи, господи, на вот этой иконе, на божьей матери, на крови, – что утром он позвонит Кускову и любым мытьем или катаньем выпросит и вырвет у него чеки...
Чтобы вдеть в кровь спасение геры. Единственно возможное спасение – для него.
Назавтра к Дарье пришел какой-то балетовед, кажется, из бывших ее учеников.
Кондратьев не выходил из комнаты – балетовед стеснял его до черта. Стеснял слишком опрятный костюм, слишком умные, навыкат, глаза, слишком эрудированная речь, слишком золоченая оптика, слишком хлипкая журавлиная шея. Нужно было удерживать себя от того, чтоб не измять его костюм, не изломать оптику, не завязать узлом журавлиную шею. При этом тратить душу на гостя, кивать, пить чай, расшаркивать ногами, поддерживать разговор...
Дарьин визитер сидел так долго, и так прилежно лопотал что-то за дверью, что визит этот все не кончался – он мешал позвать Кускова и принять у того героин.
Кондрат заперся в своей комнате и сидел там, желая одного, – чтобы бабушкин гость как можно скорее ушел. Да и комната Сашки была слишком своеобычна, чтобы предъявлять ее посторонним. Несмотря на то, что здесь был правильный легкий бедлам. Последний раз он мел пыль с месяц назад... А бабушка прибирать не могла – не по силам ей было. Он и в магазин бегал сам – Дарья почти не спускалась на улицу. Иногда, у касс гипермаркета, Кондратьев заминал одну-две бумажки, заламывал вдвое и нежно клал себе в карман. Копил как школьник – на еще одну, «левую» дозу.
Магазинные чеки он кидал в ведерко для мусора, там же – в магазине.
Когда балетовед свалил, Сашка вызвонил Кускову.
Едва дожил, его ломало – кости выходили через кожу и терли одежду. Кишки сплетались в клубок и вытекали изо рта. Суставы скрипели и хрустели при каждом движении.
– Денис... – сказал он глухо, нервно, с напряжением. – Ты давно был у Сына? Мне нужны чеки. Пара! три, четыре – сколько ты сможешь. (ЧИСТЫХ, Денис!) Мне срочно… Ломит в дугу, да! Я болею, дома сижу, подгони сюда, ага? И еще... У меня нет бабла. Возьмешь мой плейер, ты хотел? Блин, не упрямься... Это хорошая вещь! Германия, ты сбудешь его на рынке в две цены, чем стоят чеки. Да почему же?.. Типа ты гордый? Хорошо, дай минимум, если так ставишь вопрос. Сколько?!? Ты охренел? Ну, ты… Кусков, мы же были друзьями! Ладно, черт, давай. Только быстро!.. В парадной будешь, мне на сотовый позвони, я дверь приоткрою. Не хочу, чтобы бабушка знала. Незачем ей.
Курьер Кусков привез порошок, выгрузил из нагрудного кармашка и долго ломался у дверей – не хотел отстегивать больше чеков, чем сулил по телефону. Кондратьев отдал плейер. Плюнул на ноль гуманизма и на подонский обсчет. Запер за Кусковым дверь.
Ушел к себе, достал с верхнего угла стеллажа пакет, из него матерчатый сверток, раскатал ткань на столе. Там были шприцы, иглы, жгут для пережатий, чеки с пылью, пузырек спирта, вата.
Не спеша, он замешал дозу в агрегате*. Бледными пальцами бездомного музыканта.
Звонок в дверь заставил йокнуть его сердце. Кондрат накинул полотенце на разобранный набор для инъекции.
Пришел Витька, – нежданный, но, в общем-то, ожидаемый даже. Вихрастый, в куртенке, черных штанах, в своем неизменном бейсбольном кепарике…
– Дверь закрой, – велел Кондратьев. – Заходи, не стой на ветру.
Впустил его в комнату. Виктор сел на кровать...
Бабушка Дарья, возилась на кухне с примочками. Погромыхивала чем-то.
Кондратьев хрипел и кашлял. Постель была застелена наскоро, белье торчало из-под пледа кошачьими белыми ушками. Было видно, насколько мокрое белье. Растянутый свитер болтался на Кондратьеве как ряса.
Выглядел он белокожно и белоснежно – мог заместо Панночки в кино полетать... Худоба подсвечивала скулы.
– Ты болеешь?.. – спросил его Витя.
– Болею. – Кондратьев кивнул одними глазами. – Я жизнью болею, Витька. – Усмехнулся.
– Может, в больницу тебе? С твоим вирусом вроде нельзя болеть сильно…
– Блин, ты как бабушка! – вздернулся Сашка. – Пойду, пойду я в больницу... когда совсем настанут кранты. Туда и пойду, куда больше. – Он продолжил мутить с жалом.
– Чуть погоди. Я щас.
Сашка всосал в иглу раствор, плюнул на пальцы, растер ими углубление под коленом. Виктор молча смотрел.
Первый раз он видел открыто, как брат качает себе наркоту. А Сашка первый раз не скрывал – не до этого было.
Если б не вштырил – упал бы.
– И что, как скоро от герыча бывает приход?.. – спросил его Витька.
Кондратьев усмехнулся, невесело.
– Да какой там приход, – сунул иголкой в локтевую вену и пошел дальше...
– Сунул ради самого процесса «сувания»?
– Нет уж, братко. Употребление имеет вполне конкретную цель, – поправиться, физически придти в себя... Сопутствующие эффекты меньше всего интересуют.
На руках вен не было: Кондратьев вставил под колено. – Да и не приход в опиатах главное…
– А что главное?
– Есть нюансы конечно, но в основном – абы не кумарило, и добре... Рутина, в общем.
Как завороженный, Виктор смотрел, как игла пронизает подколенную ямку, с невидимым канатом сашкиной вены, – исторгая каплю драгоценной красноты.
– Но ведь кумарить начинает далеко не сразу?.. – Спросил он брата. – Надо уже какой-то стаж поиметь для этого, так? А что главное до того как? ну, до стажа?
– Виктор, запомни. Вкури на всю жизнь, и не спрашивай меня больше...
Кондратьев спустил выборку наркотика, выткнул иглу наружу. Выдохнул.
– Главное – всё. Абсолютно ВСЁ. – Он снял иглу, утопил в пустое дуло пластмассовый поршень, завернул шприц в бросовый лист газетной бумаги. – И это ВСЁ дает человеку гера... И это не в переносном смысле, а абсолютно всё. А потом и забирает то, что дала, и еще то, до чего может ДОТЯНУТЬСЯ. – Он откинул голову, закрыл глаза, дышал. – То есть, вообще всё.
И насовсем. ВиктОр...
. . .
Малиновых полосок было две.
Сильные и мутноватые – точно две пробившиеся к свету подкожные венки.
Две полоски – это удар под сердце, в районе желудка. Удар – либо радости, либо сосущего холода, в любом случае для женщины это удар. Арина положила влажный еще тестер на салфетку.
Был день молчания.
Бессодержательной тоски, – которой, как медленно катившейся ленте реки – не было конца. Время было – северная река, несущая на плечах своих широких вод лоскуты и заплаты сплавляемого леса, чернокожие остророгие топляки. Барашки водоворотов, буруны, бущующим хрусталем кипящие пороги только подчеркивали неповоротливость реки.
Река не знала ни конца, ни начала времен.
Таково было время Арины.
Она почти не говорила вечером с Артемом.
Кондратьеву она позвонила наутро.
Волны сети принесли к ней горький респираторный кашель, и туберкулезный голос Сашки отвечал: «Да!» Слежалый, вымокший, полный шорохов как измятая газета. Вдруг заломило сердце – нежностью, развалилась надвое решимость быть безличной и строгой.
В сердцевине разлома замерцал восхитительный камешек нежности – блестка золота в отхожей горной породе.
– Что с тобой? – сказала, дрогнув.
– Болею, – отвечал Кондратьев. – Гриппак... Или, возможно, пневмония. Сильный кашель. – Как ты?
«Я.……....» Что-то растеклось и начало таять внутри куском испорченного масла. Едва взяла себя в руки Арина.
– Шурка! Сколько было презервативов – т о г д а...
Он выкашлял мокроту куда-то в сторону. В платок или полотенце.
– Три штуки, – отвечал ей.
– Был поврежден хоть один?
– Не был. Не тревожься... А что?
– Я записалась к врачу на аборт, – помолчала Арина. – Я беременна, Шура.
Кондратьев молчал также. Не тяжело. Устало, скорее...
– Арина, оставь его, – сказал наконец.
Продолжал, плевком кашля выбив засор из гортани. – Пускай будет Шурка-второй. Пускай придет на землю. Может, хоть этому повезет… И у меня еще не бы… – Глубинный треск и кашель снова. Кондратьев отхаркивал, не мог говорить. И что-то в его голосе заставило Арину откатить диалог назад.
– Я задаю сначала мой вопрос. Сколько было пре…
– Блин! четыре, – Кондратьев выдохнул комок воздуха в самый динамик. – Один вылетел сразу. На самом пике... Но я немедленно вышел. Ничего не попало. Верь мне, Арина.
– Ты помнишь точно?
– Да, вроде. Мне кажется, так...
Ни фига не помнишь ты, Саша Кондратьев…
– Почему ты не сказал мне тогда же!
По лицу Арины скатывались слезы.
– Я принимала нарко еще две недели. Млин, две недели! Когда идет закладка органов, мозга... Ты понимаешь, что это значит. Что малыш может стать уродом!
Арина слушала охрипшее дыхание его. Она слушала, и упреки замещались в ней жестокой и разъедающей нежностью. Беспокойство за мужчину брало в ней верх над беспокойством за дитя. И, как врач, она знала – если это пневмоцистная пневмония, то это приговор. Для него. Без кассаций.
– Позови врача! Если у тебя легкие, ты себя вгонишь… Блин, Шурка, так нельзя!
– Я зову врача. Приезжай ко мне…
– Я не пульманолог.
– Я знаю. Приезжай все равно… Ты приедешь? Может, мне полегчает от тебя.
– Я не могу. Мне завтра… Ну, ты слышал уже.
– Сегодня приезжай.
– Не могу. Артем придет уже скоро.
– Ну, желаю тебе радости, с Артемом. Пока тебе! милая доктор…
Кондратьев дал отбой.
Смялось и высохло «Береги себя», которое она хотела сказать ему; высохло и стянулось в комок. Арина выключила телефон, на офф полностью, отбросила нокию – спичечным коробком – на стол.
Она легла и завернулась в оба одеяла – свое и Артема. И было легче от того, что артемово одеяло отказалось ближе к телу: она целовала его кромку. Это было то, что защищало… Ее, навсегда. Она дышала и думала. Сердце постукивало в ней. Вечная машинка, трудолюбивая как солнце, – ни часа отдыха, ни минуты, ни мига.
Горячий скисший кефир наркотического семени – несколько ласковых ложек, – разрастался и множился внутри нее, закручивался в осмысленную запятую: живую и теплую, с любовью и легкостью сосущую кровь из нее – мягкий хитин будущей жизни, не больше креветки. Отравленный героином, искалеченный любовью и безысходностью.
Шурка-второй. Шурка неповто……...
Наследник златоглазых героиновых богов.
Запятая жила и скреблась, неощутимыми царапинами, в пузыре Арининой плоти, – размером с пять рублей.
Но это было дитя героина.
Она принимала. Она испортила кровь и мозг – этому хрустальному зарождению.
И он уже нес семена не-жизни.
И ей придется щипцами вырвать запятую. Сгноить и выдавить. В канализацию… В кюветку абортария. И ей никогда не сжать чудесное тельце – мокрое и визжащее. Не дать высосать из соска – ее собственное сердце. И это правильно, что она не даст рождение наркоману. И это счастье – что через пятнадцать лет ее не обнимут юношеские мускулистые руки... Красивые как у Джареда Лето. И никто не скажет, покачивая ее плечи: «Мамуууу, привет!»
Пачкая ее шею шорохом младенческих усов.
Это – с ч а с т ь е?.........
. . .
Медицинский бог был бесстыден, неприветлив, молчалив.
Железные скобы боксов и кювет. Легкое и нейтральное серебро пытательных инструментов.
Серая марля окна, за которым мелкий песок пылевого дождя.
И раскрытое – с вывернутыми упорами – кресло, холодное как мокрые лапы морской некормленой чайки.
Живая человеческая чайка раскроет здесь крылья, и между них – крючком для чистки отходов – вынут ставший бесполезным для нее венозный лепесток или тромб. И придадут крыльям снова товарный вид, драпируя озябшими перьями новорожденный надрез…
Увечная чайка снова готова к полету. Но она стала легче на один лепесток или тромб – и память о нем не сотрется в ней до исхода ее ливингстонных полетов. Ведь из лепестка могло бы вырасти еще одно сильное сердце, удвоив аэродинамическую ее силу.
Отходя от наркоза, Арина сидела на койке, смотрела в октябрьское светлевшее окно.
Больше не было Шурки-второго. Цеплявшейся жизни – размером с монету. Шелушинки звезды, опавшей на землю – точно туда, куда упасть собиралась…
Больше не.
Это был роддом. Там кричали дети. Ниже этажом. Совсем еще внутриутробными, едва прорезанными голосами.
Нельзя делать аборты – в роддомах. Это противоестественно. Преступно.
Сердце матери, позволившей убить – только что! – оно добивается этими голосами… Котеночьим ревом и плачем, похожим на скрипящие двери. Двери в Будущее, которые навсегда закрылись – для ее дитя.
Он ушла пустая. Ее глаза не видели солнца. А солнце – вдруг показалось. Размело кисель дождя, разнесло непогоду. Был осенний, чистый, на редкость звонкий полдень.
Едва ли что-нибудь вечером заметил Артем – ужин, какой-никакой, Арина поставила на стол, и была даже причесана, и даже присутствовала (кажется) в доме, как присутствует и дышит на стене акварельная тень, как дышит – легким остуженным паром – возле форточки воздух.
Ни заторможенность, ни бледность Арины не были Артему в новинку.
Была ночь, они спали рядом, не обнимая друг друга.
Артема давило и раздавливало одиночество. Жена уходила – из тепла и уюта семьи; он был один, и она была одна, – с собой она не брала, и куда уходила она – он этого не знал...
Ночью был сон, где последний раз она видела сына.
Шурка был белый как выстиранный в щелоке. Казалось, белые были даже глаза. Он был особенно тщедушен. На колючих плечиках висел тот самый бедуинский халат – с веревочным поясом. Только оружие не было воткнуто за веревку.
«Мама!... Ты разрешила вырезать меня, – сказал Шурка, протягивая ладони. – Я так старался, мама. Я шел к тебе снова». На запястье его была пробоина, похожая на когдатошний артемов стигмат, – лагерное ранение ящиком. Шурка присел на корточки.
Он смотрел на Арину, поджимал веснушчатые губы. Ветер перебирал и перетрагивал его пламеневшие в закате волосы. Голые икры и щиколотки, затянутые в сандалии, мерзли от сквозняка вечернего ориентального ветра. Ежились от укусов его.
Потом Шурка встал и пошел прочь, цепляя сандаликами планету. Песок летел и сыпался – горстями белых крупинок, клубился рваным дымком, вздрагивал от каждого шага. Солнце падало в золотую чашу распластанных и отглаженных небом песков, похожих на пенку каппучино. Красные узкие тени ложились на почившие холмы косыми горизонтальными линиями.
Арина поняла, что сын уходит навсегда.……..
Она открыла глаза и посмотрела в потолок.
Потолок был трезв, ровен и чист, – каким бывает высокое безызъянное небо, когда выныриваешь из-под воды.
И вдруг все завертелось перед ее глазами. Уже не потолок был перед ней, а водоворот – жуткая воронка, которая затягивала Арину в себя...
Ее лицо исказилось, – как искажается лицо всякой женщины, когда ее сердце падает в кашу смятения, улетает в поток неизвестности, страха, мучений.
Арина хваталась за собственные руки, грызла собственные ногти, глотала воздух выдавленными наружу глазами.
Ее вертело, бросало, крутило. Глаза ее лезли из орбит и смотрели – на себя, Арину, со стороны, – на ее метания, ее муки и судороги. Она кричала. Она билась. Она скалилась на Артема, а тот не мог понять, откуда в таком маленьком, хрупком, незащищенном тельце столько силы...
Она вырывалась, и никак ему было ее не удержать.
С перепугу, проснувшись, он увидал колотившееся тело жены, – и не мог понять, что с ней, и что делать ему – Артему… Он навалился на нее всем телом, пытался удержать руками, ногами, и, кажется, чуть-чуть не зубами. Руки белели в суставах, он сжимал ладони в узлы, пробуя подавить мечущуюся жену.
Он не понимал. Он видел, что Арина не в себе, что у нее бзик….….. Борьба продолжалась десять минут. Наконец конвульсии стали тише. Остался крик, – крик, который выходил из ее горла. Долгий, протяжный и страшный.
Артем разомкнул объятия. Жена лежала, как будто, спокойно. Но продолжала кричать. Крик этот проникал в его мозг – Артем не мог его слышать больше. Подхватив одежду, он вышел из спальни.
Была суббота, Арина осталась лежать в кровати.
Артем уехал на кладбище. К Шурке… Просто для того, чтобы уехать. Просто для того, чтобы не быть. Не слышать. Не видеть.
Да и кто остался у него на этой земле – кроме Шурки.
. . .
Самое главное – переступить.
Не закрыть глаза, когда сизоватая бечева вены, одетая в условный камуфляж кожи, прогибается от легкого нажатия иглы, и под самое горло – токсическим накатом тошноты – подступает сладкое отвращение, и веки смыкаются сами собой, – важно вот это, не спасовать, не дать взять верх физиологии дрожи.
Ты готова проткнуть свой напряженный локтевой арык, ты правильно – вроде бы? – разболтала в спирту белый порох небытия, в чистой банке из-под майонеза, вымытой яблочным fairy – вскрыла баян, сняла «гараж» с игольного жала, совокупила с головкой шприца иглу и подсосала в него дозу.
Спустила полкапли влаги с самого зернышка острия……...
Арина сжала зубы и осквернила поцелуем иглы кожный покров над выпуклой жилой.
В жиле бежала и пряталась чистая сильная быстрая кровь. Ввела. Положила на стол агрегат нирваны и зажала локоть.
«Зачем пестовать и лечить это тело……….
Когда все тело – это перешеек от поцелуя до нанизывания тебя на НЕГО. И гул эритроцитов бушует, кипящим гранатом срывается с маятника сердца, сбивается с ритма, заклинает и ворожит.
Когда два кровообращения – все еще, в мыслях! – переплетают свои кольца, – как в шутке фокусника: не разъять, не вывести одно кольцо из другого, и вдруг – легко и точно – отделяется одно, и это кольцо-кровообращение – твое, и ты удивляешься, что ты можешь существовать автономно.…
Тогда приходит он, король Дроздобород – чистый и ладный, молодой как надкушенный месяц.
Он склоняет голову, он ведет с тобой учтивые речи; он дарит тебе розу с карминными платьями лепестков, и соловья, знающего все языки мира, и особенно пали, на котором слово «любовь» звучит так безыскусно и притягательно.
Но ты смеешься, – тебе не в диковинку ни роза, ни соловей, а язык пали не тревожит сады твоего сердца. Ты прогоняешь дарителя.
Дроздобород снова приходит к тебе – теперь в отребьях, и ты не узнаешь его, – он отвратителен тебе: калека, мужик, побирушка; но ты идешь с ним – потому что так велел старый король, твой отец – ты отдана первому оборванцу, который ковылял мимо окон дворца. Ты разделяешь с ним нищету, ты лепишь горшки, метешь лачугу и варишь суп из чечевицы, – кротость твоя единственная доблесть, ты подчинилась судьбе; ты почитаешь этого нищеброда как защиту и мужа, ты склоняешь голову перед ним – принцесса голубых венозных кровей...
За это однажды он сбросит свое рубище, смоет сажу и скинет свой уродливый колпак, откроет юношеское лилейное лицо, – и вы сплетете руки, как раньше сплетали кольца кровообращений, и войдете в свет – чистые и ладные, исхудавшие как два надкушенных месяца.
Кондратьев…
Я больше не хочу спасать мои дни – делать их осмысленными – без тебя.
Ты успел посадить во мне зернышко, которое развилось в ущемленный росток – годный лишь для посадки в банку с формалином. Кунсткамера, человеческий моллюск, гомозигота пыточной нежности.
Жидкий экстази твоего изумления попал в самую выемку моего средоточия, как если б ты плеснул в меня морскими каплями, усаженными брызгами солнца – крича и купаясь в прибое.
В тот самый день – когда сгущенный свет стекал по желобу твоего позвоночника, струясь и перекатываясь с диска на диск, собираясь в копчике точно в ладони, и вдруг взрывался истерикой звездного плача в твоих тренированных мускулах – чтобы освободиться...
Когда ты вошел – тогда! второй раз, в кабинет наркологии, – небо подломилось надо мной, оно посыпалось на меня восставшим столбом штукатурки, и стало горько от пыли – ресницам. Пыль засорила их. Бог упал на меня вместе с крупными кусками неба. Тяжело же Ему было... Авторучка в моей руке дрогнула, и сердце выкатилось из глаз – двумя ослепшими теплыми сферами, в которых все еще стояла влага. У меня устали глаза – видеть, как ты курил. И видеть, как ты держишься, словно не дорожишь ничем и не принадлежишь никому. Твои джинсы напоминали мутно-сизые подкожные канаты. Канаты были потерты, повреждены. Кадык похож на осколок морской раковины. А в пальцах – ты прятал завтрашнюю никотиновую боль. И эта боль была моя...
Ты перестал помнить меня, – но я была в твоей жизни.
Я была – где-то рядом с твоим подорванным сердцем. Ненадолго; пока это не стало опасным для твоей уединенной и самодостаточной жизни. Тебя и геры. Вас обоих…
Вас испугал капслок моего сердца.
Она ненавидит меня – гера, но я не соперница ей. Я только потрогала пальцами рисунок твоей удивленной души. И я лишь вынула из твоих глазных яблок два утомленных зрачка, и вставила в них два пьяные солнца. Я смогла назвать тебя именем, которым, я думала – больше не назову никого...
Я поняла, что ты – дитя, которое Бог протянул мне потрогать. Он позволил мне это. Дитя обрадовалось, и сделало со мной что-то – что делает только мужчина. Дитя было счастливо думать, что я ему принадлежу.
И нет никакой разницы, что тебе – 29... Я младше тебя ровно на один человеческий брак. Шесть лет – время любви к тому, кто дал мне право снова верить в мужчину.
Смею думать, что я предана мужу, но мое сердце раскрылось еще для одного Человека… И только ты опасаешься верить, что женщина может любить одинаково сильно двоих. Стопроцентно, это так... Говорю и знаю это, как женщина.
Я даже не знаю – подарил ли ты мне серебряный вирус… Мне это, в общем, все равно.
Все лечится – любовь, как ВИЧ тоже, и только от тебя я излечиться не могу.
Я хочу целовать твои……... Прости. Я глупа.
Мой замученный и уязвимый ребенок – Кондратьев Шурка, мужчина, которого я закрою от всего. Возможно, ценою себя.»
...
Артем пришел с пакетами продуктов из «Пятерки». Едва упер. Арина давно не заботилась ходить в магазин, – жила жизнью курортницы: хочу – хожу. Не хочу – муж принесет.
В комнате было темно.
Он обрушил пакеты на пол в кухне, вошел к Арине. Зажег свет.
Заметил, что злобно зажег, просто вдарил по выключателю.
Арина лежала без движения.
Артем выключил свет и вышел. Квартира была в том кошмарном состоянии, в котором пребывала последние месяцы. Квартира без женщины – это пустыня. Пустыня дохнула в сердце Артема...
Через час он заглянул в комнату снова, – он готов был уже не просто растолкать Арину, а надавать пощечин ей, если не наорать.
И он испытал ужас, когда он поднял Арину за подмышки с кровати – и вдруг ее ноги сломались. Она валилась ничком. Голова ее откинулась. Едва не хрупнула шея – в месте соединения с челюстью. Коса, дурно заплетенная со вчера, взлетела и описала латинскую букву S.
– Б-бляхо.
Артем начал щупать биение жизни – под ее шеей. И он не понял: есть там что-то, нет?... Его руки тряслись.
Скорую он вызывал – покрываясь льдом пота, мертвея и заикаясь. Трижды адрес проорал – тамошняя клуша, на подстанции, въехать не могла, что «семьдесят два» – это номер квартиры, а код сто пятьдесят четыре – это код, а не попытка послать ее нах*.
Карета примчалась через двадцать минут.
– В крови вашей жены высокая концентрация опиатов… – сказал врач.
Реаниматолог, рукастый и бородатый мужик. Как-то больше он смотрелся б в легкоатлетах или в лесниках. Чем в эскулапах.
Было склизкое утро, в молочной пелене облаков – Елизаветинская больница, семь предрассветных часов. Желтая лампа лгала об уюте и доме; капал кран, плохо завернутый после подсоса в электрочайник фильтрованной влаги. Медсестра гремела чем-то в углу кабинета. Бородатый жевал губы и постукивал по столу.
– Опиаты – это… – сказал Артем.
– Наркотик. Возможно, героин.
В окна стучал дождь. Мозглятина осаждалась на город, раскрывала посконные рукава, растряхивала гниловатый поролон тучек горошинами влаги.
Было особенно тепло от этого – в кабинете. Пахло лекарством и сигаретой – ни того, ни другого запаха Адулас не переносил; но реаниматологов, как родителей, не выбирают.
– Наркотики? – Артем мотнул отрицательно головой. – Да нет... Арина пила седативные таблетки. Снимала стресс, напряжение.
– Ну, я вам ручаюсь, это не таблетки. И это доза, достаточная для суицида...
– Ччерт!
– Ищите причины. Что побудило. Пересмотрите вашу жизнь. Вот все, чем я могу…
Весь следующий месяц был месяцем Капельницы.
Раствор капал, капал и капал. Слезы жизни вливались в Арину, растворялись в ней…
Артем взял отпуск в «Арбалете» – шеф пошел навстречу.
Он просиживал в больнице каждый день или вечер – конечно, без толку. Просто БЫЛ. Присутствовал. Пустыми глазами провожал он аринину подругу (кажется, Света?..) Ничего у тебя ноги, Света.
Глядел на тещу с тестем. На сопалатниц Арины... Какую-то еще семикисельную родню. Сидел в палате, бродил в коридорах.
Арина спала почти постоянно, – ее кололи, только нейролептиками теперь, полоскали растворами; сгибы рук ее штырили иглами – пятна голубели, разливались в разбойничьи кровоподтеки, на нетронутых прежде венках негде было ставить пробу.
Когда Арина очнулась и обвела палату акварелью замутненных еще глаз – Артем припал к изголовью и, после ритуальных : «Как ты? Я здесь... Ты что-нибудь хочешь?», спросил ее отрывисто и жадно:
– Где ты брала дурь, Ариша?
– Нен…….. ада. Ртём…. – отвечала воспаленными губами ему. – Я не………хч
– Кто дурь тебе давал? Имя назови!
Она замотала головой. Ее коса была похожа на пук нечесаной солнечной пакли, перепутанной с застиранной простынью.
Его попросили выйти – Арина зарыдала. Скорее, нет, не зарыдала, а заскулила, – как скулит и тянет скрипка на верхнем регистре, с тусклым и окисленным подвоем; – медленно и недвижно разворачивала Арина в подушку лицо, наклонялась над нею плечом, все еще не касаясь подушки лицом – и тонкая эта нота длилась и длилась, на одной и то же высоте, звеня натянутым проводом, пока, наконец, не перекрылась белым кляпом подушки.
О ком же можно так скулить! О КОМ…
О ком, бля, о ком.
Арина начала подниматься, ходить. Мать ей помогала.
С Артемом она не ходила – Артем вызывал в ней протест. Она не могла касаться мужчины.
Душа покидала тело, которое бродило по крашеным кишкам коридоров... (Для чего?) Наконец – глядя в стену – она сказала:
– Ты принеси мне ниток. – Арина сцепила пальцами кромку халатика. Сжала в горсть пальцы. Отпустила, оставив измятый вихрастый, как затылок щенка, хохолок. – Шерсть... И спицы. Спицы помнишь, где лежали? Их принеси.
...
Это было главное – нитки.
Шерстяные и тонкие. Ровность их, без малейшего узелка, и то, как мягко они ложились в пальцы, опутывая ворсом шерстинок фаланги и ногти. Ровные зяби вязаных строчек, петли с накидом, без, с накидом снова. Цвет солнечно-розовый как язык младенца – или белки Кондратьева, – последний раз, два месяца тому; тогда…
– Привет! Что ты делаешь?.. – спросил Артем, войдя к ней с очередным бомж-пакетом из «Пятерки».
– Арина вяжет шарфик. Для Шурика... Ветрено, октябрь. Не надо пилить меня, что все можно купить в детском мире. Я хочу сама.
Артем как стоял с пакетом, так и сел – не выпуская пакета.
Что-то он еще пытался собрать и реконструировать в осевшем в эту минуту мозге. Не дать ему рассыпаться. Слететь с винта.
Он молча похрустел сморщенными – как кожа старухи – ручками пакета. Потом сказал:
– Ариша. Как зовут меня…
Та посмотрела с нежностью на него. Совершенно ясными и чистыми глазами.
– Ты Артем. – Она улыбнулась, точно солнце задело ее веки. Подумав, она прибавила: – Артем любит Арину…
– Я не дурочка, перестань. – Засмеялась она.
. . .
Адулас шел домой; ему мерещился шарфик, и то, как Арина наклоняла голову над нитками, и потом искоса, точно птица, взглядывала на него, – Артема... Закусывала губку, притуляла голову набок.
«Чего ты смотришь? Смешно тебе, что я вяжу… Маюсь дурью, как бы, да?» – Потряхивала спицами, с флажком вязанья, в воздухе, держа их точно китайские палочки. – Я хочу своими руками, я же – мамка. Хочу сама!.. ну пойми».
Арина утыкалась в вязанье глазами. Шепталась как птичка, накидывала петли, обматывала ниткою пальчик, продевала, натягивала, расправляла, язычком снимала воздух с губы. И больше не замечала Артема.
Он ушел как чужой, спина его была взъерошена холодом.
Пальто не могло согреть его. Снег скрипел под ботинками. Как снег давилось – ломалось! – что-то родное, привычное, тяжелое как асбест слоистого неба, хорошее, блятть, господи, чистое, настоящее, никогда не обратимое больше теперь.
Ветер жег и сек под штанинами ноги.
Артем шел и думал: я найду гада... Я землю перерою, из-под земли его выну, и с этой землей его пережую.
Смыкались двери автобуса; Артема мяли локти и колени пробившихся пассажиров – халява общественного транспорта, господа – сдай назад! Оба-на, мне куртку защемило; Натаха, Жорка, все влезли?!.. (давёж, стон, ржач и матер) – бил по скуле ремешок поручня, языкатая контролерша отоваривала билетом: «Не стойте на проходе, молодой человек!..» – наконец, холод его собственной остановки падал на грудь.
Вечер сжимал Артема, высасывал сердце….……
Артем протягивал руку в пространство, – он брал за горло свое горе, он сжимал своему горю позвонки, они ломались как печенье – у горя было белое как маска лицо, в глазах струился холод.
Дома Артем разгреб стол, разрезая бумажное море на две части – влево и вправо, наращивая пену боковых листков. Прочищал стрелу чистоты, как носовым лезвием судна. Чашка с утренним кофе отъехала на бровку стола. Джазовый диск «Дети винила» был схлопнут пластмассовыми клешнями чехла и заброшен на полку.
Он вытряс из арининой сумки записную книжку и ежедневник.
Пролистал все последние записи – все 32 буквы…
Откуда наркотики, как не от нариков. От ее пациентов – торчков, желтушников и криминальных подсосков, пережегших свои мозги кислотой – героин от кого-то из них………... Где еще чистенькая девочка-доктор достанет.
Последние записи не рассказали ему ничего выразительного. Он кинул книжку на стол.
Он тер лицо, думал... Он напрягался.
Логика, логика. Вспоминай бывших ее пациентов… С кем она ближе была. Черт! никогда он толком не знал ее пациентов. Не помнил, чтоб она сближалась с кем-то. Только случаи какие-то. Обрывки фамилий… Фамилий. Фамилий.
Думай, юрист, думай. Напрягай вещество.
А! ну, вот, раз – тогда она хвастала про одного… Какой он правильный и честный. Давно, весной еще. Как же фамилия его была?...... Колесников... Куприянов?
Не то.
Артем взял книжку снова. Последняя запись на «К»…..… Ну же. Ну же, листайся давай.
«Кондратьев Саша»...
Кондратьев!
«Это вообще человек, который ни разу мне не соврал, – вспомнил он, ударом в сердце, аринин рассказ. – Ни на одной из бесед!.. Все наркоманы, Артемка, офигительные вруны. Ибо у них сильная мотивация – герыч, и они сами начинают верить в то, что говорят. Например, когда они приходят сдаваться в ГНБ, они свято верят, что завяжут… Сколько детокс идет, столько и верят. И все говорят, что героин зло, и мы обязательно прекратим употреблять. Но не Саша».
Саша.
Собака.
Сволочь.
Он ли?
Да, но именно ли Кондратьев давал Арине наркоту?
Возможно, они только общались (терапия), а снабжал ее другой... И где гарантии, что он – Артем – не наедет на невинного человека, пускай даже на психа, наркомана и тунеядца.
Назавтра, в больнице, пока Арина спала – Артем вдоль и поперек перешерстил ее сотовый.
Никогда он не лазал ни в ее телефон, ни в ее ноутбук. Но – выбор, выбор, кто ему оставил выбор…
В ее сотовом был вал входящих эс-эмесок от абонента – Шу.
Содержание их было отвратительным. «Кусков не отвечает, похоже я завис с герой». – «Когда ты придешь? Седею! Твой экстази». – «Пиздец, у нас целых пять граммов». – «Кука! я целую тебя изнутри». – «Ширка светит в понедельник!»
Артем почувствовал желание переломить колено арининой нокии-раскладушки. Как колено саранчи. С сухим и звонким треском.
Исходящие эс-мэ-эски он читать не стал.
Понятно, что Шу – и был Кондратьев. Сличение номера с записной книжкой это подтвердило.
Артем записал номер в свой сотовый телефон. Немного подумал, как его назвать. И назвал просто: «Сволочь». Посмотрел и понял, что ему полегчало. На всякий случай решил проверить: записалось ли. Буква «С» отказалась в конце списка. Артему не понравилось. И он набрал: «А.Сволочь». Для того чтобы эта сволочь была первой в его списке.
Теперь все стало на свои места. Пазлы были сложены, бреши заполнены.
Осталось понять, что с этим всем делать.
Его анонимная ненависть к Кондрату набирала обороты, загущалась в нефтяные пятна тяжелого нерастворимого осадка. Артем знал уже, что найдет его, устроит с ним встречу, выдернет в безлюдное место, и пришьет, задавит в первом отхожем углу.
Спустя какое-то время гнев остывал... Адулас подумывал, а как, собственно, он пришьет Кондратьева? Нож, пистолет, удавка? как вытащит на встречу?.. И чем дальше он думал над предстоящей работой – тем больше и больше понимал, что убить он не способен... Не потому, что трус. Не потому, что гуманист. А потому что за свою жизнь не сломал зеленой ветки.
Потому что собирал для костра только сухой и умерший хворост. Потому что живое делать мертвым – не в его характере. И потому что оружие, которое он любил ласкать и лелеять, которое он продавал изо дня в день разным людям – научило его отделять тех, кто способен воспользоваться оружием, и тех, кто не способен.
Оружие для Артема было искусством. Кто-то вешает на стену картины, а вот он, Артюха, предпочитал ласкать руками полированный металл магнумов, вессонов...
Что делать, с этим гадом Кондратьевым. Что делать… что делать.
Самое лучшее – скинуть ментам. Все им рассказать. Да, многое всплывет про Арину, – но и Бог с ним. Зато этого укурка разопнут по полной, и он, Артем – не возьмет кровь на душу. Надо его вытащить – вытащить и понять, где он есть.
И такой ниточкой, такой веревочкой, которая тянулась от Артема к Кондратьеву, – был номер телефона.
Арина – с той ясно... Женщину повело: новый мужик, свежачок-с! не такой как он, Адулас, правильный, не такой нудный – адреналина подсосать с ним, танцы гормонов, экстазы – устала мучиться по сыну, заела работа, отдохнула и расслабилась мальца…
Кто судит женщину? Тот, кто не в здравой памяти…
Мозг женщины стерилен от долговременной верности, – ее мозг сиюминутен, она жива впечатлением; ее ведет чувство, траханое чувство – она идет по улице, она стоит в очереди, она спускается в метро, она заходит в интернет – и вдруг удар с ней: чьи-то глаза, чья-то скула! чей-то разум, чьи-то пальцы... Если эти пальцы – бишь, хозяин их! – к ней обратится, да на секунду замнутся, и глаза задержат глаза, и потянет недосказанным словом – а дальше не стоит! дальше вывод известен, додумываем сами, а женщины все расскажут за себя и за нас.
Мужик попользовал, браво мужику. Взял свое, еще и праздник поимел…
А что он оставил после себя – это дело мужа; тому за нее отвечать, тому тянуть, лечить, возиться. Любовь женщины (мессиры, слово-то какое!) искалечила семью, ее саму, мужа искалечила, но все нормально, разве кто осудит – женщина права всегда, это мы идиоты, тянем, верим! заботимся; по морде нас – все верно, покрепче, чтобы не расслаблялись; «Кука, я тебя изнутри...», да убил бы обоих! с лица земли, ее первую, его на ближний сук за яйца, или в лоб пистолетом…….. …… Черт, что я думаю, все, ладно, Адулас, все, закончил! тормози.
Он тормозил, он схлопывал слайдер, он давал номеру Кондратьева скиснуть вместе с дисплеем.
...
Арину выписали; напоследок ее накачали таблетками – накануне был приступ, – и врач сказал: не хотите в неврологическую лечебницу (в дурку, бишь) – везите домой; ей нужен дом и тепло, а там ее заколют, вы ее не получите месяцы, – так что, лучше от греха; честный был врач, пощадил. Артему везло на хороших людей.
Он сгреб Арину на руки и, разнимая собой воздух, понес к автомобилю.
Арина свешивалась с рук как ватное одеяло. Щека ее тлела томительно-бледным, – ущемляла нежным душу, как чудесный устричный моллюск, показавший наружу свою нечаянную галечную плоть.
Наверное, ничего легче Артем не носил в своей жизни. Винтовка и та, ему казалось, весила куда тяжелее.
Дома он положил Арину на кровать, раздел, погрел две безответные ладони. Целовать ее – было как целовать одеяло или диванный валик. Тот же бархат, та же безучастная теплота.
Два дня он прожил в полной вате.
Арина лежала тихо, не подавая признаков жизни, даже, казалось, почти не дышала. Артем ходил туда-сюда по квартире, – боялся включить радио, боялся включить телевизор, вообще, боялся дышать... Прислушивался и не слышал ничего.
Так дальше продолжаться не могло. Внутри поднимался протест, зарождался крик, но выйти этот крик не мог – он мог разбудить Арину…
Наконец, вечером, Артем выскочил к телефонному автомату – их стало мало в городе; ближайший у магазина «Спорттовары». Артем набрал номер.
Господин наркоман не брал трубку минуту. Артем хотел уже бросить. Бери, сука, бери трубу! злился он на себя. «Кондратьев», – отвечали ему наконец.
Голос был лет 25ти, ровесник, похоже... ну да, Арина бы не глянула на старика. Совсем уж издыхающий элемент вряд ли был ей ценен. (Спокойно, Адулас.)
– Саша? Привет… – Сказал Артем как можно более твердо. – Ты не знаешь меня. – Пауза. Вдох. – Один человечек тебя рекомендовал... Проверенный. Тут дело такое. Подзаработать хочешь? Мне срочно нужен порох. Пара чеков... В идеале, четыре.
Наркоман помолчал. Он думал. Потом он сказал:
– Тебе какие чеки? Внешторга?.. продуктовые? На офисную оргтехнику... Откуда мой номер у тебя.
– Товарищ твой дал. Не знаю ваших дел... а он просил себя не называть. Сказал, ты и так поймаешь слету. Я обещал – не называю. О деле продолжим?
– Ты ему обещал, а мне-то назови. Уж я тебя не выдам, – отвечал наркоман.
Вот, ссу…
– Я не понял, у тебя нет пороха, или я попал не туда? – сказал Артем, титаном воли держа себя в руках.
– И не туда. И без пороха. Ты не напрягайся, я все равно не знаю тебя, – отвечал наркоман.
Рыба уходила с блесны, едва порвав крючком губу, да и губу-то так – нетравматично......
– Хорошо, тогда найдем другой источник.
Артем шел ва-банк. Сказал без раздражения. Прехладнокровно. – Я думал дать полторы цены. Мне срочно нужно, я уезжаю… Ну, на нет и суда нет.
Кондратьев помешкал – он переваривал суть. Видно, примеривал, как скоро он перекрутится сам и намешает для лоха левый дозарь. И сколько сыпанет для себя. Чем они мешают там? для лохов. Господа аптекари и провизоры, кадуцеи и саддукеи…
– Блин, ну ладно, давай, – отвечал он, мягчея.
Пуля легла в девяточку.
Условились встретиться завтра в девять вечера у метро ****.
Назавтра, после «Арбалета», Артем сменил аринину мать, весь день пробывшую с дочерью. «Как она?» – «Молчит, Артюшенька… – плакала теща. – Ест мало. Но я помыла ее. И вот еще винегрет в холодильнике… Драники тоже». Хороший теща была человек, – не лезла, не упрекала, не делала оргвыводы. Везло, везло Артему на людей.
Она уехала.
Есть он не мог, и с Ариной сидеть не мог. Да она и спала.
Он сидел в кухне, разглядывал пистолет, поворачивал плоскостями в руке. Ласкал фалангой пальца спусковой крючок. Глазные яблоки мутнели. Его тошнило от головой боли – тупой и веноразрывной.
Нужно встретиться, просто встретиться. Прижать наркомана. Узнать, где живет, и скинуть ментам. Пистолет он брать не будет. Ни к чему. Пугать стволом – дешевая игра.
– Ты спи, Кука, – сказал он Арине. – Я скоро вернусь.
. . .
Кондратьев опоздал на десять минут.
Артем ждал его. Наркоман был крепкий и высокий, хотя исхудалый уже. В куртке-аляске, с шарфом, по кадык залепившим шею, с непокрытой неостриженной головой.
Он был похож на молодого борцового утомленного пса, с талыми язвами глаз и ртом. За фаянсово-молочными зубами пса, нежными в своей голубизне, копилась едкая горячая слюна. Пса – мужественно дохнущего от чумки.
И что, вот этот……... Вот это чмо? остаток от человека? Она на это купилась?
Он же больной, у него руки дрожат. Такого убить зазорно даже – он на ногах не стоит.
Лицо Кондратьева было лилейно и хирургически белым.
Челюсть пересыпана металлическими опилками щетины. Малиновые гематомы подглазий светились легкими вурдалачьими тенями. На поясе джинсов висела на ремнях с карабинами портативная сумка.
Он привез боксы порошка, завернутые в полиэтиленовый пакет.
«Здесь четыре», – сказал, почти не разжимая рта. «А, спасибо! хорошо». – Артем высчитал в бумажнике деньги. Сломал купюры вдвое, протянул Кондрату. Постояли.
– Не кукла?.. – спросил Артем, кивнув на пакет.
– Я не напариваю клиентов, – отвечал Кондратьев, благородно темнея глазами.
– Ладно, не серчай... Я лишь так сказал.
Артем втолкнул пакет в карман. В левый. Во всегда просторном правом не было места.
Взгляд его был прочен изнутри как прут ребристого железа – чумные глаза Кондратьева сминались об этот взгляд.
– Спасибо, – отвечал тому с улыбкой. – Может, выпить зайдем?.. Здесь рядом погреб есть пивной.
– Да нет, спасибо. Мне ехать надо уже…
– Элитное пиво. Бельгия, бочковое, два десятка сортов. Я угощаю. (На дармочка-то, а, наркоман?)
– Ну, если элита, – пожал плечами Кондратьев.
Они зашли в погреб «Ад Мира Лъ». Символический кабачок, подумал мельком Артем...
Там выпили по кружке чешского темного, посидели с пять минут, куря молча. Артем смотрел, Кондрат смотрел тоже. Уколы глаз, спарринг без звука. Вдыхали теплый полусумрак, пахший свечами, влажным металлом бочек, орешками, холодом, солью. Говорить было не о чем. Кондратьев поднялся, протянул Адуласу длиннопалую кисть, с ногтями в бледных девственных крапинах.
– Спасибо. У меня – овертайм. Мне в эту сторону, на метро...
– Всем в эту сторону на метро. Пойдем короткий путь покажу. Я знаю здесь.
Артем задавил бычок о линзу пепельницы.
Был десятый час вечера, мглистое небо в полосах затуманено-синего цвета, переплетенного с горячими чернилами черного. Они шли через зады универсама и пустырь, поскальзываясь на подошвах – мимо мертвых коробов гаражей, покрытых испариной инея, расписанных лаконичным граффити («Аршавин – АС!..»); минуя вымороженные кораллы кустов. Ветер носился гривой десятиградусного холода, цеплял за кожу лица, шею, раструбы штанин, кидал в лица мелкие гребни и горсти снежинок.
Артем шел, грея руки в карманах. В левом мято шорхал пакет, в правом было тесно и холодно, пальцы замерзали. Перчатки были заткнуты в джинсы.
– Да, слушай… – Он приостановился. – Я сказать тебе забыл.
Он помешкал. – Ты помнишь... Девушку-врача, которая вела тебя в наркологии? Вы общались после еще... Ну, ты кайф подгонял ей. Арина…
– Арина? А кто ты Арине?
– Ты ей кто?.. Вот что я знать бы хотел.
Артем сглотнул слюну с таявшим вкусом спиртного. – Потому что я – муж.
Кондратьев глядел на него, опрокинутый. Чувства боролись на лице его. Вспыхивали, наползали, сменялись одно другим. До него вдруг дошло. Вся мизансцена... Весь балаган.
Он молчал без страха в глазах. И – было невозможно ударить его. Молчавшего и бесстрашного.
– Ты типа тот, от которого она не кончает? – сказал наконец, без усмешки.
Пальцы Артема – там! в кармане, – вонзились в лед цвета безлунного жесткого серебра.
– Закрой свою вьюшку, укурок!
Артема мутило, жгло, колотило.
«Я не смогу убить шкуру... – подумалось вдруг. – Черт, нет! я дерьмо. Я не смогу».
Рукоятка легла в ладонь идеально. Кондратьев не видел... Не замечал. Рука в кармане – велика беда.
Нежность стали, ее молчание учащали сердце Артема.
– Теперь послушай внимательно меня, – сказал он.
«Я не смогу». – Трясло напряжением пальцы.
– Если ты еще раз с ней встретишься… – («Бля! нет. Какой из меня киллер…»), – Я тебя уничтожу. Задавлю левой и сброшу ментам. Хочешь быть на свободе и пыряться дальше – твоя воля, но с Ариной ты не общаешься больше... Ясно сказал? – («Я не смогу!»)
– Сдай пар. – Кондратьев глядел с вызовом, рот его кривился. – Ариша была беременна от меня...
Наверное, черные дыры – это когда вакуум.
Пустота совершенства.
Идеал небытия. И абсолютная, ацетатная, стерильная тишина вокруг.
Артем ослабил пальцы и проглотил черную дыру – не вздохнув.
Беременна?
В смысле? предохраняясь от мужа?..
Сердце брызнуло лимонным соком глаза. Ебаный наркоман, поставщик звездно-белого героинового пепла. Трахал ее... Спускал свой ядовитый мутный сок.
Артем стал черен и нежен, в глазах всплыли и окоченели ртутные кляксы. Рот выжег на лице изгиб зорро – ласковый очерк ненависти и долготерпения.
В нутре – где мясным куском качается жизнь – ему виделась Аришка... Хрупкое чудо, цеплявшее за него пальцами в минуты любви. Ее глаза, расширенные от любви… выгиб шеи. И снова – лицо этого поджарого щетинистого парня. Его конвульсии – какие они были?.. как делал он это? – сколько минут? – что она чувствовала, при этом…
Кондратьев стоял: ждал реакции, ответа.
Молчание Артема ширилось, звенело, обнимало обоих. Душило, стягивало их. А ты в курсе, сволочь – что с ней сталось…
Наконец он сказал:
– Не расслышал.
– Ариша сделала аборт, – сказал Кондратьев. – Она любит меня… – Его рот исказился. – Я тоже… Она не сохранила, лишь потому что я – наркоман. Иначе б…
Долбак, гнида, тварь.
Артем, удавом левой руки, воткнул свинец пальцев в шею парня, сжал глотку, правой выпростал из куртки пистолет, передернул затвор о джинсы, приставил ствол к горлу.
– Пусти! – прохрипел Кондратьев.
– Позже, – отвечал Артем, заводя локоть. – За жену...
Ударил кулаком с пистолетом в зубы. Не стал бить рукояткой – вышибать весь зубной ряд. Стрелять было нельзя: могли услышать люди.
Зубы Кондратьева пропороли на сжатых веером фалангах багровый влажный след. Во рту его что-то шатнулось, подавшись хрупко. Парень осел оземь ватным манекеном. Кровь, бегущим ручьем, высвободилась из носа и легкой проточиной заструилась на подбородок, соединяясь с кровью изо рта. Заблистала текучим черешнево-черным. На почти белом, в парше двухдневной щетины, лице.
В мозгу Адуласа пронеслась картинка – слайды помрачения и боли, – как этот нарик всовывает себя в ЕГО Аришку, дергается на ней бедрами, агонией дышит в лицо, оставляет в ней дозу поганой собственной слизи.
Х...в инъектор.
Артем отвел руку с пистолетом, наклонился и сработал им как кастетом, ударив Кондратьева дважды в висок. Сашка вздохнул, точно его встряхнули за воротник.
Вттха. Голова его подернулась и мотанулась набок – через нее вылетало тело…
Последний удар рукояткой – был контрольным. Он пришелся по затылку. Парень – лопнувшим стуком челюсти – откинул вбок голову, не вздохнув.
Артем смотрел молча, глотая выраставший покой ужаса, на павшее в лед безответное мужское тело. Которое когда-то пользовало Аринку. Надиралось наркотой. Дышало... Кого-то любило. Меряло землю шагами, неся свой крест на плечах.
Не бог ли было с ним… пронеслось вдруг в мозгу.
В жилах сердца, дребезжащим изогнутым тангенсом совести – полз мокрый гад неутолимой вины, – что-то членистоногое, с черной гнусной оглянцованной спиной.
Я ПО-НАСТОЯЩЕМУ убил человека.
Я убил человека, который забрал твою душу, Аришка.
Я – кончен. Я сгнию, моя девочка. Я буду в яме много лет... Я хлебну гноя, параши и крови. Меня отъебут во все дыры. Но ты. Ты... Ты.
Я убил его – за ТЕБЯ.
И за того – неизвестного мне, – величиной с перепелиное яйцо, с уже испорченным мозгом и кровью – кого он посеял тогда в твоем лоне… И кого ты вытравила с помощью хирурга.
Было темно, воздух сжигал эпидерму лица, путал дыхание. В блеске позвоночных столбов, остовами черных палачей, темнО склонив головы, молчали фонари. Скелеты деревьев, в солевых наростах инея, мерцали точно проволочные кварцевые нитки. Снег, льдистой пленкой, блистал под ногами.
Артем стоял над телом, пустой как бубен. Разжимал пальцы, сведенные некрозом мускулов, давивших рукоятку. Тремор мышц ослабевал, но руку трясло – крупно.
Душу затапливало темной высотой и немым облегчением тошноты, равным хоралу литургического ужаса.
Он воткнул пистолет за пояс и обтер костяшки пальцев, выпростав из куртки платок.
Ссадины горели и лучились в фонарном свете как зерна граната. Облизал, засасывая кровь. Без толку. Текло.
Кондратьев лежал на льду, и снег ложился на его лицо – легчайшей ядерной крупой, осаждаясь в тенях у носа и рта. И снег должен был проедать на лице кислотные каверны, но он не проедал.
Артем вложил перепачканный платок в карман и, не в силах сделать глоток слюны – позабыв надеть теплые перчатки – крупно и сдержанно пошел прочь.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Он приехал домой к полуночи.
Заглянул в комнату. Арина лежала на кровати, свернувшись в калачик – на руку ее был намотан детский розовый шарфик. Артем вынул из куртки пистолет и ушел в ванную. Смочил тряпку мылом, вытер – каждую риску и впадину. Отчистил тряпкой карман. Выполоскал и кинул сушиться на змеевик.
Чеки с дурью он кинул в унитаз, залил кипящим водоворотом бачка. Дважды.
– Раскольников ты долбаный, – сказал себе в зеркало. Рожа в зеркале усмехнулась в ответ.
Умыл лицо, зубы почистил. Опрокинул стакан водки. Давясь, как умирающий от жажды. Ушел спать.
Спать он не мог – лежал, думал.
Он хотел думать – что это все сон... Этот пустырь и эти запотевшие короба гаражей, это черное волглое небо. Озноб горячей влаги на лице наркомана Кондратьева – красной как пятилетнее бургундское.
Тлен ужаса оползал вдоль лопаток, и жало горло – от сухости, ладони прели от влаги, глаза текли стылыми мазками по стенам...
Он думал.
Кто мог видеть его – Артема – в том дворе, за гаражами?.. Кто свидетель? Да никто.
Дом, улица, фонарь, аптека, и нобади кого-нибудь вокруг, – как прописал пролетарий Маяковский (не тем будь помянут). В окна вряд ли кто-то там смотрел: ни звука не было лишнего.
Отпечатки пальцев на купюрах, где сотни других отпечатков? Его звонок на сотовый наркомана, с просьбой о встрече?.. Звонил от магазина «Спорттовары» – не идиот. Эс-эмески жены: на мобиле ушлепка? Мало девочек укуривал он?.. И мало их, ложилось под него?
Кто станет вычислять его, Артема? Кто вообще искать его будет – когда вскроют тело Кондратьева и увидят, что оно принадлежит наркоману. При сегодняшней милиции никто заморачиваться не станет – искать того, кто задавил такого. Со счетов скинут и вздохнут: одним упоротым меньше. Свои же и кончили.
Он уснул внезапно – как скошенный. Не заботясь о сне. Предохранители сработали все-таки. И в двадцать три года есть такая штука, не знающая сносу – как здоровье.
Во сне он обнимал Арину, совершенно позабыв – что он зол как сатана, намерен кончить с этой историей, с этой женщиной; он обнимал – и щеки его скрашивали ее волосы, а волосы ее пахли травой и шампунем (ну, не золото ли теща!), и выемка под ее волосами походила на лунку от выстрела, затянутую новорожденной теплой кожей…
Инфаркт тоски разжимал свои пальцы, отпуская горячие ногти из мускулов сердца. Рубцы изглаживались, возобновляя кровоток. Арина лежала, не отвечая на его руки.
Наутро он поднялся и ушел на кухню.
Он врубил музыку в радиоприемнике – джаз. Погромче. Его отпускало.
Артем сварил овсяную кашу, заправил маслом и солью, притомил крышечкой. Пришел в комнату, сел рядом с Ариной. Потрогал ее волосы, у самого лба. Потянул их за кончики.
– Просыпайся, Кукуня, – негромко сказал ей.
Арина вздыхала. Раскрывала глаза, – сонные, теплые, похожие на застывшие капли канцелярского клея; в глазах стояла и стояла бессмыслица... Луна катилась в радужках, цеплялась за ненадежные белки, перемещалась к пушистым ресницам, замирала, центрируя текучий перламутровый глаз на Артеме...
Ты жива, подумал он.
Ты жива, моя любимая девочка… Я помогу тебе восстановить твои клетки. Все чепуха – что они отмирают. Я помогу, и ты сможешь снова болтать об Авиценне, о киногении Кэмерона, о своих наркопсихах (я их тоже люблю!), о Набокове и молодых годах Хэмингуэя... Париж, праздник, который всегда с тобой. Ты сможешь. Ты сможешь все.
Я стану овощем тоже, помогая тебе вспоминать букварь. Я стану на одну доску с тобой... Раз уж так вышло. Мы будем складывать палочки, вспоминая счет. Я буду водить твоим пальцем по географической карте, очерчивая границы обеих Америк. Мы будем разучивать песню про солнце, и будем гулять в парке, и я сломаю зубы каждому, кто скажет мне, что я выжил из ума, беспокоясь и тревожась о тебе.
Он протянул руку и потрогал аринину щеку.
– Пойдем-ка завтракать, – сказал он. Он сгреб ее тело, привлек к себе, поднял с подушки плети арининых рук; он приник, воткнул свое лицо в копну ее волос. Так они сидели молча, дышали друг в друга.
– Арина не будет, – сказала она вяло, голосом смоченного пергамента.
– Арина будет, – отвечал Артем.
Они дышали, и в дыхании их не было консонанса – Адулас вздыхал глубоко и размеренно, она поверхностно, неслышно почти. Безвольное, мягкое ее тело рождало в нем запирание горла, – холодный противень тоски, спаянный с язвой на сердце, с нежностью, с тошнотой, отвержением – вставал поперек его груди. Ты виноват, думал он, сволочь, ты виноват, что не разглядел вовремя; и ты еще больше виноват, что до пьяной крови из глаз – ее, такую, белую, чахлую, жуткую, славную (господиненадо), оступившуюся; больную, смешную, родную – ненавидишь, прощаешь, распинаешь и любишь.
Так кривовоколенно, как один ты умеешь.
Но мы начнем все сначала.
Я позову сюда твою маму, – она поселится у нас, она не может не поселиться. Она будет преданной сиделкой тебе. Мы снимем ее с работы, – денег на жизнь хватит. Ты поправишься, и родишь мне еще сына. Шурку-второго... Мы будем слушать блюз-бенд «Дети винила», и будем заниматься под него любовью на вот этом самом мохнатом зеленом ковре.
Арина слушала, царапала его шею чистым бесчувственным пальчиком.
Сознание пальчика было не здесь. Они дышали, смотрели в стену, и он думал уже, что нужно снова греть кашу, – она вполне уже простыла.
Он, кажется, не плакал.
____________________________
** – свидетельство Алексея Смирнова
Голосование:
Суммарный балл: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
Нет отзывов
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор