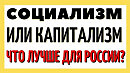-- : --
Зарегистрировано — 124 037Зрителей: 67 089
Авторов: 56 948
On-line — 14 335Зрителей: 2795
Авторов: 11540
Загружено работ — 2 134 142
«Неизвестный Гений»
Семь больниц в жизни Мони
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |

Его койка стояла на ходу и прямо на сквозняке, в коридоре муниципальной больницы, и он лежал на ней с раной на сердце. Там же стояли и другие, столь же неудобные, узкие больничные кровати, на которых лежали такие же, как он, больные с бледно-зелёными лицами. Вечерело. Зажгли свет, и противно замигали, запищали люминесцентные лампы. Лысая, в пигментных пятнах и родинках, его голова мёрзла, как и тощие ноги, торчащие наружу, потому что кровать и одеяло были маловаты для его долговязого тела. На потолке была длинная трещина, с которой, время от времени, осыпались на него куски штукатурки. С улицы доносился звон трамваев. Мимо него, время от времени, проплывали капельницы. Поднимая ветерок, проскакивали медсёстры и медбратья, провозили больных на каталках или другие больные тащились на ходунках. В его огромный нос, ударяли обычные больничные запахи: лекарств, мочи, карболки и хлорки. Это было его седьмым попаданием в больничные стены, но только третьим разом, когда пациентом больницы был именно он, а не его мать или дочь. Он же почти никогда не болел. В больнице он лежал до этого лишь дважды и с травмами. Крепко занедужил он лишь теперь и впервые в жизни. А жизнь его была отнюдь не скучной.
При рождении его хотели назвать каким-нибудь революционным именем, например, Вилен или Мэлс. Но, по требованию длиннобородого деда, осуждающего всё новое, революционное имя ребёнку, всё же, не дали. А дед вскоре после этого умер, так как был очень стар. Итак, дитя нарекли древним царственным именем Соломон. Но в жизни так его называли крайне редко. Обычно, все его звали «Моней». Так, Моней он и дожил до 85-ти лет. Все его попадания в больничные стены значили какие-то вехи в его жизни. Так уж получилось.
Впервые это произошло ещё до войны. Избили во дворе хулиганы за «жидовскую морду». Ему зашивали рану на голове и чудом спасли глаз. Он лишился нескольких зубов, и носил потом железные протезы, звучно клацающие, когда Моня ел.
Моню часто обижали только лишь за то, что он просто родился евреем. И вся его жизнь от школьных лет до самой эмиграции, когда ему было давно за пятьдесят, была отравлена этой несправедливостью. Не еврею этого просто не понять. Он не был, конечно, из семьи каких-нибудь, например, хасидов, ортодоксальных иудеев, не был и болезненным националистом, сионистом. Напротив, всегда к представителям своего многострадального народа относился, мягко говоря, критически и считал себя русским, а всякая религиозность была ему чужда, так как его воспитывала советская идеология, глубоко проникшая и в его «партийную» семью. Моне хотелось быть «настоящим советским парнем», и он с завистью смотрел на одноклассников и ребят из его двора. Моня был счастлив тогда, когда его принимали в команду играть в футбол на пустыре. Он был просто помешан на спорте, несмотря на свою нескладную комплекцию. Спустя 70 лет он вспоминал тогдашних ребят: «Это были орлы! Не то, что теперешние - серьги в ушах, хвостик какой-то… тьфу! Одни пидоры…» И это ещё не все высказывания Мони.
Одна его фраза оскорбляла сразу огромное количество людей. Он говорил: «Большинство мужчин – подонки, а женщины – бл*ди!». «Порядочный человек капюшон (тёмные очки, панамку, шорты, бейсболку и т.д.) никогда не наденет!». «Собаки лучше, чем люди!», «У кого много денег, тот вор!», «Москва – быдловый город!», и не понимал, почему на него все обижаются и за что его не любят. Моня искренне считал себя правым потому, что он всегда говорит только правду. «А на правду обижаются только закомплексованные идиоты или истеричные дуры!» - говорил он, и не понимал того, что его мнение, которое он считал «правдой», люди таковой не считают, а если же он попадёт-таки в точку, то будет ещё хуже, так как правда-матка никому не нужна и никто её слушать не намерен. Поэтому, Моня часто получал кулаком в нос.
Однажды одна женщина, соседка по коммунальной квартире, которой он сказал: «Сколько не мажься, кудрей не завивай, моложе, всё равно не станешь!», обварила его кипятком, так как, на беду, снимала с плиты кастрюлю. Хотели вызывать скорую, но один из соседей, толковый мужик, расстегнул ширинку и написал Моне на лицо и другие места, которые были ошпарены. Благодаря этому, всё зажило быстро и следов не осталось. Милицию решили не вызывать, рассудив так: «Сам виноват! Не надо было гадости говорить женщине!» Вот так Моня страдал за правду. И этот случай, и вышеупомянутое избиение Мони хулиганами, как и все остальные, к сожалению, ничему его не научили. Моня продолжал быть слоном в посудной лавке и считать себя самым умным. Голос Мони был громкий, зычный и въедливый, как бормашина, говорил он всегда в полный голос, почти кричал и при этом размахивал руками, как мельница. Много посуды, часов, вазочек и статуэток перебил он дома и в гостях. Стоял всегда на проходе, застревая в самых узких местах и парализуя всякую деятельность, внося всюду, где находился, одно беспокойство. И чем старше он становился, тем более обострялись в нём эти неудобные в обществе, особенности. Большая беда Мони была именно в этом. Он был очень конфликтен и крайне неуживчив. Не ладил он со всеми людьми поголовно. К тому же, как было сказано выше, имел несчастное «качество» - он был человеком крайне неловким в общении с людьми, постоянно говорил что-нибудь невпопад, нечаянно задевал их за живое, каждому случайно брякнув какую-нибудь чудовищную бестактность. Комплименты, которые он пытался делать женщинам, оказывались просто кошмарными по своей двусмысленности. Про таких говорят: «Скажет, как в лужу пё**ет!», и это его свойство делало его нежеланным везде, куда бы он ни притопал своими огромными, косолапыми ногами.
Кроме того, Моня имел обыкновение игнорировать то, что ему говорят. Например, когда одну знакомую стошнило в автобусе и, он сказал: «Ну, выпила…». Ему говорят: «Укачало её, вестибулярный аппарат не важный, так бывает», он бубнит: «Да выпила!», ему уже в раздражении рявкают: «Укачало, говорят тебе, чёртов придурок!!!», «Да выпила!», и тогда уже в ответ жуткий мат, ор, скандал, так как далеко не все нервы выдерживали Моню.
Не любили Моню, прежде всего, за эту его манеру вести себя с людьми. А бытовой антисемитизм в народе – это уже от бескультурья и дремучести, и, при этом, он не мешает одной половине представителей нашего народа любить Кобзона, а другой - Розенбаума. Не раз приходилось слышать от таких граждан, кои делят людей по национальным различиям, такое: «Вот, Рабинович, мой друг, - хороший парень, несмотря на то, что еврей!». Вот, про Моню такого никто не говорил. Он был просто находкой для антисемита.
У Мони не было друзей. В детстве, конечно, он, как и все дети, легко дружился, но есть люди, которые проносят детскую дружбу через всю жизнь, причём, не с одним, а с двумя-тремя одноклассниками, к тому же, к ним присоединяются ребята со двора, дети друзей родителей, соседи, однокурсники и сослуживцы. У Мони не получалось поддерживать отношения. Он со всеми своими друзьями давно рассорился. Поначалу с ним как-то ещё пытались мириться, но он ссорился снова, и, в конце концов, растерял всех своих друзей. Тех, с которыми он воевал, он потерял сразу после ранения. Кто погиб, кто просто потерялся, не оставив Моне адреса. Так что, однополчан своих он так и не нашёл. Кстати, пора уже рассказать о войне в жизни Мони.
Второй раз в жизни, в качестве пациента, на койке госпиталя оказался Моня уже в 1945-м году, весной. При воспоминании об этом у старого Мони потекли слёзы по морщинистым щекам, затекая в его огромные смятые, желтоватые уши, из которых обильно росли седые волосы.
Будучи совсем мальчишкой, под самый конец войны, воодушевлённый, он попросился, а затем отправился на фронт, и, как ни парадоксально это звучит, война была самым счастливым временем в его жизни, несмотря на ужасы, которые он там пережил. Тогда он был настоящим советским бойцом, которому полагались паёк и «100 грамм», как и всем. Водку Моня никогда не любил и куревом не увлекался, он предпочёл бы лишний кусочек сахара, так как был страстным сластёной, но эти фронтовые 100 грамм делали его, как бы, причастным к самому важному, что делало историю. На войне он не был изгоем. Наравне со всеми рисковал жизнью, шёл под пули, ЗАЩИЩАЛ РОДИНУ! А чего ему, робкому пацану, это стоило!... Моня панически боялся пауков, мышей, темноты, высоты, стоматологов и, конечно же, крови. Боли, ран и крови он боялся больше всего на свете.
Рядом с ним бойцу вдребезги разнесло голову, и всё лицо Мони было в крови и мозге его товарища. Моня признавался потом, что описался тогда, но успел обсохнуть и «хорошо, что ещё в штаны не наложил!» Не ожидал он того, что на войне окажется такая кошмарная мясорубка. Страшно было аж до леденящего холода в пальцах рук и ног, да спазмах в горле и груди. Казалось, сердце вот-вот выпрыгнет из его нутра через глотку, и придёт смерть, если, конечно, раньше не пристрелят. Лечь бы на землю, прижаться к ней и с жалобным писком: «Мамочка!» умереть от ужаса. Но нет. Во что бы то ни стало, надо было идти вперёд, орать «Ура!» и очень метко стрелять. Иначе было никак нельзя. Никак! И Моня шёл. Он старательно прицеливался и попадал, попадал, попадал! Когда немцы падали, либо лицом в землю, либо завалившись назад и вскинув ноги, либо оседали каким-то спиралевидным движением, Моня радостно смеялся своей устрашающей железнозубой улыбкой. Он считал: «Один! Второй! Третий!...», а потом записывал в книжечку это число и дату сражения. В первых боях ему неслыханно везло. И это, несмотря на то, что он был поразительно неловок, если не сказать, неуклюж при своём огромном росте и тощем, нескладном теле. Ему тогда сказали: «Ну, Моня, ты, прямо заговорённый!», а вскоре после этого, в Моню таки попали. Он очнулся в госпитале с контузией и ранением в руку. Рука была вся раздроблена и под угрозой ампутации. Лёжа на койке в госпитале, слушая стоны раненных и дыша вонью гниющих ран, Моня горько плакал, не представляя себе того, как он теперь будет жить одноруким инвалидом. Он даже подумывал с собой покончить, если без руки останется. Однако, руку ему, всё-таки не отрезали, а спасли, каким-то чудом. Положили в гипс, она стала заживать, на радость своему обладателю, но навсегда осталась плохо действующей и жутко обезображенной.
Война закончилась, когда Моня ещё долечивался в госпитале. Отец его с войны не вернулся. Он был кинооператором, снимал на фронте бои, и был убит. Поэтому Моня не смог пойти на дневное отделение института, и поступил на вечернее.
Работать с одной рукой было трудно, но Моня работал на заводе, стоя у станка, в горячем цеху, а вечерами сидел на занятиях в институте. Так он получил высшее образование и стал инженером. Он жил со своей матерью-вдовой в комнате коммунальной квартиры в самом центре Москвы. Его старший брат, молодой, но очень талантливый учёный, у которого, поэтому, была бронь, от них переехал. После войны он долго не женился, и лишь много лет, спустя, у него появилась семья: относительно молодая супруга и прехорошенькая дочка, которую назвали Сонечкой. Моня любил сажать её к себе на колени и изображать характерными движениями – покачиваниями и подпрыгиваниями то, как «…мы едем на слоне, на верблюде, на коне, на осле и на собачках…», а малышка радостно смеялась.
Мать Мони была по образованию театральной художницей, но сразу после замужества, случившегося вскоре после окончания ею института, ещё не успев родить двоих сыновей, выпала из профессии, так и не успев начать работать по специальности. Что бы выжить после смерти мужа, Мира Моисеевна, занималась изготовлением дамских шляпок на заказ. В их с Моней комнате стояло для этого оборудование, какие-то болванки, кожа и кожзаменитель, сукно, войлок, фетр в рулонах, кусочки меха, вуальной сетки, перья, искусственные цветочки, и всё это в нечеловеческом беспорядке. Педантичный Моня не переносил хаоса, отгородив себе уголок чистоты за ширмой, где стоял его письменный стол, кровать, шкаф с книгами и прочим его убогим скарбом.
Моня проработал инженером лет тридцать, без малого. И всё это время в одном и том же научно-исследовательском институте, куда его распределили после института. Каким он был работником, трудно судить. Что-то за кульманом, изо дня в день, вычерчивал под бормотание радио, а вечером возвращался домой. Изредка он ездил в командировки то в Балашиху, то в Ивантеевку, но это редко, а чаще - в Джамбул или в Краснодар, или ещё куда-нибудь, обычно очень далеко. Обычно, он летал на самолёте, реже – катался поездом.
Друзей он там не нажил, но, по своему обыкновению, нажил много врагов. Ему не раз доставалось от коллег за «милый» характер. Одна сослуживица, обидевшись на очередную его «любезность», швырнула в него счётами. Была тогда такая вещь в ходу – рамка с проволочными перетяжками, по которым передвигались деревянные колечки, изображая собой единицы, десятки, сотни и так далее. Прототип калькулятора, первые из которых появились в СССР, дай, Бог, памяти, годах в восьмидесятых. Так вот, эти счёты в Моню не попали, а угодили в голову ни в чём не повинного человека.
В личной жизни Моне фатально не везло. Девушки им не интересовались даже, несмотря на то, что после войны мужчин было мало даже в Москве. Моня был некрасив. У него был огромный горбатый нос, слегка на сторону, так как был сломан, он рано начал лысеть, поэтому, обычно, брил голову наголо. После контузии у него был раздражающий нервный тик, отчего он противно лязгал железными зубами, а изувеченная рука, похожая на клешню, способна была напугать своим видом впечатлительных людей. Но его не симпатичная наружность – ещё не беда. Бедой было то, что он не имел подхода к девушкам, не умея правильно сделать комплимент, а напротив, случайно обижал их своей бестактностью. К тому же, ему некуда было бы привести будущую жену, так как он жил с мамой в одной комнате, заваленной её принадлежностями для работы. Мира Моисеевна была неряшливой женщиной с хроническим насморком, отчего у неё из сумки постоянно белым флагом высовывался «хвост» большого засморканного носового платка, а её чулки спускались к щиколоткам гармошкой, а если на них был сзади шов, то он спиралью заворачивался вокруг её ноги. Из-под её косо надетой юбки виднелись кружева комбинации, волосы она часто забывала причесать. Вокруг неё всегда был кошмарный беспорядок. Трубка общего телефона в коридоре была испачкана яичным желтком или вареньем, шлепки еды на полу вели из кухни в их с сыном комнату. Это доводило соседок до остервенения, и они постоянно на неё орали. Характер у Миры Моисеевны был столь же неуживчивый, как и у сына. Вероятно, он пошёл в мать. Или это был результат её воспитания. Поэтому, ни одна дама не мыслила себя в роли её невестки.
Моня встречался лишь изредка с кем-нибудь из женщин гораздо старше него, и, как правило, некрасивых, но это были редкие и недолгие связи, и выходить замуж за него никто не рвался, даже несмотря на то, что мужчин было тогда мало, и так он и прожил лет до сорока с гаком. И вдруг произошло то, чего никто уже не ожидал.
При воспоминании о своём первом и единственном браке, у старика на больничной койке снова на глаза навернулись слёзы, и он тяжело вздохнул. Эта «дива» возникла в его жизни, наверно, лишь только для того, что бы испортить ему жизнь.
Что привлекло в нелепом Моне статную русскую красавицу – загадка. Молодая, красивая женщина с большим бюстом и длинной толстой косой снизошла до него, и они вдруг поженились. Фамилию, правда, супруга не сменила, дала свою и старшей дочери, своей любимице, появившуюся на свет недоношенной месяца на три, но, почему-то очень крупной. Еврейская фамилия перешла только к младшей, Валентине. Жили они, к сожалению, плохо. У обоих супругов были характеры аховые. Ругались они постоянно. Отец больше любил младшую дочь, болезненную, некрасивую девочку, очень похожую на отца и без способностей, а мать обожала старшую, разносторонне талантливую и красивую, но не похожую на родителей, разве что, чуточку на мать. Женщиной она была скандальной, рука у неё была тяжёлая, и Валечке здорово от неё доставалось. Стоило девочке промочить ботиночки или запачкать платьице, та начинала её лупцевать, грубо на неё крича, а Валюшка плакала и жалобно пищала: «Мамочка! Не бей меня!» Отец тут же бросался на её защиту. Тогда уже между родителями завязывалась долгая и отчаянная перебранка с дракой, в которой инвалиду войны приходилось не сладко. Больно ему было даже не от ударов по лицу и в живот, а от того, что его жена, женщина, которую он любил, и родившая ему детей, матерясь, орала: «Ах ты жид! Проклятый жид!» Дети прятались от страха, пока шли эти побоища и выползали из своих убежищ лишь тогда, когда наступало затишье.
Вскоре, состарившаяся мать Мони сильно заболела, слегла и нуждалась в постоянном уходе, и под этим предлогом он вернулся в родную коммуналку вместе со старшей дочкой. Третьим его посещением больничных стен была именно болезнь, а затем и смерть матери. Всю жизнь она безумно боялась врачей и больниц, а скончалась в больничном коридоре, ночью, совсем одна. Моня ушёл домой, а когда вернулся, она уже преставилась. Так он и не успел с ней, как следует, проститься. И он ненавидел себя за то, что ему понадобилось принять душ и сменить рубашку. Не мог себя простить за то, что в юности стеснялся знакомых из-за того, что у него такая несуразная мать. Ругал себя за то, что мало, очень мало разговаривал с мамой по душам, и она почти не слышала от него доброго слова. Раздражённый её нескладностью, он часто покрикивал на неё, и они постоянно ругались.
И вот теперь, умирая в холодном больничном коридоре, как когда-то его несчастная мать, старик вспоминал её, и снова слёзы потекли в его мохнатые уши. Лишь теперь он осознавал то, что тогда потерял единственного в мире человека, который его любил. Так, как мать, не любил его никто и никогда. Моню вообще, никто не любил. Даже Валя, когда выросла, быстро утратила всякое уважение к отцу и, в конце концов, предала его, выбросив из своей жизни. У старика снова увлажнились глаза, так как он вспомнил о Валюше, оставшейся страшно далеко от него, в чужом государстве. Теперь она совсем чужая, сердитая женщина. А, ведь, когда-то, она была любимой малышкой, тёпленьким комочком в его руках.
Четвёртое попадание в больницу было именно из-за маленькой Вали. Она заболела пневмонией, и была на грани жизни и смерти. Если бы не отец, не спускающий её с рук три ночи подряд, что бы ей было легче дышать, девочка могла бы не выжить. А этого он никак не мог допустить, так как более в жизни у него никого не осталось. С женой, к тому времени, он развёлся, и детей они поделили. Стали они с дочкой жить одни в целом свете. Был, конечно, у Мони брат, была племянница, хорошенькая Сонечка, но они редко жаловали его своим вниманием. Он никому не был нужен со своей железобетонной прямолинейностью, так и прущей из него правдой-маткой и обострённым чувством справедливости. Ему не нравилось в жизни почти всё. Он был убеждённым сталинистом, и частенько говаривал: «Вот, при Иосифе Виссарионовиче был порядок! Чисто было на улицах, в магазинах всё было. В железном кулаке ОН всех держал! – и Моня сжимал костлявый кулак здоровой руки, произнося слово «Он» с благоговением, - А теперь – бардак и воровство! Во что страну превратили!..»
Пятый раз он лежал в больнице тоже с дочерью и тоже по серьёзному поводу. Вале вырезали опухоль, которая могла в любой момент перейти в злокачественную форму. Слава Богу, обошлось. Девочка тогда была уже подростком, у неё появился друг, не в смысле «дружба», а с недетскими отношениями, что уже достаточно пожилого отца, человека старой формации, не на шутку встревожило. Он ломал голову над тем, как бы разорвать «опасную» связь. И повод представился сам собой. Вскоре после того, как дочь выписали из больницы домой, семью Гринберг поставили перед фактом, что их переселяют в однушку где-то в, так называемое «Новоебуново», т.е. «спальные» районы (окраинные новостройки) при СССР. «Спальными» их прозвали потому, что с работы люди приезжали туда только спать, а никакой инфраструктуры там не было. Театры и музеи все в центре, кинотеатра ещё нет… Мало того, что там, куда поселили Моню с Валей, не было тогда ни поликлиники, ни школы, ни магазинов, даже асфальтированных дорог ещё не сделали. Тротуары там были из досок. Отца и дочь Гринберг ещё и вселили в однокомнатную квартиру, несмотря на то, что они разного пола, что было противозаконно. Они категорически отказывались выезжать из центра, тем более в такую жуткую дыру. Но не помогло ничего. Даже был проигнорирован тот факт, что Моня воевал, получил ранение и теперь инвалид. Приехала милиция, отца с дочерью силой выволокли из квартиры, покидали в машину их скарб и отвезли в проклятое «Новоебуново». Там грохотала стройка, грязи было по колено, а из окон их нового, но щелястого блочного дома с не закрывающимися дверями и кривыми стенами, была видна огромная свалка мусора, над которой с карканьем поднималась стая ворон, когда подъезжала очередная машина и вываливала туда мусор. Именно тогда Моне в голову пришла замечательная идея о том, что там можно находить много всякого интересного, пригодного для жизни. Но эта мысль была вторая. Первой его мыслью стало – уехать из страны.
И лучше бы ему оставить свою гордыню и пожить пока там, а квартиру можно было бы и обменять, в конце концов, как-нибудь, с доплатой. Однако, Моню переполняло негодование. Он проливал кровь за Родину, потому что был патриотом, а с ним вот, как поступили, буквально выставив из столицы, и он ощущал себя в ссылке. За что с ним столь не по-человечески обошлись, он не знал. Но решил, что виноват во всём этом антисемитизм на государственном уровне, когда было даже негласное правило не принимать евреев в вузы. Сейчас об этом мало, кто знает, но при СССР, во времена Брежнева, еврею получить высшее образование было очень не просто. Конечно, это всё тщательно замалчивалось, но нет ничего тайного, что не стало бы явным.
И тогда Моня решил эмигрировать. Заодно дочь увезти от её «растлителя». План был таков. Сначала ехать в Израиль, так как в те годы выпускали только туда. Их выпустили. И они с дочерью навсегда, как тогда казалось Моне, уехали с Родины. И ехали они в никуда. Им предстояло начать жизнь с чистого листа, для начала заново научившись говорить. Только Валя, почти девчонка, ничего ещё об этом не знала, решив, что папа едет туда на время, в командировку, и лишь тогда, когда прошло несколько месяцев, поняла то, что навсегда попрощалась со своим прошлым. Это она запомнила и жила с этим всю жизнь.
В самолёте было очень душно. Тошнило. У обоих заболели головы и зажившие раны, они еле дождались окончания полёта, а когда ступили на трап, им захотелось рвануться обратно в самолёт, где по сравнению с израильской жарой, было даже прохладно. Пекло там стояло такое, что несчастные переселенцы сравнили это с фашистской пыткой. Валечка расплакалась, а отец проклинал свою дурость. Сидели бы сейчас в родном Новоебунове, а теперь в этом аду на сковородке поджариваться. Обратно-то хода нет! Тогда эмигрантов обратно ещё не принимали.
И началась их одиссея, растянувшаяся на 25 лет. Мыкались они в этом Израиле не по-детски. Жили в какой-то подвальной конуре. В чужой стране, где большинство говорило на иврите, Моня чувствовал себя беспомощным, так как не в состоянии был выучить иностранный язык. Даже английский ему не давался. Иврит с большим трудом осилила Валя, и ей удалось закончить какой-то колледж и выучиться там на портниху. Но отец… он жил на пособие, и никак не мог устроиться, и надо было уносить оттуда ноги, как можно скорее. А, между тем, она, выучив язык, успела обрасти друзьями и стала встречаться с очередным юношей…
Но девушку снова выдернули из более-менее образовавшегося круга общения. На сей раз, они летели в США. Я не стану здесь описывать дальнейших скитаний бедного Мони и его дочери, но мыкались они по миру до тех пор, пока не обосновались в Париже. Почему именно там, трудно сказать. Тем более, что никто их туда не звал, гражданства давать не собирались и Моня там так и прожил без него более 20-ти лет, оставаясь все эти годы нелегалом.
Там условия оказались лучше, чем в Израиле, но Моня оставался собой. Ведь от себя-то не убежишь! Французским языком так и не овладел, зато научился филателии, стал торговать марками и прочим антиквариатом, который таскал с помоек. Он ещё в СССР научился лазить по ближайшей свалке в поисках чего-нибудь интересного, а теперь стал этим жить. Общался только с русскими эмигрантами, которых там было много.
А бедная Валя работала уборщицей в русском доме для престарелых эмигрантов ещё первой волны. Ей повезло. Русская графиня, уже древняя старуха, страдающая от одиночества, с радостью взялась учить девушку французскому языку, причём, бесплатно. И выучила.
Где-то в это время Вале довелось снова попасть в грязную муниципальную больницу, где она с арабами и африканцами пролежала в коридоре и чуть не умерла, так как очень сильно отравилась пищей, принесённой отцом с очередной помойки, и нужно было срочное промывание желудка, а там всё медлили. Не доходили до неё руки. Молодая женщина уже теряла сознание, бредила, температура зашкалила, и тогда Моня забрал оттуда дочь и промыл её в домашних условиях. Второй раз уже он спасал ей жизнь, но Валя со временем забыла и об этом.
Потом Вале удалось выйти за француза замуж и, таким образом, получить гражданство. Француз был с небольшой умственной отсталостью после родовой травмы, но человеком был очень хорошим. Затем, Валентина получила и права на вождение автомобилем, который они, вскоре, купили. Потом они приобрели домик в пригороде, где жили, в основном арабы, африканцы, цыгане и маленький процент русских и выходцев из восточной Европы. Отца поселили в пристройке, завели страшную с виду собаку, которая была у них вместо ребёнка (детей они заводить боялись, боясь наркомании и безработицы), и так они прожили лет двадцать. Из некрасивой, но милой и обаятельной девушки, Валентина превратилась в полную женщину, и почти перестала следить за собой – так обленилась. За это время, правда, вся их семья – Валя с отцом и муж, растолстели от сытой, размеренной жизни, и даже у всегда худого Мони появился довольно-таки объёмный животик. И даже регулярная игра в бадминтон не помогла ему оставаться поджарым – так он любил покушать и полакомиться сладостями. «Папа, ты, как муха – к сладкому тянешься!» - смеялась Валентина.
Моня во Франции стал профессиональным клошаром. Каждый день, рано утром, не побрившись и надев грязный плащ с обрезанным рукавом, что бы лучше было видно изувеченную конечность, он выходил из дома с большим баулом на тележке. Всё утро он собирал с помоек продукты, просроченные на один час(!), одежду (часто выбрасывали хорошую вещь из-за пятнышка или оторванной пуговицы), прочие вещи, среди коих попадался и антиквариат. Он собирал там же книги, а также, конверты писем и отпаривал от них марки. Так они и жили.
Но Моня страшно скучал по России. Конечно, он знал о том, что там уже давно нет советского строя, всё изменилось, вернуться даже можно назад, но там квартиру не дадут. Вернуться будет некуда. Ему хотелось внуков, но Валя категорически не хотела, отговариваясь тем, что у них здесь нет будущего, наркомания, убить могут, и никого, кроме своей огромной старой собаки не любила. Когда эта собака околела, Валентина, надев траур, убивалась по ней так, как будто похоронила своего ребёнка. На неё было страшно смотреть. Она, какое-то время, так хандрила, но, в конце концов, жизнь встала на прежние рельсы. Однако. характер Валентины всё больше портился. Унаследовав от отца конфликтность, она вспоминала все обиды, которые были нанесены ей с детства и главным её обидчиком стал именно несчастный Моня. Старый отец, с возрастом ставший ещё более невыносимым, превратился в обузу, и они стали ещё чаще ссориться, чем раньше. Оба они были с непростыми, мягко говоря, характерами. Конечно, с таким человеком, как Моня, не охота было жить даже на одной улице, а он жил гораздо ближе к дочери, чем ей бы хотелось. Ругань стояла между ними постоянно. Валя отводила душу, выкрикивая ему страшные обвинения в том, что он сломал ей жизнь. Они так орали, что было слышно на весь квартал, и начинали плакать арабские, африканские и цыганские младенцы у разноцветных соседей.
Их отношения ещё более испортились после того, как Валя съездила в Москву и возобновила отношения со своей первой любовью, мальчиком по прозвищу Джо, который стал большим, седовласым профессором. И начал этот профессор регулярно кататься к ним, и, пока зять работал, развлекался с Валентиной. Порядочный Моня не мог этого пережить. Ему было жаль своего недалёкого зятя, и мужская солидарность не могла ему встать на сторону дочери, которая всю жизнь, оказывается, любила этого Джо.
А Джо нужна была только Франция. А без этого он и не взглянул бы на свою подругу детства, ставшую толстой тёткой в шлёпанцах и олимпийке.
И тогда он вспомнил о том, что внучка, хоть и не родная, у него, всё же, есть. В Москве у него осталась племянница, Сонечка, дочь покойного брата, которую он, маленькой, качал на коленях. Она давно уже замужем, и её взрослая дочь, Татьяна, приезжала к ним, да прожила у них более полугода, но так и не смогла устроиться, и ей пришлось вернуться домой, чтобы не сидеть на шее у родственников. «Потому что дура-Валька куска хлебушка да горстки гречневой кашки пожадничала для неё!» - потом сетовал он, - «А какая девка была хорошая! Умная, красивая! Жила бы она здесь, со мной…» Он забыл о том, как сам же говорил ей: «Тебе здесь ты не удастся выбиться! Для этого зубы иметь вот такие острые! И такие же когти! А ты язык выучить не можешь, не умеешь ничего, беспомощная, домашняя, ума в тебе мало, да и внешне ты ничем не выдающаяся. Тощая, как кузнечик, одни глаза да нос…»
И теперь, во Франции, совсем один в своей пристройке к дому дочери, он всё чаще вспоминал внучатую племянницу, которую они так плохо приняли и совсем не поддержали в трудностях. Ему хотелось больше русских людей вокруг, а ещё лучше – вернуться домой, в Россию.
А дочь с возрастом становилась всё более нетерпимой. Унаследовав его характер, она стала такой же, как он, беспощадной, бестактной, и теряла одного за другим друзей и знакомых. Здорово обозлилась она и на отца. Что уж такого ляпнул ей, невоздержанный на язык, Моня, теперь и не вспомнить, но что-то он, определённо, ляпнул. Или просто накопилась у неё на него обида на всю жизнь. За то, что не смог ужиться с мамой, и она по его вине лишилась матери и сестры, за то, что оторвал её от возлюбленного и увёз на край земли, где ей пришлось столько трудиться. А трудиться Валя терпеть не могла. Она была просто феноменально ленивой женщиной. Потом она злилась на него за то, что нашёл ей умственно-отсталого мужа и не принял её любимого Джо. Словом, затаила Валя на Моню обиду.
И однажды в парижском метро на Моню напали, что бы избить, двое «негров», - как он выражался, - «а руководила ими какая-то русская баба! И я понял то, что это Валька их подослала, что бы они меня покалечили, и я бы поскорее умер! Тогда я решил бежать на Родину!» - так рассказывал Моня пожилой супруге покойного брата, свалившись в их квартиру, где она жила с дочерью, зятем и внучкой, как с нег на голову, в семь часов утра.
О том, как он с двумя чемоданами и рюкзаком, из которого торчали две бадминтонные ракетки, проходил таможню в три часа ночи, и сонные таможенники поставили печать на документы, которые у него были, якобы, не совсем в порядке, он потом рассказывал долго и с удовольствием, каждый раз приплетая всё новые подробности.
«И вот, я вернулся сюда, что бы умереть на Родине, за которую кровь проливал!» - патетически завершил Моня свой длинный рассказ о своих перипетиях. Эта фраза ему нравилась, и он не упускал возможности повторять её снова и снова под любым предлогом.
Чемоданы он хранил у племянницы в комнате, под кроватью, той самой Сонечки, которую в детстве качал на коленях, распевая про верблюдов, лошадок, собачек. У них же вознамерился и поселиться, но сам увидел то, что в тесной трёшке совсем нет для него места. Первые дни он ночевал на кухне, и этим здорово мешал всей семье. Племянница теснилась с мужем в одной комнате. Её мать, супруга брата, - в другой, крошечной, а в третьей, самой светлой, жила и работала его внучатая племянница, ненаглядная Танюшка. А вместе с ней там жили её многочисленные картины, и там она устроила себе настоящую художественную студию. В институте учится, подрабатывает, расписывая церкви. Поступила-таки! Моня гордился «внучкой».
Не знал несчастный Моня того, что, как только ввалился в квартиру и начал разговаривать, эта самая внучка окончательно возненавидела его, проникшись к нему неприязнью ещё во Франции. Его язык очередной раз его подвёл. Наговорил ей всяких глупостей, которые говорят все, кто не разбирается в искусстве, и что художнику говорить ни в коем случае было нельзя. Тем более ранимой Тане, у которой подвинулась психика на том, как без всякого блата трудно было выбиться и на том, с каким трудом она выучилась профессии, и как трудно художнику в современном мире выживать. Лишь в 23 года смогла она поступить в новый, недавно открывшийся художественный вуз, где до сих пор училась, будучи уже профессиональным художником, так как успела выучиться в частной студии у высококлассного педагога. Но Моне-то всё это было невдомёк.
Со свойственной ему железобетонной прямолинейностью, он менторским тоном принялся давать ей советы о том, что лучше бы она писала старые московские пейзажи, а то скоро всё «посносют», красивых, нарядных девушек в полный рост и натюрморты с пышными букетами. «Вот это – красиво! А что ты рисуешь каких-то непонятных людей?! Что это за «Портрет сумасшедшего»? А что это за «Бомж в метро»? А это что за каляка-маляка? Пятна какие-то непонятные… абсракция? Ну, то, что это действительно абсракция, я итак вижу, только зачем это? Кому это нужно, когда ничего не понятно?! А это что за полу курица, полу корова, полу карп? И почему оно папиросу курит? Сурялизьм, говоришь? Ты этих сурялизьмов больше не рисуй, а то тебя ещё и в психушку отправят и будут правы! Таким, кто таких сурялизьмов рисует, там и место! А это ты, что ли? Автопортрет? А почему нет улыбки? Надо непременно с улыбкой!» Таня, уже взбешённая до предела, отвечала, что невозможно, когда сам себя в зеркало пишешь, то несколько часов не сможешь улыбаться. Но, как мы знаем, Моня всегда игнорировал то, что ему скажут, и он продолжал бубнить: «А улыбка необходима! Как можно так, с таким хмурым, серьёзным лицом…» Такие понятия об искусстве были у сына театральной художницы и работника кино. Почему-то, бедный Моня был совершенно несведущ в искусстве, не умел смотреть картину, почти ничего стоящего не читал и совершенно не умел слушать музыку, так как был глух к мелодиям. Ему нравились только песни, со словами в которых он был согласен. О кино у него тоже были представления пещерные. Феллини и Антониони – это для него муть какая-то. Только цветной и костюмированный реализм. Сюжет – комедии, приключения. Кроме того, Моня обожал фильмы сталинского периода, например, ему очень нравился Пырьев.
По внешнему виду Тани, он тоже, конечно, прошёлся. Не мог промолчать при виде порванных джинсов и разноцветных волос («патл», как он выразился). Причёска ему не та, одета не так, худая слишком «вместо груди два прыщика, да ножки-спички!». То ли дело, в его времена как одевались девушки! «Платьица носили в цветочек, кудряшки, а сами – кровь с молоком! Платье прорвётся, вот-вот! Любо-дорого смотреть!» - ностальгически завывал Моня, полязгивая железными зубами из-за нервного тика, и его огромные уши при этом подрагивали.
Вот бы ей просто посмеяться над забавным старичком, но, задетая за живое, раздражённая той ересью, что он нёс, не достаточно умная Таня на него здорово взъелась. Бедный Моня тут же получил кличку «Маргинал». Таня, срывающимся голосом потенциальной истерички, категорично заявила матери о том, что этот асоциальный тип её «конкретно достал». Она больше не хочет, что бы «этот урод» и «гадкий старикашка» сюда приходил, так как не намерена видеть эту «гнусную рожу» и слушать эти «тупые расклады», так как не страдает мазохизмом. Соня, души не чаявшая в дочери, вынуждена была с ней согласиться и не возражать, а дяде она сказала, чтобы он не беспокоил Таню, у той «экзамены, много работы, и она нервничает». И это была правда, конечно.
К тому времени Моне удалось выбить пенсию, как ветерану и инвалиду, а чтобы обеспечить его жильём, по знакомству удалось устроить его на работу сторожем и разнорабочим в детский сад. Жил он прямо там, в подсобке, а к родственникам заходил порыться в своих необъятных чемоданах. С собой он приносил трофеи с местных помоек. Наша насквозь протухшая просрочка – это, конечно, далеко не французская, когда товар, с истёкшим сроком годности на один час, честно выбрасывают, лишь изредка его портя, прокалывая упаковки или давя ногами. Обычно его просто выбрасывали, а клошары подбирали. Поэтому французские аккуратненькие бачки, зовущиеся «poubelle» - это не наши российские грязные и вонючие мусорные баки! Небо и земля. У нас хорошую вещь редко выбросят. На продуктовых упаковках же в магазинах переклеивают этикетки, и снова пускают в продажу уже не свежую продукцию. Или готовят из неё всякие фарши, паштеты, полуфабрикаты и тому подобное. Так что, на помойку попадают уже совсем несъедобные продукты. Да и, в отличие от спокойных французских клошаров, наши бомжи поделили территорию, образовали нечто типа «мафии» и не подпускают к «своим» бакам посторонних. Могут и клюкой отдубасить. Пришлось Моне к ним «прописываться», как он выражался, или тайком пробираться к вожделенным бакам, пока вечно пьяные конкуренты ещё не проснулись.
Без «гостинцев» Моня к племяннице не приходил. Ему так хотелось порадовать родственников! То принесёт дыньку с подгнившим бочком, то завянувший пучок петрушки, то перчики, тоже с гнильцой. Иногда находил какую-нибудь куртку или сумку. Натащил с помоек для Тани оргалита, что бы растопить её заледенелое сердечко, и был просто счастлив, увидев на её лице довольную полуулыбку, которую у неё не получилось сдержать.
Бывало, он любил прийти к ним рано утром, когда муж Сони, Виталий, только что ушёл на работу, а она сама нервно собирается, боясь опоздать. А он принимался, стоя в тесной прихожей, разговаривать в полный голос. А глотка у Мони всегда была лужёная, и он совсем не умел разговаривать тихо – всегда орал. За дверью спала его невестка, и Соня, страшно округлив, полные ужаса, глаза, шипела: «Тишшшше! Спит мама!!!», но у Мони была особенность игнорировать полностью слова окружающих, и он продолжал галдеть своим зычным голосом перфоратора так, что у соседей лаял доберман. Старуха, конечно же, просыпалась, выползала в туалет, занимала все места общего пользования и мешала дочери собираться на работу.
Когда Соне, наконец, удавалось уйти, «Маргинал» заходил в их с мужем комнату и принимался подолгу рыться в своих чемоданах. Если при этом дома оказывалась Таня, она сидела в своей комнате, тихо злилась и с нетерпением ждала ухода докучливого старикана.
И вот, вдова его брата скончалась. От него это, разумеется, скрыли, но, в очередной его визит, болтливая соседка (есть же такие…), наткнувшись на него, сообщила ему о смерти старушки. «Маргинал» тут же начал атаку на место своей временной регистрации. Он «ломился» в квартиру всеми правдами и неправдами, но пускать его никто не собирался. Освободившуюся комнату занял Виталий, сделав её своим кабинетом. В коем-то веке, у каждого члена семьи появилась отдельная комната, и менять условия жизни на ещё более худшие, чем они были при жизни «не вполне удобной» хозяйки квартиры, они не собирались. «Совсем неудобный» Моня в квартире был никому не нужен. Солгали, не подумав о последствиях, о том, что Таня, якобы, «вышла замуж, муж поселился тут же, и теперь ожидаем пополнения семьи - будет двойня!». И он вынужден был, нехотя, отступить.
Бедный Моня, дожив до старости, так и не понял того, почему его «многие не любят» и, к тому же, он не замечал того, что почти все его, не просто «не любят», а терпеть не могут. Он искренне не понимал того, за что его можно не любить, и чем он вызывает в людях такое раздражение.
На работе его, в детском саду, кто-то повадился красть. В воровстве обвинили, конечно же, Моню и уволили его. Потом он поработал рабочим, получив койку в грязном общежитии. Но Моня был очень стар, к тому же был почти одноруким, поэтому работал плохо, и вскоре его уволили и оттуда. Так что, ночевал он, отныне, неизвестно, где. Скорее всего, с бомжами. От его брюшка, привезённого из сытой Франции, давно уже ничего не осталось, он страшно отощал, сгорбился и мрачно скитался по Москве, один в целом свете.
И теперь, лёжа в больничном коридоре, старый Моня вспоминал «внучку» и надеялся на то, что она к нему придёт. Он так и не понял того, что она его никогда не любила. И она, конечно же, всё не приходила, так как и не собиралась наведываться к Маргиналу. Только мать её навещала больного, и он справлялся у неё, как Танечка, родила ли двойню. Соня что-то врала ему, неумело, нескладно, с тяжёлым сердцем, так как ей было его безумно жаль.
Внучатую племянницу Мони нелицеприятный Господь «наказал» за то, что не проявила милосердия к бездомному старику тем, что она так и не смогла выйти замуж, и детей тоже у неё нет. Так это выглядело со стороны и так могло показаться, если не знать специфики жизни профессионального художника-живописца, работающего серьёзно, создающего произведения искусства, а не картинки на продажу. Они просто не хотят связывать себя семьёй, оставляя время и свободу на творчество. Однако, со стороны это выглядело именно, как Божья кара за чёрствость, гордыню и мстительность.
Но иначе она не могла, так как в описываемые здесь события, она была взвинченная, ещё окончательно не выкарабкалась из того пограничного состояния, что привезла из Франции. Татьяна была вся – сплошной комок нервов, и просто физически не могла жить в одной квартире с двоюродным дедом, сетуя на то, что он «сыплет бестактностями со скоростью взбесившегося пулемёта». Она не желала ничего знать том, что с ним, и где он скитается. Таня была занята учёбой, много работала, и ей необходим был комфорт дома.
Однажды, когда она была дома одна, ей позвонили из поликлиники. Спрашивают: «Где Гринберг?», а Таня, будучи резкой, когда что-то отвлекало её от работы, недовольно ответила: «Откуда мне это знать?!», тогда женщина на том конце провода сообщила ей о том, что Соломон Израилевич приходил к ним сегодня с жалобами на сильную боль в сердце, и они направили его в больницу «по скорой», а он вдруг от них сбежал. Они подумали, что он пошёл домой, а Таня сухо ответила ей, что он не приходил, потому что здесь не проживает. На том конце трубки женский голос ещё говорил о том, что у Гринберга инфаркт, и его необходимо разыскать, но Таня уже её не слушала и повесила трубку.
Моня пропал. Он, как и его мать, боялся врачей и больниц, поэтому решил сбежать, надеясь на то, что если он пососёт валидол, боль в его несчастном сердце утихнет. Однако, ему стало совсем плохо, и он упал на улице. Моня лежал в грязи, с позеленевшим лицом, глядя невидящими глазами в синее осеннее небо, по которому плыли пушистые облака. На него планировали жёлтые листья, а мимо проходили люди, не обращая внимания на лежащего на земле, тощего старика в старом плаще. Наконец, нашлись неравнодушные граждане, которые вызвали скорую помощь, и несчастного Моню отправили-таки в больницу, где вскоре прооперировали. Все палаты оказались занятыми, и, после операции, из реанимации Моню привезли и положили в коридор. Чувствовал себя он, всё равно, очень плохо. С его безобразного лица не сходила мертвенная бледность.
На сей раз, когда позвонили в квартиру, трубку сняла, оказавшаяся дома, Соня, и она тут же побежала в больницу к своему дяде, прихватив с собой всё необходимое.
Моню, наконец, удалось положить в палату, и, пока Соня суетилась, рассовывая всё, что она принесла, по ящикам тумбочки, он всё спрашивал: «Как Танюша? Беременность не помешает ей навестить своего дедушку? Пустят её в больницу-то?» Племянница опускала глаза. Ей хотелось плакать. Она тихо отвечала: «Вряд ли беременную пустят, да она и чувствует себя плохо. Угроза выкидыша, знаешь ли, в любой момент может детей потерять. А хочешь, Валечке позвоню? Она-то не знает ещё о том, что ты в больнице…»
Соня лгала, так как она тут же оповестила Валю о болезни её отца, но та сухо сказала, что в ближайшее время приехать не сможет и вообще, едва ли сможет выбраться, «его не просили уматывать – сам виноват!» Но Соня надеялась на то, что она передумает и навестит отца.
- Пусть приедет, а?.. – говорила она просительно. Но старик отказывался, упрямо мотая лысой башкой со слоновьими ушами. «Ну её к лешему! Бросила меня! Одного оставила! А сколько я для неё сделал! Мужа ей нашёл именно я! Я купил этот дурацкий журнал с объявлением! Иначе, где бы она была?» - выдал Моня свою дочь с потрохами и далее рассказал племяннице историю знакомства Вали с мужем по объявлению вместо той красивой, романтической истории, которую преподносила всем Валентина. Так Соня нечаянно узнала о том, что её двоюродная сестра скрывала и чего стеснялась. Дальше неё это не пошло, конечно, но она понимала то, как стало бы Вале неприятно, если бы она узнала о том, что отец проболтался.
Сонечка знала то, что отец будет рад увидеть дочь, несмотря на то, что говорил о ней. Она, ещё раз позвонила двоюродной сестре во Францию и стала умолять её приехать к отцу и помочь ему с жильём, помочь купить ему хоть комнату, а деньги потом бы ей постепенно вернули. В трубке бодрый «пионерский» голос отрапортовал: «А он от меня сам оказался! Его никто не выгонял, сам уехал, зачем-то, неизвестно, куда! Бросил меня здесь одну. Сначала увёз меня без спросу в эмиграцию, сломал жизнь, теперь рванул назад! А мне теперь ему здесь жильё покупать! Никуда я не поеду! Мне эти его фигли-мигли - во, где!» Соня догадалась, что при последней фразе сестра провела тыльной стороной ладони по своему горлу. Она ещё надеялась на то, что у Вали проснётся совесть, и она приедет к больному отцу, поэтому сказала Моне, что у той трудности с получением разрешения на выезд, а так она уже едет. И Соня увидела, что старик улыбнулся.
Валентина так и не приехала. Соня пережила тогда не лучшее время. Она понимала то, что больного Моню, после инфаркта, придётся, всё-таки, поселить в комнату матери, а мужа вернуть назад. Уже начав делать в перестановку, чтобы устроить дома коммунальную квартиру, она тяжело вздыхала, представляя себе то, что будет, когда Таня узнает о том, что Маргинал будет здесь жить. Она была в ужасе от предвкушения того, какая истерика у неё начнётся, и решила подумать об этом завтра, как говаривала её любимая героиня Скарлетт.
В это время, койку с больным Моней снова выставили в коридор, выкинув его вещи из тумбочки и покидав их в какой-то не чистый пакет. Рассудили они так: его скоро выпишут, а значит, полежит, где раньше, ничего с ним не случится. Так, Моня снова оказался в коридоре. И снова мимо него проплывали капельницы, провозили каталки с живыми и мёртвыми, ковыляли больные на ходунках и прошмыгивал персонал, поднимая ветер. Лысина его немилосердно мёрзла от сквозняка, ноги тоже были ледяные, а он вспоминал то, что пережил. И вот, наступила ночь, здание больницы погрузилось в сон, только Моня не спал, лёжа в тёмном коридоре. Он всё вспоминал и вспоминал всю свою жизнь. Войну, недолгий свой неудачный брак, эмиграцию…
Соня в эту ночь тоже никак не могла уснуть. Ей было жаль Моню и неудобно перед ним из-за того, что они физически не смогут надолго приютить его в своей квартире, разве что, потерпят первое время, но потом-то надо будет что-то решать. И Соня размышляла: «Пусть он окрепнет, и тогда ему легче будет перенести тот факт, что надо искать себе другое жильё. Но Таня-то здесь причём? Они-то с Валькой её так «хорошо» приняли у себя, что чуть ли не в собачьей будке держали, да работать в придорожное кафе отправили, где её чуть не застрелил грабитель. Кстати, это после того случая характер у неё изменился, и она стала такой ожесточённой, чуть что, озверело кричит, зубы скалит. До Франции она такой не была. Чуть с ума не свели ребёнка, а теперь хотят потеснить в её же квартире. А сам-то он в собачьей будке пожить не хочет? А ледяной водой мыться? А хлеб один жрать да воду пить?»
Соня не заметила, что её сострадание к немощному старику сменилось гневом. «Какого чёрта мне нужен здесь этот хамоватый дедок?! Просто пытка, когда он жрёт, чавкая и клацая челюстями, да пьёт, хлюпая! Ну почему мы должны его здесь терпеть?! Из-за его дочери моя дочь во сне кричит по ночам! Пусть Валька и разбирается с ним! Нечего нам на голову подкидывать своих родственников!» - злилась Соня, распечатывая пачку сигарет. Она давно не курила, а тут решила подымить на кухне. Потом она, наплевав на экономию и на то, что глубокая ночь, набрала номер Валиного телефона. Подошёл муж Вали, так как он в это время уже вставал и ехал на работу. По-русски Клод не говорил, и Соня, чертыхнувшись, бросила трубку. Покурив, она немного успокоилась и под утро, всё-таки, заснула.
А Моня спать не мог…
Потому что глупо было бы проспать последние минуты своей жизни.
В тёмном коридоре больницы, лёжа на скрипучей койке, старик улыбался. Дочь его живёт в Европе, у неё свой дом, любящий муж. Это он привёз её туда и сам нашёл ей мужа. Моня хороший! Моня - красавец! Сделал её счастливой, вырастил, воспитал… он вывел в люди дочь, он защищал Родину! Нет, он жил не зря. А теперь он вернулся умереть на Родину, за которую кровь проливал. Тук, тук, тук, тук… раз, два, три, четыре, пять… ну, с Богом!
Пуск!!!
Душа Мони вырвалась наружу и воспарила над уродливым телом старика, вытянувшегося на больничной койке так, как будто бы он снова встал в строй.
Утром подошла сестра и накрыла холодный, одеревеневший труп простынёй. Его переложили на каталку и отвезли, почему-то… в душевую. Там труп на каталке какое-то время находился, и больные, приходившие помыться, недоумевали, почему. Наконец, уже после обеда, молодой медбрат с кудрявой шевелюрой и плеером в ушах, насвистывая, вывёз каталку с телом Мони на двор больницы и покатил в сторону морга.
Таня в это время была дома и готовилась к семинару. Как вдруг позвонили из больницы и профессионально-убитым голосом сообщили: «Примите наши искренние соболезнования. Соломон Израилевич Гринберг скончался сегодня ночью. Вам надо приехать…»
Таня обхватила голову руками и со словами: «Несчастный. Отмучился!», позвонила матери на работу, а та прямо с работы поехала в больницу. Вернувшись, она снова позвонила Вале, рассказала о случившемся, и обе они поплакали. Больше над Моней не плакал уже никто. Валентина так и не приехала. Похороны прошли без её участия, были нищенские, и на них из-за холода почти никто не пришёл. Моню кремировали и урну с его прахом в колумбарии поставили в нишу его родителей. Тихие поминки прошли скромно. Когда гости ушли, Соня и Виталий, молча, мыли посуду. Затем Соня позвонила Вале и спросила: «Как быть с вещами твоего отца? Приедешь за ними?» Валя аж зашлась: «Зачем ещё мне его пожитки?! Выброси на помойку весь этот хлам и забудь, как кошмарный сон!»
Вытащив из-под кровати и открыв чемоданы с дядюшкиным скарбом, Виталий увидел там целый мир старого Мони. Там лежал его выходной костюм с орденами и парадные ботинки, портрет Сталина, его же бронзовый бюст, запасные очки, маленький транзисторный радиоприёмник и гражданский кодекс Российской Федерации. Кроме того, солдатские фляжка и плоский котелок цвета хаки, альбом с фотографиями, портняжный и сапожный наборы, где всё лежало в идеальном порядке, два кляссера с марками, книга поэта Баркова, которую тут же выбросили в мусоропровод, чтобы не прочла Таня, и ещё несколько книг неизвестных в России писателей-эмигрантов. Кроме того, там лежала папка с неумело и коряво написанными воспоминаниями Мони, к которым прилагалась записка: «Опубликовать после моей смерти». Лежала там ещё кое-какая одежда и две смены белья, опасная бритва, помазок, одеколон, зеркало, металлическая мыльница и деньги в старинной коробке из-под монпансье. Рассмотрев сокровища Мони, Виталий сокрушённо констатировал: «Это всё, что от человека осталось…»
Таня забрала себе солдатскую фляжку, мыльницу, чайную ложку и ножницы. Эти вещи побывали на фронте вместе со своим хозяином. Соня взяла зеркало и записную книжечку в бурых пятнах крови, в которой химическим карандашом было выведено: «Количество убитых мною фрицев», а далее шли даты и числа. Боевые награды она бережно сложила в шкатулку. Кляссеры с марками и справочник по филателии забрал Виталий. Они ещё долго перебирали дядин скарб, думая, куда пристроить остальные вещи и решая, как поступить с его мемуарами. Влезла Таня со своим сарказмом: «Давайте назовём их так: «Приключения маргинала»!» и, увернувшись от маминого подзатыльника с громким весёлым ржанием, вприпрыжку убежала к себе. «Вот, хулиганьё!» - проворчала Соня, пряча невольную улыбку.
Смех девушки ещё какое-то время слышался из её комнаты-мастерской. Но как-то долго она хохотала, заливисто-громко, пока не послышались звуки, похожие на плач с завыванием и странными звуками, вроде: «Ой-ой-ой!», потом послышались странные звуки, похожие на икание или лай. Родители переглянулись и стали прислушиваться. Стало вдруг очень тихо, и через какое-то время послышалась тихая песня: «Ой, вьюн над водой, ой вьюн над водой, ой вьюн над водой завивается…». Затем заунывное пение стихло, и послышался странный быстрый топот, как будто бы Таня забегала туда-сюда по комнате. Топот продолжался какое-то время, а потом послышался голос дочери, спокойно произносящий: «Тук, тук, тук, тук, тук…». И так, бесконечно долго, Таня отчётливо выговаривала эти короткие слова, а после этого снова послышался быстрый топот её ног по комнате туда-сюда, туда-сюда, топ-топ-топ-топ-топ… Родители, молча, слушали под дверью. На какое-то время топот ног прекратился, и воцарилось молчание, но вскоре опять: «Тук, тук, тук, тук, тук…», а за этим последовало: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть…», и снова топот ног, очень быстрый, почти что бег, а затем: «Тук, тук, тук, тук, тук…» - ровный женский голос считал и считал, всё никак не останавливаясь.
«Она что, над нами издевается? Что за глупая шутка?» - вопрошала побледневшая Соня дрожащим голосом, испуганно глядя на мужа. Виталий, прислушиваясь к тому, что происходило за дверью, а там снова доносилось мерное: «Раз, два, три…», а потом быстрый топот ног, ответил ей мрачно: «Похоже, это припадок какой-то… это от избытка негативных впечатлений и перегрузок в институте. Ты же знаешь, что после жизни во Франции, она болела долго. Скорее всего, просто переутомилась, не волнуйся, так бывает. Позвоню брату, пусть приедет, посмотрит...» Брат Виталия был доктором наук, профессором. Он много лет работал в психиатрии. Ему позвонили, он сказал, что бы к дочери не заходили, и обещал через 20-ть минут быть. Все эти 20-ть минут родители, сидя под дверью дочери, тревожно прислушивались к звукам, доносящимся из комнаты Тани.
Раскрытые чемоданы с вещами Мони заполнили собой всё свободное пространство комнаты, и специфический запах из них медленно распространялся по квартире.
При рождении его хотели назвать каким-нибудь революционным именем, например, Вилен или Мэлс. Но, по требованию длиннобородого деда, осуждающего всё новое, революционное имя ребёнку, всё же, не дали. А дед вскоре после этого умер, так как был очень стар. Итак, дитя нарекли древним царственным именем Соломон. Но в жизни так его называли крайне редко. Обычно, все его звали «Моней». Так, Моней он и дожил до 85-ти лет. Все его попадания в больничные стены значили какие-то вехи в его жизни. Так уж получилось.
Впервые это произошло ещё до войны. Избили во дворе хулиганы за «жидовскую морду». Ему зашивали рану на голове и чудом спасли глаз. Он лишился нескольких зубов, и носил потом железные протезы, звучно клацающие, когда Моня ел.
Моню часто обижали только лишь за то, что он просто родился евреем. И вся его жизнь от школьных лет до самой эмиграции, когда ему было давно за пятьдесят, была отравлена этой несправедливостью. Не еврею этого просто не понять. Он не был, конечно, из семьи каких-нибудь, например, хасидов, ортодоксальных иудеев, не был и болезненным националистом, сионистом. Напротив, всегда к представителям своего многострадального народа относился, мягко говоря, критически и считал себя русским, а всякая религиозность была ему чужда, так как его воспитывала советская идеология, глубоко проникшая и в его «партийную» семью. Моне хотелось быть «настоящим советским парнем», и он с завистью смотрел на одноклассников и ребят из его двора. Моня был счастлив тогда, когда его принимали в команду играть в футбол на пустыре. Он был просто помешан на спорте, несмотря на свою нескладную комплекцию. Спустя 70 лет он вспоминал тогдашних ребят: «Это были орлы! Не то, что теперешние - серьги в ушах, хвостик какой-то… тьфу! Одни пидоры…» И это ещё не все высказывания Мони.
Одна его фраза оскорбляла сразу огромное количество людей. Он говорил: «Большинство мужчин – подонки, а женщины – бл*ди!». «Порядочный человек капюшон (тёмные очки, панамку, шорты, бейсболку и т.д.) никогда не наденет!». «Собаки лучше, чем люди!», «У кого много денег, тот вор!», «Москва – быдловый город!», и не понимал, почему на него все обижаются и за что его не любят. Моня искренне считал себя правым потому, что он всегда говорит только правду. «А на правду обижаются только закомплексованные идиоты или истеричные дуры!» - говорил он, и не понимал того, что его мнение, которое он считал «правдой», люди таковой не считают, а если же он попадёт-таки в точку, то будет ещё хуже, так как правда-матка никому не нужна и никто её слушать не намерен. Поэтому, Моня часто получал кулаком в нос.
Однажды одна женщина, соседка по коммунальной квартире, которой он сказал: «Сколько не мажься, кудрей не завивай, моложе, всё равно не станешь!», обварила его кипятком, так как, на беду, снимала с плиты кастрюлю. Хотели вызывать скорую, но один из соседей, толковый мужик, расстегнул ширинку и написал Моне на лицо и другие места, которые были ошпарены. Благодаря этому, всё зажило быстро и следов не осталось. Милицию решили не вызывать, рассудив так: «Сам виноват! Не надо было гадости говорить женщине!» Вот так Моня страдал за правду. И этот случай, и вышеупомянутое избиение Мони хулиганами, как и все остальные, к сожалению, ничему его не научили. Моня продолжал быть слоном в посудной лавке и считать себя самым умным. Голос Мони был громкий, зычный и въедливый, как бормашина, говорил он всегда в полный голос, почти кричал и при этом размахивал руками, как мельница. Много посуды, часов, вазочек и статуэток перебил он дома и в гостях. Стоял всегда на проходе, застревая в самых узких местах и парализуя всякую деятельность, внося всюду, где находился, одно беспокойство. И чем старше он становился, тем более обострялись в нём эти неудобные в обществе, особенности. Большая беда Мони была именно в этом. Он был очень конфликтен и крайне неуживчив. Не ладил он со всеми людьми поголовно. К тому же, как было сказано выше, имел несчастное «качество» - он был человеком крайне неловким в общении с людьми, постоянно говорил что-нибудь невпопад, нечаянно задевал их за живое, каждому случайно брякнув какую-нибудь чудовищную бестактность. Комплименты, которые он пытался делать женщинам, оказывались просто кошмарными по своей двусмысленности. Про таких говорят: «Скажет, как в лужу пё**ет!», и это его свойство делало его нежеланным везде, куда бы он ни притопал своими огромными, косолапыми ногами.
Кроме того, Моня имел обыкновение игнорировать то, что ему говорят. Например, когда одну знакомую стошнило в автобусе и, он сказал: «Ну, выпила…». Ему говорят: «Укачало её, вестибулярный аппарат не важный, так бывает», он бубнит: «Да выпила!», ему уже в раздражении рявкают: «Укачало, говорят тебе, чёртов придурок!!!», «Да выпила!», и тогда уже в ответ жуткий мат, ор, скандал, так как далеко не все нервы выдерживали Моню.
Не любили Моню, прежде всего, за эту его манеру вести себя с людьми. А бытовой антисемитизм в народе – это уже от бескультурья и дремучести, и, при этом, он не мешает одной половине представителей нашего народа любить Кобзона, а другой - Розенбаума. Не раз приходилось слышать от таких граждан, кои делят людей по национальным различиям, такое: «Вот, Рабинович, мой друг, - хороший парень, несмотря на то, что еврей!». Вот, про Моню такого никто не говорил. Он был просто находкой для антисемита.
У Мони не было друзей. В детстве, конечно, он, как и все дети, легко дружился, но есть люди, которые проносят детскую дружбу через всю жизнь, причём, не с одним, а с двумя-тремя одноклассниками, к тому же, к ним присоединяются ребята со двора, дети друзей родителей, соседи, однокурсники и сослуживцы. У Мони не получалось поддерживать отношения. Он со всеми своими друзьями давно рассорился. Поначалу с ним как-то ещё пытались мириться, но он ссорился снова, и, в конце концов, растерял всех своих друзей. Тех, с которыми он воевал, он потерял сразу после ранения. Кто погиб, кто просто потерялся, не оставив Моне адреса. Так что, однополчан своих он так и не нашёл. Кстати, пора уже рассказать о войне в жизни Мони.
Второй раз в жизни, в качестве пациента, на койке госпиталя оказался Моня уже в 1945-м году, весной. При воспоминании об этом у старого Мони потекли слёзы по морщинистым щекам, затекая в его огромные смятые, желтоватые уши, из которых обильно росли седые волосы.
Будучи совсем мальчишкой, под самый конец войны, воодушевлённый, он попросился, а затем отправился на фронт, и, как ни парадоксально это звучит, война была самым счастливым временем в его жизни, несмотря на ужасы, которые он там пережил. Тогда он был настоящим советским бойцом, которому полагались паёк и «100 грамм», как и всем. Водку Моня никогда не любил и куревом не увлекался, он предпочёл бы лишний кусочек сахара, так как был страстным сластёной, но эти фронтовые 100 грамм делали его, как бы, причастным к самому важному, что делало историю. На войне он не был изгоем. Наравне со всеми рисковал жизнью, шёл под пули, ЗАЩИЩАЛ РОДИНУ! А чего ему, робкому пацану, это стоило!... Моня панически боялся пауков, мышей, темноты, высоты, стоматологов и, конечно же, крови. Боли, ран и крови он боялся больше всего на свете.
Рядом с ним бойцу вдребезги разнесло голову, и всё лицо Мони было в крови и мозге его товарища. Моня признавался потом, что описался тогда, но успел обсохнуть и «хорошо, что ещё в штаны не наложил!» Не ожидал он того, что на войне окажется такая кошмарная мясорубка. Страшно было аж до леденящего холода в пальцах рук и ног, да спазмах в горле и груди. Казалось, сердце вот-вот выпрыгнет из его нутра через глотку, и придёт смерть, если, конечно, раньше не пристрелят. Лечь бы на землю, прижаться к ней и с жалобным писком: «Мамочка!» умереть от ужаса. Но нет. Во что бы то ни стало, надо было идти вперёд, орать «Ура!» и очень метко стрелять. Иначе было никак нельзя. Никак! И Моня шёл. Он старательно прицеливался и попадал, попадал, попадал! Когда немцы падали, либо лицом в землю, либо завалившись назад и вскинув ноги, либо оседали каким-то спиралевидным движением, Моня радостно смеялся своей устрашающей железнозубой улыбкой. Он считал: «Один! Второй! Третий!...», а потом записывал в книжечку это число и дату сражения. В первых боях ему неслыханно везло. И это, несмотря на то, что он был поразительно неловок, если не сказать, неуклюж при своём огромном росте и тощем, нескладном теле. Ему тогда сказали: «Ну, Моня, ты, прямо заговорённый!», а вскоре после этого, в Моню таки попали. Он очнулся в госпитале с контузией и ранением в руку. Рука была вся раздроблена и под угрозой ампутации. Лёжа на койке в госпитале, слушая стоны раненных и дыша вонью гниющих ран, Моня горько плакал, не представляя себе того, как он теперь будет жить одноруким инвалидом. Он даже подумывал с собой покончить, если без руки останется. Однако, руку ему, всё-таки не отрезали, а спасли, каким-то чудом. Положили в гипс, она стала заживать, на радость своему обладателю, но навсегда осталась плохо действующей и жутко обезображенной.
Война закончилась, когда Моня ещё долечивался в госпитале. Отец его с войны не вернулся. Он был кинооператором, снимал на фронте бои, и был убит. Поэтому Моня не смог пойти на дневное отделение института, и поступил на вечернее.
Работать с одной рукой было трудно, но Моня работал на заводе, стоя у станка, в горячем цеху, а вечерами сидел на занятиях в институте. Так он получил высшее образование и стал инженером. Он жил со своей матерью-вдовой в комнате коммунальной квартиры в самом центре Москвы. Его старший брат, молодой, но очень талантливый учёный, у которого, поэтому, была бронь, от них переехал. После войны он долго не женился, и лишь много лет, спустя, у него появилась семья: относительно молодая супруга и прехорошенькая дочка, которую назвали Сонечкой. Моня любил сажать её к себе на колени и изображать характерными движениями – покачиваниями и подпрыгиваниями то, как «…мы едем на слоне, на верблюде, на коне, на осле и на собачках…», а малышка радостно смеялась.
Мать Мони была по образованию театральной художницей, но сразу после замужества, случившегося вскоре после окончания ею института, ещё не успев родить двоих сыновей, выпала из профессии, так и не успев начать работать по специальности. Что бы выжить после смерти мужа, Мира Моисеевна, занималась изготовлением дамских шляпок на заказ. В их с Моней комнате стояло для этого оборудование, какие-то болванки, кожа и кожзаменитель, сукно, войлок, фетр в рулонах, кусочки меха, вуальной сетки, перья, искусственные цветочки, и всё это в нечеловеческом беспорядке. Педантичный Моня не переносил хаоса, отгородив себе уголок чистоты за ширмой, где стоял его письменный стол, кровать, шкаф с книгами и прочим его убогим скарбом.
Моня проработал инженером лет тридцать, без малого. И всё это время в одном и том же научно-исследовательском институте, куда его распределили после института. Каким он был работником, трудно судить. Что-то за кульманом, изо дня в день, вычерчивал под бормотание радио, а вечером возвращался домой. Изредка он ездил в командировки то в Балашиху, то в Ивантеевку, но это редко, а чаще - в Джамбул или в Краснодар, или ещё куда-нибудь, обычно очень далеко. Обычно, он летал на самолёте, реже – катался поездом.
Друзей он там не нажил, но, по своему обыкновению, нажил много врагов. Ему не раз доставалось от коллег за «милый» характер. Одна сослуживица, обидевшись на очередную его «любезность», швырнула в него счётами. Была тогда такая вещь в ходу – рамка с проволочными перетяжками, по которым передвигались деревянные колечки, изображая собой единицы, десятки, сотни и так далее. Прототип калькулятора, первые из которых появились в СССР, дай, Бог, памяти, годах в восьмидесятых. Так вот, эти счёты в Моню не попали, а угодили в голову ни в чём не повинного человека.
В личной жизни Моне фатально не везло. Девушки им не интересовались даже, несмотря на то, что после войны мужчин было мало даже в Москве. Моня был некрасив. У него был огромный горбатый нос, слегка на сторону, так как был сломан, он рано начал лысеть, поэтому, обычно, брил голову наголо. После контузии у него был раздражающий нервный тик, отчего он противно лязгал железными зубами, а изувеченная рука, похожая на клешню, способна была напугать своим видом впечатлительных людей. Но его не симпатичная наружность – ещё не беда. Бедой было то, что он не имел подхода к девушкам, не умея правильно сделать комплимент, а напротив, случайно обижал их своей бестактностью. К тому же, ему некуда было бы привести будущую жену, так как он жил с мамой в одной комнате, заваленной её принадлежностями для работы. Мира Моисеевна была неряшливой женщиной с хроническим насморком, отчего у неё из сумки постоянно белым флагом высовывался «хвост» большого засморканного носового платка, а её чулки спускались к щиколоткам гармошкой, а если на них был сзади шов, то он спиралью заворачивался вокруг её ноги. Из-под её косо надетой юбки виднелись кружева комбинации, волосы она часто забывала причесать. Вокруг неё всегда был кошмарный беспорядок. Трубка общего телефона в коридоре была испачкана яичным желтком или вареньем, шлепки еды на полу вели из кухни в их с сыном комнату. Это доводило соседок до остервенения, и они постоянно на неё орали. Характер у Миры Моисеевны был столь же неуживчивый, как и у сына. Вероятно, он пошёл в мать. Или это был результат её воспитания. Поэтому, ни одна дама не мыслила себя в роли её невестки.
Моня встречался лишь изредка с кем-нибудь из женщин гораздо старше него, и, как правило, некрасивых, но это были редкие и недолгие связи, и выходить замуж за него никто не рвался, даже несмотря на то, что мужчин было тогда мало, и так он и прожил лет до сорока с гаком. И вдруг произошло то, чего никто уже не ожидал.
При воспоминании о своём первом и единственном браке, у старика на больничной койке снова на глаза навернулись слёзы, и он тяжело вздохнул. Эта «дива» возникла в его жизни, наверно, лишь только для того, что бы испортить ему жизнь.
Что привлекло в нелепом Моне статную русскую красавицу – загадка. Молодая, красивая женщина с большим бюстом и длинной толстой косой снизошла до него, и они вдруг поженились. Фамилию, правда, супруга не сменила, дала свою и старшей дочери, своей любимице, появившуюся на свет недоношенной месяца на три, но, почему-то очень крупной. Еврейская фамилия перешла только к младшей, Валентине. Жили они, к сожалению, плохо. У обоих супругов были характеры аховые. Ругались они постоянно. Отец больше любил младшую дочь, болезненную, некрасивую девочку, очень похожую на отца и без способностей, а мать обожала старшую, разносторонне талантливую и красивую, но не похожую на родителей, разве что, чуточку на мать. Женщиной она была скандальной, рука у неё была тяжёлая, и Валечке здорово от неё доставалось. Стоило девочке промочить ботиночки или запачкать платьице, та начинала её лупцевать, грубо на неё крича, а Валюшка плакала и жалобно пищала: «Мамочка! Не бей меня!» Отец тут же бросался на её защиту. Тогда уже между родителями завязывалась долгая и отчаянная перебранка с дракой, в которой инвалиду войны приходилось не сладко. Больно ему было даже не от ударов по лицу и в живот, а от того, что его жена, женщина, которую он любил, и родившая ему детей, матерясь, орала: «Ах ты жид! Проклятый жид!» Дети прятались от страха, пока шли эти побоища и выползали из своих убежищ лишь тогда, когда наступало затишье.
Вскоре, состарившаяся мать Мони сильно заболела, слегла и нуждалась в постоянном уходе, и под этим предлогом он вернулся в родную коммуналку вместе со старшей дочкой. Третьим его посещением больничных стен была именно болезнь, а затем и смерть матери. Всю жизнь она безумно боялась врачей и больниц, а скончалась в больничном коридоре, ночью, совсем одна. Моня ушёл домой, а когда вернулся, она уже преставилась. Так он и не успел с ней, как следует, проститься. И он ненавидел себя за то, что ему понадобилось принять душ и сменить рубашку. Не мог себя простить за то, что в юности стеснялся знакомых из-за того, что у него такая несуразная мать. Ругал себя за то, что мало, очень мало разговаривал с мамой по душам, и она почти не слышала от него доброго слова. Раздражённый её нескладностью, он часто покрикивал на неё, и они постоянно ругались.
И вот теперь, умирая в холодном больничном коридоре, как когда-то его несчастная мать, старик вспоминал её, и снова слёзы потекли в его мохнатые уши. Лишь теперь он осознавал то, что тогда потерял единственного в мире человека, который его любил. Так, как мать, не любил его никто и никогда. Моню вообще, никто не любил. Даже Валя, когда выросла, быстро утратила всякое уважение к отцу и, в конце концов, предала его, выбросив из своей жизни. У старика снова увлажнились глаза, так как он вспомнил о Валюше, оставшейся страшно далеко от него, в чужом государстве. Теперь она совсем чужая, сердитая женщина. А, ведь, когда-то, она была любимой малышкой, тёпленьким комочком в его руках.
Четвёртое попадание в больницу было именно из-за маленькой Вали. Она заболела пневмонией, и была на грани жизни и смерти. Если бы не отец, не спускающий её с рук три ночи подряд, что бы ей было легче дышать, девочка могла бы не выжить. А этого он никак не мог допустить, так как более в жизни у него никого не осталось. С женой, к тому времени, он развёлся, и детей они поделили. Стали они с дочкой жить одни в целом свете. Был, конечно, у Мони брат, была племянница, хорошенькая Сонечка, но они редко жаловали его своим вниманием. Он никому не был нужен со своей железобетонной прямолинейностью, так и прущей из него правдой-маткой и обострённым чувством справедливости. Ему не нравилось в жизни почти всё. Он был убеждённым сталинистом, и частенько говаривал: «Вот, при Иосифе Виссарионовиче был порядок! Чисто было на улицах, в магазинах всё было. В железном кулаке ОН всех держал! – и Моня сжимал костлявый кулак здоровой руки, произнося слово «Он» с благоговением, - А теперь – бардак и воровство! Во что страну превратили!..»
Пятый раз он лежал в больнице тоже с дочерью и тоже по серьёзному поводу. Вале вырезали опухоль, которая могла в любой момент перейти в злокачественную форму. Слава Богу, обошлось. Девочка тогда была уже подростком, у неё появился друг, не в смысле «дружба», а с недетскими отношениями, что уже достаточно пожилого отца, человека старой формации, не на шутку встревожило. Он ломал голову над тем, как бы разорвать «опасную» связь. И повод представился сам собой. Вскоре после того, как дочь выписали из больницы домой, семью Гринберг поставили перед фактом, что их переселяют в однушку где-то в, так называемое «Новоебуново», т.е. «спальные» районы (окраинные новостройки) при СССР. «Спальными» их прозвали потому, что с работы люди приезжали туда только спать, а никакой инфраструктуры там не было. Театры и музеи все в центре, кинотеатра ещё нет… Мало того, что там, куда поселили Моню с Валей, не было тогда ни поликлиники, ни школы, ни магазинов, даже асфальтированных дорог ещё не сделали. Тротуары там были из досок. Отца и дочь Гринберг ещё и вселили в однокомнатную квартиру, несмотря на то, что они разного пола, что было противозаконно. Они категорически отказывались выезжать из центра, тем более в такую жуткую дыру. Но не помогло ничего. Даже был проигнорирован тот факт, что Моня воевал, получил ранение и теперь инвалид. Приехала милиция, отца с дочерью силой выволокли из квартиры, покидали в машину их скарб и отвезли в проклятое «Новоебуново». Там грохотала стройка, грязи было по колено, а из окон их нового, но щелястого блочного дома с не закрывающимися дверями и кривыми стенами, была видна огромная свалка мусора, над которой с карканьем поднималась стая ворон, когда подъезжала очередная машина и вываливала туда мусор. Именно тогда Моне в голову пришла замечательная идея о том, что там можно находить много всякого интересного, пригодного для жизни. Но эта мысль была вторая. Первой его мыслью стало – уехать из страны.
И лучше бы ему оставить свою гордыню и пожить пока там, а квартиру можно было бы и обменять, в конце концов, как-нибудь, с доплатой. Однако, Моню переполняло негодование. Он проливал кровь за Родину, потому что был патриотом, а с ним вот, как поступили, буквально выставив из столицы, и он ощущал себя в ссылке. За что с ним столь не по-человечески обошлись, он не знал. Но решил, что виноват во всём этом антисемитизм на государственном уровне, когда было даже негласное правило не принимать евреев в вузы. Сейчас об этом мало, кто знает, но при СССР, во времена Брежнева, еврею получить высшее образование было очень не просто. Конечно, это всё тщательно замалчивалось, но нет ничего тайного, что не стало бы явным.
И тогда Моня решил эмигрировать. Заодно дочь увезти от её «растлителя». План был таков. Сначала ехать в Израиль, так как в те годы выпускали только туда. Их выпустили. И они с дочерью навсегда, как тогда казалось Моне, уехали с Родины. И ехали они в никуда. Им предстояло начать жизнь с чистого листа, для начала заново научившись говорить. Только Валя, почти девчонка, ничего ещё об этом не знала, решив, что папа едет туда на время, в командировку, и лишь тогда, когда прошло несколько месяцев, поняла то, что навсегда попрощалась со своим прошлым. Это она запомнила и жила с этим всю жизнь.
В самолёте было очень душно. Тошнило. У обоих заболели головы и зажившие раны, они еле дождались окончания полёта, а когда ступили на трап, им захотелось рвануться обратно в самолёт, где по сравнению с израильской жарой, было даже прохладно. Пекло там стояло такое, что несчастные переселенцы сравнили это с фашистской пыткой. Валечка расплакалась, а отец проклинал свою дурость. Сидели бы сейчас в родном Новоебунове, а теперь в этом аду на сковородке поджариваться. Обратно-то хода нет! Тогда эмигрантов обратно ещё не принимали.
И началась их одиссея, растянувшаяся на 25 лет. Мыкались они в этом Израиле не по-детски. Жили в какой-то подвальной конуре. В чужой стране, где большинство говорило на иврите, Моня чувствовал себя беспомощным, так как не в состоянии был выучить иностранный язык. Даже английский ему не давался. Иврит с большим трудом осилила Валя, и ей удалось закончить какой-то колледж и выучиться там на портниху. Но отец… он жил на пособие, и никак не мог устроиться, и надо было уносить оттуда ноги, как можно скорее. А, между тем, она, выучив язык, успела обрасти друзьями и стала встречаться с очередным юношей…
Но девушку снова выдернули из более-менее образовавшегося круга общения. На сей раз, они летели в США. Я не стану здесь описывать дальнейших скитаний бедного Мони и его дочери, но мыкались они по миру до тех пор, пока не обосновались в Париже. Почему именно там, трудно сказать. Тем более, что никто их туда не звал, гражданства давать не собирались и Моня там так и прожил без него более 20-ти лет, оставаясь все эти годы нелегалом.
Там условия оказались лучше, чем в Израиле, но Моня оставался собой. Ведь от себя-то не убежишь! Французским языком так и не овладел, зато научился филателии, стал торговать марками и прочим антиквариатом, который таскал с помоек. Он ещё в СССР научился лазить по ближайшей свалке в поисках чего-нибудь интересного, а теперь стал этим жить. Общался только с русскими эмигрантами, которых там было много.
А бедная Валя работала уборщицей в русском доме для престарелых эмигрантов ещё первой волны. Ей повезло. Русская графиня, уже древняя старуха, страдающая от одиночества, с радостью взялась учить девушку французскому языку, причём, бесплатно. И выучила.
Где-то в это время Вале довелось снова попасть в грязную муниципальную больницу, где она с арабами и африканцами пролежала в коридоре и чуть не умерла, так как очень сильно отравилась пищей, принесённой отцом с очередной помойки, и нужно было срочное промывание желудка, а там всё медлили. Не доходили до неё руки. Молодая женщина уже теряла сознание, бредила, температура зашкалила, и тогда Моня забрал оттуда дочь и промыл её в домашних условиях. Второй раз уже он спасал ей жизнь, но Валя со временем забыла и об этом.
Потом Вале удалось выйти за француза замуж и, таким образом, получить гражданство. Француз был с небольшой умственной отсталостью после родовой травмы, но человеком был очень хорошим. Затем, Валентина получила и права на вождение автомобилем, который они, вскоре, купили. Потом они приобрели домик в пригороде, где жили, в основном арабы, африканцы, цыгане и маленький процент русских и выходцев из восточной Европы. Отца поселили в пристройке, завели страшную с виду собаку, которая была у них вместо ребёнка (детей они заводить боялись, боясь наркомании и безработицы), и так они прожили лет двадцать. Из некрасивой, но милой и обаятельной девушки, Валентина превратилась в полную женщину, и почти перестала следить за собой – так обленилась. За это время, правда, вся их семья – Валя с отцом и муж, растолстели от сытой, размеренной жизни, и даже у всегда худого Мони появился довольно-таки объёмный животик. И даже регулярная игра в бадминтон не помогла ему оставаться поджарым – так он любил покушать и полакомиться сладостями. «Папа, ты, как муха – к сладкому тянешься!» - смеялась Валентина.
Моня во Франции стал профессиональным клошаром. Каждый день, рано утром, не побрившись и надев грязный плащ с обрезанным рукавом, что бы лучше было видно изувеченную конечность, он выходил из дома с большим баулом на тележке. Всё утро он собирал с помоек продукты, просроченные на один час(!), одежду (часто выбрасывали хорошую вещь из-за пятнышка или оторванной пуговицы), прочие вещи, среди коих попадался и антиквариат. Он собирал там же книги, а также, конверты писем и отпаривал от них марки. Так они и жили.
Но Моня страшно скучал по России. Конечно, он знал о том, что там уже давно нет советского строя, всё изменилось, вернуться даже можно назад, но там квартиру не дадут. Вернуться будет некуда. Ему хотелось внуков, но Валя категорически не хотела, отговариваясь тем, что у них здесь нет будущего, наркомания, убить могут, и никого, кроме своей огромной старой собаки не любила. Когда эта собака околела, Валентина, надев траур, убивалась по ней так, как будто похоронила своего ребёнка. На неё было страшно смотреть. Она, какое-то время, так хандрила, но, в конце концов, жизнь встала на прежние рельсы. Однако. характер Валентины всё больше портился. Унаследовав от отца конфликтность, она вспоминала все обиды, которые были нанесены ей с детства и главным её обидчиком стал именно несчастный Моня. Старый отец, с возрастом ставший ещё более невыносимым, превратился в обузу, и они стали ещё чаще ссориться, чем раньше. Оба они были с непростыми, мягко говоря, характерами. Конечно, с таким человеком, как Моня, не охота было жить даже на одной улице, а он жил гораздо ближе к дочери, чем ей бы хотелось. Ругань стояла между ними постоянно. Валя отводила душу, выкрикивая ему страшные обвинения в том, что он сломал ей жизнь. Они так орали, что было слышно на весь квартал, и начинали плакать арабские, африканские и цыганские младенцы у разноцветных соседей.
Их отношения ещё более испортились после того, как Валя съездила в Москву и возобновила отношения со своей первой любовью, мальчиком по прозвищу Джо, который стал большим, седовласым профессором. И начал этот профессор регулярно кататься к ним, и, пока зять работал, развлекался с Валентиной. Порядочный Моня не мог этого пережить. Ему было жаль своего недалёкого зятя, и мужская солидарность не могла ему встать на сторону дочери, которая всю жизнь, оказывается, любила этого Джо.
А Джо нужна была только Франция. А без этого он и не взглянул бы на свою подругу детства, ставшую толстой тёткой в шлёпанцах и олимпийке.
И тогда он вспомнил о том, что внучка, хоть и не родная, у него, всё же, есть. В Москве у него осталась племянница, Сонечка, дочь покойного брата, которую он, маленькой, качал на коленях. Она давно уже замужем, и её взрослая дочь, Татьяна, приезжала к ним, да прожила у них более полугода, но так и не смогла устроиться, и ей пришлось вернуться домой, чтобы не сидеть на шее у родственников. «Потому что дура-Валька куска хлебушка да горстки гречневой кашки пожадничала для неё!» - потом сетовал он, - «А какая девка была хорошая! Умная, красивая! Жила бы она здесь, со мной…» Он забыл о том, как сам же говорил ей: «Тебе здесь ты не удастся выбиться! Для этого зубы иметь вот такие острые! И такие же когти! А ты язык выучить не можешь, не умеешь ничего, беспомощная, домашняя, ума в тебе мало, да и внешне ты ничем не выдающаяся. Тощая, как кузнечик, одни глаза да нос…»
И теперь, во Франции, совсем один в своей пристройке к дому дочери, он всё чаще вспоминал внучатую племянницу, которую они так плохо приняли и совсем не поддержали в трудностях. Ему хотелось больше русских людей вокруг, а ещё лучше – вернуться домой, в Россию.
А дочь с возрастом становилась всё более нетерпимой. Унаследовав его характер, она стала такой же, как он, беспощадной, бестактной, и теряла одного за другим друзей и знакомых. Здорово обозлилась она и на отца. Что уж такого ляпнул ей, невоздержанный на язык, Моня, теперь и не вспомнить, но что-то он, определённо, ляпнул. Или просто накопилась у неё на него обида на всю жизнь. За то, что не смог ужиться с мамой, и она по его вине лишилась матери и сестры, за то, что оторвал её от возлюбленного и увёз на край земли, где ей пришлось столько трудиться. А трудиться Валя терпеть не могла. Она была просто феноменально ленивой женщиной. Потом она злилась на него за то, что нашёл ей умственно-отсталого мужа и не принял её любимого Джо. Словом, затаила Валя на Моню обиду.
И однажды в парижском метро на Моню напали, что бы избить, двое «негров», - как он выражался, - «а руководила ими какая-то русская баба! И я понял то, что это Валька их подослала, что бы они меня покалечили, и я бы поскорее умер! Тогда я решил бежать на Родину!» - так рассказывал Моня пожилой супруге покойного брата, свалившись в их квартиру, где она жила с дочерью, зятем и внучкой, как с нег на голову, в семь часов утра.
О том, как он с двумя чемоданами и рюкзаком, из которого торчали две бадминтонные ракетки, проходил таможню в три часа ночи, и сонные таможенники поставили печать на документы, которые у него были, якобы, не совсем в порядке, он потом рассказывал долго и с удовольствием, каждый раз приплетая всё новые подробности.
«И вот, я вернулся сюда, что бы умереть на Родине, за которую кровь проливал!» - патетически завершил Моня свой длинный рассказ о своих перипетиях. Эта фраза ему нравилась, и он не упускал возможности повторять её снова и снова под любым предлогом.
Чемоданы он хранил у племянницы в комнате, под кроватью, той самой Сонечки, которую в детстве качал на коленях, распевая про верблюдов, лошадок, собачек. У них же вознамерился и поселиться, но сам увидел то, что в тесной трёшке совсем нет для него места. Первые дни он ночевал на кухне, и этим здорово мешал всей семье. Племянница теснилась с мужем в одной комнате. Её мать, супруга брата, - в другой, крошечной, а в третьей, самой светлой, жила и работала его внучатая племянница, ненаглядная Танюшка. А вместе с ней там жили её многочисленные картины, и там она устроила себе настоящую художественную студию. В институте учится, подрабатывает, расписывая церкви. Поступила-таки! Моня гордился «внучкой».
Не знал несчастный Моня того, что, как только ввалился в квартиру и начал разговаривать, эта самая внучка окончательно возненавидела его, проникшись к нему неприязнью ещё во Франции. Его язык очередной раз его подвёл. Наговорил ей всяких глупостей, которые говорят все, кто не разбирается в искусстве, и что художнику говорить ни в коем случае было нельзя. Тем более ранимой Тане, у которой подвинулась психика на том, как без всякого блата трудно было выбиться и на том, с каким трудом она выучилась профессии, и как трудно художнику в современном мире выживать. Лишь в 23 года смогла она поступить в новый, недавно открывшийся художественный вуз, где до сих пор училась, будучи уже профессиональным художником, так как успела выучиться в частной студии у высококлассного педагога. Но Моне-то всё это было невдомёк.
Со свойственной ему железобетонной прямолинейностью, он менторским тоном принялся давать ей советы о том, что лучше бы она писала старые московские пейзажи, а то скоро всё «посносют», красивых, нарядных девушек в полный рост и натюрморты с пышными букетами. «Вот это – красиво! А что ты рисуешь каких-то непонятных людей?! Что это за «Портрет сумасшедшего»? А что это за «Бомж в метро»? А это что за каляка-маляка? Пятна какие-то непонятные… абсракция? Ну, то, что это действительно абсракция, я итак вижу, только зачем это? Кому это нужно, когда ничего не понятно?! А это что за полу курица, полу корова, полу карп? И почему оно папиросу курит? Сурялизьм, говоришь? Ты этих сурялизьмов больше не рисуй, а то тебя ещё и в психушку отправят и будут правы! Таким, кто таких сурялизьмов рисует, там и место! А это ты, что ли? Автопортрет? А почему нет улыбки? Надо непременно с улыбкой!» Таня, уже взбешённая до предела, отвечала, что невозможно, когда сам себя в зеркало пишешь, то несколько часов не сможешь улыбаться. Но, как мы знаем, Моня всегда игнорировал то, что ему скажут, и он продолжал бубнить: «А улыбка необходима! Как можно так, с таким хмурым, серьёзным лицом…» Такие понятия об искусстве были у сына театральной художницы и работника кино. Почему-то, бедный Моня был совершенно несведущ в искусстве, не умел смотреть картину, почти ничего стоящего не читал и совершенно не умел слушать музыку, так как был глух к мелодиям. Ему нравились только песни, со словами в которых он был согласен. О кино у него тоже были представления пещерные. Феллини и Антониони – это для него муть какая-то. Только цветной и костюмированный реализм. Сюжет – комедии, приключения. Кроме того, Моня обожал фильмы сталинского периода, например, ему очень нравился Пырьев.
По внешнему виду Тани, он тоже, конечно, прошёлся. Не мог промолчать при виде порванных джинсов и разноцветных волос («патл», как он выразился). Причёска ему не та, одета не так, худая слишком «вместо груди два прыщика, да ножки-спички!». То ли дело, в его времена как одевались девушки! «Платьица носили в цветочек, кудряшки, а сами – кровь с молоком! Платье прорвётся, вот-вот! Любо-дорого смотреть!» - ностальгически завывал Моня, полязгивая железными зубами из-за нервного тика, и его огромные уши при этом подрагивали.
Вот бы ей просто посмеяться над забавным старичком, но, задетая за живое, раздражённая той ересью, что он нёс, не достаточно умная Таня на него здорово взъелась. Бедный Моня тут же получил кличку «Маргинал». Таня, срывающимся голосом потенциальной истерички, категорично заявила матери о том, что этот асоциальный тип её «конкретно достал». Она больше не хочет, что бы «этот урод» и «гадкий старикашка» сюда приходил, так как не намерена видеть эту «гнусную рожу» и слушать эти «тупые расклады», так как не страдает мазохизмом. Соня, души не чаявшая в дочери, вынуждена была с ней согласиться и не возражать, а дяде она сказала, чтобы он не беспокоил Таню, у той «экзамены, много работы, и она нервничает». И это была правда, конечно.
К тому времени Моне удалось выбить пенсию, как ветерану и инвалиду, а чтобы обеспечить его жильём, по знакомству удалось устроить его на работу сторожем и разнорабочим в детский сад. Жил он прямо там, в подсобке, а к родственникам заходил порыться в своих необъятных чемоданах. С собой он приносил трофеи с местных помоек. Наша насквозь протухшая просрочка – это, конечно, далеко не французская, когда товар, с истёкшим сроком годности на один час, честно выбрасывают, лишь изредка его портя, прокалывая упаковки или давя ногами. Обычно его просто выбрасывали, а клошары подбирали. Поэтому французские аккуратненькие бачки, зовущиеся «poubelle» - это не наши российские грязные и вонючие мусорные баки! Небо и земля. У нас хорошую вещь редко выбросят. На продуктовых упаковках же в магазинах переклеивают этикетки, и снова пускают в продажу уже не свежую продукцию. Или готовят из неё всякие фарши, паштеты, полуфабрикаты и тому подобное. Так что, на помойку попадают уже совсем несъедобные продукты. Да и, в отличие от спокойных французских клошаров, наши бомжи поделили территорию, образовали нечто типа «мафии» и не подпускают к «своим» бакам посторонних. Могут и клюкой отдубасить. Пришлось Моне к ним «прописываться», как он выражался, или тайком пробираться к вожделенным бакам, пока вечно пьяные конкуренты ещё не проснулись.
Без «гостинцев» Моня к племяннице не приходил. Ему так хотелось порадовать родственников! То принесёт дыньку с подгнившим бочком, то завянувший пучок петрушки, то перчики, тоже с гнильцой. Иногда находил какую-нибудь куртку или сумку. Натащил с помоек для Тани оргалита, что бы растопить её заледенелое сердечко, и был просто счастлив, увидев на её лице довольную полуулыбку, которую у неё не получилось сдержать.
Бывало, он любил прийти к ним рано утром, когда муж Сони, Виталий, только что ушёл на работу, а она сама нервно собирается, боясь опоздать. А он принимался, стоя в тесной прихожей, разговаривать в полный голос. А глотка у Мони всегда была лужёная, и он совсем не умел разговаривать тихо – всегда орал. За дверью спала его невестка, и Соня, страшно округлив, полные ужаса, глаза, шипела: «Тишшшше! Спит мама!!!», но у Мони была особенность игнорировать полностью слова окружающих, и он продолжал галдеть своим зычным голосом перфоратора так, что у соседей лаял доберман. Старуха, конечно же, просыпалась, выползала в туалет, занимала все места общего пользования и мешала дочери собираться на работу.
Когда Соне, наконец, удавалось уйти, «Маргинал» заходил в их с мужем комнату и принимался подолгу рыться в своих чемоданах. Если при этом дома оказывалась Таня, она сидела в своей комнате, тихо злилась и с нетерпением ждала ухода докучливого старикана.
И вот, вдова его брата скончалась. От него это, разумеется, скрыли, но, в очередной его визит, болтливая соседка (есть же такие…), наткнувшись на него, сообщила ему о смерти старушки. «Маргинал» тут же начал атаку на место своей временной регистрации. Он «ломился» в квартиру всеми правдами и неправдами, но пускать его никто не собирался. Освободившуюся комнату занял Виталий, сделав её своим кабинетом. В коем-то веке, у каждого члена семьи появилась отдельная комната, и менять условия жизни на ещё более худшие, чем они были при жизни «не вполне удобной» хозяйки квартиры, они не собирались. «Совсем неудобный» Моня в квартире был никому не нужен. Солгали, не подумав о последствиях, о том, что Таня, якобы, «вышла замуж, муж поселился тут же, и теперь ожидаем пополнения семьи - будет двойня!». И он вынужден был, нехотя, отступить.
Бедный Моня, дожив до старости, так и не понял того, почему его «многие не любят» и, к тому же, он не замечал того, что почти все его, не просто «не любят», а терпеть не могут. Он искренне не понимал того, за что его можно не любить, и чем он вызывает в людях такое раздражение.
На работе его, в детском саду, кто-то повадился красть. В воровстве обвинили, конечно же, Моню и уволили его. Потом он поработал рабочим, получив койку в грязном общежитии. Но Моня был очень стар, к тому же был почти одноруким, поэтому работал плохо, и вскоре его уволили и оттуда. Так что, ночевал он, отныне, неизвестно, где. Скорее всего, с бомжами. От его брюшка, привезённого из сытой Франции, давно уже ничего не осталось, он страшно отощал, сгорбился и мрачно скитался по Москве, один в целом свете.
И теперь, лёжа в больничном коридоре, старый Моня вспоминал «внучку» и надеялся на то, что она к нему придёт. Он так и не понял того, что она его никогда не любила. И она, конечно же, всё не приходила, так как и не собиралась наведываться к Маргиналу. Только мать её навещала больного, и он справлялся у неё, как Танечка, родила ли двойню. Соня что-то врала ему, неумело, нескладно, с тяжёлым сердцем, так как ей было его безумно жаль.
Внучатую племянницу Мони нелицеприятный Господь «наказал» за то, что не проявила милосердия к бездомному старику тем, что она так и не смогла выйти замуж, и детей тоже у неё нет. Так это выглядело со стороны и так могло показаться, если не знать специфики жизни профессионального художника-живописца, работающего серьёзно, создающего произведения искусства, а не картинки на продажу. Они просто не хотят связывать себя семьёй, оставляя время и свободу на творчество. Однако, со стороны это выглядело именно, как Божья кара за чёрствость, гордыню и мстительность.
Но иначе она не могла, так как в описываемые здесь события, она была взвинченная, ещё окончательно не выкарабкалась из того пограничного состояния, что привезла из Франции. Татьяна была вся – сплошной комок нервов, и просто физически не могла жить в одной квартире с двоюродным дедом, сетуя на то, что он «сыплет бестактностями со скоростью взбесившегося пулемёта». Она не желала ничего знать том, что с ним, и где он скитается. Таня была занята учёбой, много работала, и ей необходим был комфорт дома.
Однажды, когда она была дома одна, ей позвонили из поликлиники. Спрашивают: «Где Гринберг?», а Таня, будучи резкой, когда что-то отвлекало её от работы, недовольно ответила: «Откуда мне это знать?!», тогда женщина на том конце провода сообщила ей о том, что Соломон Израилевич приходил к ним сегодня с жалобами на сильную боль в сердце, и они направили его в больницу «по скорой», а он вдруг от них сбежал. Они подумали, что он пошёл домой, а Таня сухо ответила ей, что он не приходил, потому что здесь не проживает. На том конце трубки женский голос ещё говорил о том, что у Гринберга инфаркт, и его необходимо разыскать, но Таня уже её не слушала и повесила трубку.
Моня пропал. Он, как и его мать, боялся врачей и больниц, поэтому решил сбежать, надеясь на то, что если он пососёт валидол, боль в его несчастном сердце утихнет. Однако, ему стало совсем плохо, и он упал на улице. Моня лежал в грязи, с позеленевшим лицом, глядя невидящими глазами в синее осеннее небо, по которому плыли пушистые облака. На него планировали жёлтые листья, а мимо проходили люди, не обращая внимания на лежащего на земле, тощего старика в старом плаще. Наконец, нашлись неравнодушные граждане, которые вызвали скорую помощь, и несчастного Моню отправили-таки в больницу, где вскоре прооперировали. Все палаты оказались занятыми, и, после операции, из реанимации Моню привезли и положили в коридор. Чувствовал себя он, всё равно, очень плохо. С его безобразного лица не сходила мертвенная бледность.
На сей раз, когда позвонили в квартиру, трубку сняла, оказавшаяся дома, Соня, и она тут же побежала в больницу к своему дяде, прихватив с собой всё необходимое.
Моню, наконец, удалось положить в палату, и, пока Соня суетилась, рассовывая всё, что она принесла, по ящикам тумбочки, он всё спрашивал: «Как Танюша? Беременность не помешает ей навестить своего дедушку? Пустят её в больницу-то?» Племянница опускала глаза. Ей хотелось плакать. Она тихо отвечала: «Вряд ли беременную пустят, да она и чувствует себя плохо. Угроза выкидыша, знаешь ли, в любой момент может детей потерять. А хочешь, Валечке позвоню? Она-то не знает ещё о том, что ты в больнице…»
Соня лгала, так как она тут же оповестила Валю о болезни её отца, но та сухо сказала, что в ближайшее время приехать не сможет и вообще, едва ли сможет выбраться, «его не просили уматывать – сам виноват!» Но Соня надеялась на то, что она передумает и навестит отца.
- Пусть приедет, а?.. – говорила она просительно. Но старик отказывался, упрямо мотая лысой башкой со слоновьими ушами. «Ну её к лешему! Бросила меня! Одного оставила! А сколько я для неё сделал! Мужа ей нашёл именно я! Я купил этот дурацкий журнал с объявлением! Иначе, где бы она была?» - выдал Моня свою дочь с потрохами и далее рассказал племяннице историю знакомства Вали с мужем по объявлению вместо той красивой, романтической истории, которую преподносила всем Валентина. Так Соня нечаянно узнала о том, что её двоюродная сестра скрывала и чего стеснялась. Дальше неё это не пошло, конечно, но она понимала то, как стало бы Вале неприятно, если бы она узнала о том, что отец проболтался.
Сонечка знала то, что отец будет рад увидеть дочь, несмотря на то, что говорил о ней. Она, ещё раз позвонила двоюродной сестре во Францию и стала умолять её приехать к отцу и помочь ему с жильём, помочь купить ему хоть комнату, а деньги потом бы ей постепенно вернули. В трубке бодрый «пионерский» голос отрапортовал: «А он от меня сам оказался! Его никто не выгонял, сам уехал, зачем-то, неизвестно, куда! Бросил меня здесь одну. Сначала увёз меня без спросу в эмиграцию, сломал жизнь, теперь рванул назад! А мне теперь ему здесь жильё покупать! Никуда я не поеду! Мне эти его фигли-мигли - во, где!» Соня догадалась, что при последней фразе сестра провела тыльной стороной ладони по своему горлу. Она ещё надеялась на то, что у Вали проснётся совесть, и она приедет к больному отцу, поэтому сказала Моне, что у той трудности с получением разрешения на выезд, а так она уже едет. И Соня увидела, что старик улыбнулся.
Валентина так и не приехала. Соня пережила тогда не лучшее время. Она понимала то, что больного Моню, после инфаркта, придётся, всё-таки, поселить в комнату матери, а мужа вернуть назад. Уже начав делать в перестановку, чтобы устроить дома коммунальную квартиру, она тяжело вздыхала, представляя себе то, что будет, когда Таня узнает о том, что Маргинал будет здесь жить. Она была в ужасе от предвкушения того, какая истерика у неё начнётся, и решила подумать об этом завтра, как говаривала её любимая героиня Скарлетт.
В это время, койку с больным Моней снова выставили в коридор, выкинув его вещи из тумбочки и покидав их в какой-то не чистый пакет. Рассудили они так: его скоро выпишут, а значит, полежит, где раньше, ничего с ним не случится. Так, Моня снова оказался в коридоре. И снова мимо него проплывали капельницы, провозили каталки с живыми и мёртвыми, ковыляли больные на ходунках и прошмыгивал персонал, поднимая ветер. Лысина его немилосердно мёрзла от сквозняка, ноги тоже были ледяные, а он вспоминал то, что пережил. И вот, наступила ночь, здание больницы погрузилось в сон, только Моня не спал, лёжа в тёмном коридоре. Он всё вспоминал и вспоминал всю свою жизнь. Войну, недолгий свой неудачный брак, эмиграцию…
Соня в эту ночь тоже никак не могла уснуть. Ей было жаль Моню и неудобно перед ним из-за того, что они физически не смогут надолго приютить его в своей квартире, разве что, потерпят первое время, но потом-то надо будет что-то решать. И Соня размышляла: «Пусть он окрепнет, и тогда ему легче будет перенести тот факт, что надо искать себе другое жильё. Но Таня-то здесь причём? Они-то с Валькой её так «хорошо» приняли у себя, что чуть ли не в собачьей будке держали, да работать в придорожное кафе отправили, где её чуть не застрелил грабитель. Кстати, это после того случая характер у неё изменился, и она стала такой ожесточённой, чуть что, озверело кричит, зубы скалит. До Франции она такой не была. Чуть с ума не свели ребёнка, а теперь хотят потеснить в её же квартире. А сам-то он в собачьей будке пожить не хочет? А ледяной водой мыться? А хлеб один жрать да воду пить?»
Соня не заметила, что её сострадание к немощному старику сменилось гневом. «Какого чёрта мне нужен здесь этот хамоватый дедок?! Просто пытка, когда он жрёт, чавкая и клацая челюстями, да пьёт, хлюпая! Ну почему мы должны его здесь терпеть?! Из-за его дочери моя дочь во сне кричит по ночам! Пусть Валька и разбирается с ним! Нечего нам на голову подкидывать своих родственников!» - злилась Соня, распечатывая пачку сигарет. Она давно не курила, а тут решила подымить на кухне. Потом она, наплевав на экономию и на то, что глубокая ночь, набрала номер Валиного телефона. Подошёл муж Вали, так как он в это время уже вставал и ехал на работу. По-русски Клод не говорил, и Соня, чертыхнувшись, бросила трубку. Покурив, она немного успокоилась и под утро, всё-таки, заснула.
А Моня спать не мог…
Потому что глупо было бы проспать последние минуты своей жизни.
В тёмном коридоре больницы, лёжа на скрипучей койке, старик улыбался. Дочь его живёт в Европе, у неё свой дом, любящий муж. Это он привёз её туда и сам нашёл ей мужа. Моня хороший! Моня - красавец! Сделал её счастливой, вырастил, воспитал… он вывел в люди дочь, он защищал Родину! Нет, он жил не зря. А теперь он вернулся умереть на Родину, за которую кровь проливал. Тук, тук, тук, тук… раз, два, три, четыре, пять… ну, с Богом!
Пуск!!!
Душа Мони вырвалась наружу и воспарила над уродливым телом старика, вытянувшегося на больничной койке так, как будто бы он снова встал в строй.
Утром подошла сестра и накрыла холодный, одеревеневший труп простынёй. Его переложили на каталку и отвезли, почему-то… в душевую. Там труп на каталке какое-то время находился, и больные, приходившие помыться, недоумевали, почему. Наконец, уже после обеда, молодой медбрат с кудрявой шевелюрой и плеером в ушах, насвистывая, вывёз каталку с телом Мони на двор больницы и покатил в сторону морга.
Таня в это время была дома и готовилась к семинару. Как вдруг позвонили из больницы и профессионально-убитым голосом сообщили: «Примите наши искренние соболезнования. Соломон Израилевич Гринберг скончался сегодня ночью. Вам надо приехать…»
Таня обхватила голову руками и со словами: «Несчастный. Отмучился!», позвонила матери на работу, а та прямо с работы поехала в больницу. Вернувшись, она снова позвонила Вале, рассказала о случившемся, и обе они поплакали. Больше над Моней не плакал уже никто. Валентина так и не приехала. Похороны прошли без её участия, были нищенские, и на них из-за холода почти никто не пришёл. Моню кремировали и урну с его прахом в колумбарии поставили в нишу его родителей. Тихие поминки прошли скромно. Когда гости ушли, Соня и Виталий, молча, мыли посуду. Затем Соня позвонила Вале и спросила: «Как быть с вещами твоего отца? Приедешь за ними?» Валя аж зашлась: «Зачем ещё мне его пожитки?! Выброси на помойку весь этот хлам и забудь, как кошмарный сон!»
Вытащив из-под кровати и открыв чемоданы с дядюшкиным скарбом, Виталий увидел там целый мир старого Мони. Там лежал его выходной костюм с орденами и парадные ботинки, портрет Сталина, его же бронзовый бюст, запасные очки, маленький транзисторный радиоприёмник и гражданский кодекс Российской Федерации. Кроме того, солдатские фляжка и плоский котелок цвета хаки, альбом с фотографиями, портняжный и сапожный наборы, где всё лежало в идеальном порядке, два кляссера с марками, книга поэта Баркова, которую тут же выбросили в мусоропровод, чтобы не прочла Таня, и ещё несколько книг неизвестных в России писателей-эмигрантов. Кроме того, там лежала папка с неумело и коряво написанными воспоминаниями Мони, к которым прилагалась записка: «Опубликовать после моей смерти». Лежала там ещё кое-какая одежда и две смены белья, опасная бритва, помазок, одеколон, зеркало, металлическая мыльница и деньги в старинной коробке из-под монпансье. Рассмотрев сокровища Мони, Виталий сокрушённо констатировал: «Это всё, что от человека осталось…»
Таня забрала себе солдатскую фляжку, мыльницу, чайную ложку и ножницы. Эти вещи побывали на фронте вместе со своим хозяином. Соня взяла зеркало и записную книжечку в бурых пятнах крови, в которой химическим карандашом было выведено: «Количество убитых мною фрицев», а далее шли даты и числа. Боевые награды она бережно сложила в шкатулку. Кляссеры с марками и справочник по филателии забрал Виталий. Они ещё долго перебирали дядин скарб, думая, куда пристроить остальные вещи и решая, как поступить с его мемуарами. Влезла Таня со своим сарказмом: «Давайте назовём их так: «Приключения маргинала»!» и, увернувшись от маминого подзатыльника с громким весёлым ржанием, вприпрыжку убежала к себе. «Вот, хулиганьё!» - проворчала Соня, пряча невольную улыбку.
Смех девушки ещё какое-то время слышался из её комнаты-мастерской. Но как-то долго она хохотала, заливисто-громко, пока не послышались звуки, похожие на плач с завыванием и странными звуками, вроде: «Ой-ой-ой!», потом послышались странные звуки, похожие на икание или лай. Родители переглянулись и стали прислушиваться. Стало вдруг очень тихо, и через какое-то время послышалась тихая песня: «Ой, вьюн над водой, ой вьюн над водой, ой вьюн над водой завивается…». Затем заунывное пение стихло, и послышался странный быстрый топот, как будто бы Таня забегала туда-сюда по комнате. Топот продолжался какое-то время, а потом послышался голос дочери, спокойно произносящий: «Тук, тук, тук, тук, тук…». И так, бесконечно долго, Таня отчётливо выговаривала эти короткие слова, а после этого снова послышался быстрый топот её ног по комнате туда-сюда, туда-сюда, топ-топ-топ-топ-топ… Родители, молча, слушали под дверью. На какое-то время топот ног прекратился, и воцарилось молчание, но вскоре опять: «Тук, тук, тук, тук, тук…», а за этим последовало: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть…», и снова топот ног, очень быстрый, почти что бег, а затем: «Тук, тук, тук, тук, тук…» - ровный женский голос считал и считал, всё никак не останавливаясь.
«Она что, над нами издевается? Что за глупая шутка?» - вопрошала побледневшая Соня дрожащим голосом, испуганно глядя на мужа. Виталий, прислушиваясь к тому, что происходило за дверью, а там снова доносилось мерное: «Раз, два, три…», а потом быстрый топот ног, ответил ей мрачно: «Похоже, это припадок какой-то… это от избытка негативных впечатлений и перегрузок в институте. Ты же знаешь, что после жизни во Франции, она болела долго. Скорее всего, просто переутомилась, не волнуйся, так бывает. Позвоню брату, пусть приедет, посмотрит...» Брат Виталия был доктором наук, профессором. Он много лет работал в психиатрии. Ему позвонили, он сказал, что бы к дочери не заходили, и обещал через 20-ть минут быть. Все эти 20-ть минут родители, сидя под дверью дочери, тревожно прислушивались к звукам, доносящимся из комнаты Тани.
Раскрытые чемоданы с вещами Мони заполнили собой всё свободное пространство комнаты, и специфический запах из них медленно распространялся по квартире.
Голосование:
Суммарный балл: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
Нет отзывов
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор