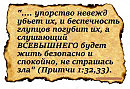-- : --
Зарегистрировано — 123 419Зрителей: 66 506
Авторов: 56 913
On-line — 23 417Зрителей: 4620
Авторов: 18797
Загружено работ — 2 122 904
«Неизвестный Гений»
ОН (из цикла "Скользящие нити")
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |

DIOGEN4212
ОН
Сия вещь возникла как опыт гибридизации отстранённости от мира и искренности выражения чувств. Автор прыгает с одной руины концептуализма на другую и видит что-то в момент прыжка, что-то близкое и чудесное, но при этом недостижимое в силу аутоиммунных реакций. Таким образом, данный проект суть порождение аллергической реакции на жизнь в свете сентенций постнеклассической рациональности.
Начало: 2.06.2007
Конец:16.03.2008
[1]
Площадка полна живыми людьми. Они похожи на колотый лёд, в приступе жажды семенящий по тротуару своими маленькими лапками. Впрочем, здесь для тротуара место не нашли – площадка окружена двумя рядами стен.
Его звали ОН. При рождении он получил имя Гидроксид-аниОН, но для краткости и прочих своих сестёр его имя ОН.
ОН стоит и чувствует ветер. Его бьют по плечам закопанные по грудь люди, а он даже с места не двигается. Ему нужно пройти в одну из дверей, но они слишком одинаковые, чтобы быть правдой, и потому неразделимы. ОН берёт на руки огненно-синий провод (ОН вырос в городе), который прибит гвоздями; провод не даёт ответа, и тогда его подхватывают человеческие существа и уносят прочь.
«Странные мысли меня посещают (это ОН так думает) – когда я беру телефон и вкладываю его в чью-то руку, он почему-то звонит. И он так любит меня, этот звонок, а я так люблю ожидание. Я стою и жду, и из трубки капает расплавленная лава, и я перестаю видеть этот мир, распускаясь на тысячи спичечных коробков. А потом они загораются, и тоненький дымок позволяет мне оставаться неузнанным и неизменным.
Если бы не радость моего ожидания, я бы придумал слоган: «Купите сотовый телефон –аппарат моей надежды».
Во что я верю? Не могу об этом знать. Но я жду, когда придёт Солнце. Оно откроет дверь в сернистом смокинге…»
И тут его мысли прерываются. Белогривая греховодница пролетает над кровавым, рвущимся в небо, потолком, и ОН бежит из коридора – падают акции его ёлок. ОН выбегает на проезжую часть, но это всё равно мимо, это всё равно не его лес. И что бы он не делал, о чём бы он не думал, ОН всегда будет стоять и дёргать дверную ручку.
[2]
В другой раз ОН думал: «Нет, ну так нельзя. Надо осмотреться. Я пойду и спрошу / у кого-нибудь, / когда принимает / тот самый врач.
Я думаю о ней, / и мне спокойно, / что я никогда не буду думать о ней. Я думаю, и оно исчезает, и надо думать, чтобы всё исчезло. Есть простая история «про НАС»,/ нам кто-то о ней рассказал,/ мы стали думать, / и она закончилась.
Вот слышу: скоро начнётся приём».
ОН видит железный чайник, покрытый бумажными отклеивающимися крапинками. Всё как на ладони в этом начищенном чайнике – ОН успевает об этом вспомнить перед ожогом.
«Я ничего не читал на 13-й вопрос».
«Мои часы закрыты, когда я пишу».
«Когда я вспоминаю тебя, мне становится светлее и проще. Я столько всего накрутил, я связан и не могу двигаться. Тут не помогут никакие крылья – они слишком большие и всегда разбиваются о загипсованные стены. Я должен думать о тебе, чтобы земля не руководила мной; в минуты своей любви она натягивает тонкую белую резинку, разрезающую мои руки. Я не должен тебя любить, но я должен вычеркнуть слово «должен».
Я никогда не приеду к тебе, но всегда буду с тобой прощаться…
В больнице всех учат заботиться, но я не умею. А порой такая в этом потребность! Без всякого налёта пошлости просто позаботиться и вместе увидеть что-то глупое и бесполезное, но такое знакомое.
Я вижу, как ты ведёшь меня к настоящему, а мне всего лишь хочется к нему прикоснуться…
Я как та девочка, что смотрела на мир со дна колодца. Вокруг не было никого, а наверху было небо, и ещё старый грязный пакет, на котором отпечаталось её лицо».
ОН был очень закрытым.
[3] Больно любить
Из пальца капал мёд.
ОН хотел прочитать газету за занавеской на скорости 2Х, но его отправили косить траву.
ОН пришёл на место происшествия, а трава такая высокая, что на ней лампочки и те прикручены. Но самолёты всё равно падают – ОН видел их обломанные крылья, по которым сновали маленькие замёрзшие жучки.
«Что с ними случилось? Для кого они?» - спрашивал себя ОН, и деревья склонялись к его волосам.
Один камень уже час протыкает кожу. Он стеклянный и в нём отражается плоское небо. ОН посмотрит в него и никогда не сможет ходить.
«Эта трава достойна большего»…
ОН хочет ещё подумать, но кожа трескается.
Ему становилось всё больнее от слипшихся ресниц и от тонкого пергаментного сердца, залапанного беспощадным ветром. Прекрасные бабочки отрывали по одной травинке, а длинноносые пауки подхватывали падающую плоть и несли её своим детям, в то время как оставшиеся фотографировали этих детей в дупле, обитом войлоком и свинцом. ОН тоже наматывал плоть, ОН тоже мечтал накормить детей, но обручальное кольцо соскользнуло с изрядно похудевшего пальца и впилось в ногу спящему газонокосильщику…
Все несли шляпы. Пчёлы приглушённо гудели. Кто-то обнимал дерево, как в старом фильме. Улыбающийся ребёнок играл со своей кошкой. Плавучая гостиница похожа на гигантский корабль и на вышитый небоскрёб. Засыпающийся гость в одной занавеске всё ещё лизал спину полусонного генерала.
И так было надо, а вилке стало грустно, и она ушла. Её не могли видеть в испачканном море, её не мог видеть задыхающийся кит, и уж точно её не видели исламские террористы, летящие на свадьбу в последний раз.
[4]
ОН ехал в покрашенном автобусе, наблюдая за своим отражением, но громыхнули кости и начался дождь. И тут он впервые увидел, какое под дождём красивое небо. ОН гнал от себя эту банальность, но небо было таким красивым и даже… многогранным. Его руки вытягивались и покрывались щупальцами, достигая обхарканного пола, но ОН был не в состоянии даже думать о жизни и своём напускном равнодушии – впервые он видел всё, не разрезая бумагу на окнах.
Когда ОН отвёл взгляд от неба, то обнаружил ещё более удивительный и волшебный факт: везде на земле – в каждом закоулке, на остановках и даже под навесом ярко-жёлтого квасного ларька были ЛЮДИ. ОН никогда не видел людей так близко…
Когда ОН сошёл с автобуса и спрятал свои отдавленные присоски (они не были нужны ему теперь), земля дышала. Она дышала после дождя тысячей маленьких маргариток, и каждая капля блестела в его глазах. ОН отпустил свою руку, и она погладила мягкую землю, не сломав ни единого комка, не поранив ни единого стволика. И земля превратилась в большую добрую птицу, подхватив его – человека в окружении присосок, расставляющего ловушки для случайных ненаписанных встреч.
«Мои присоски – это чёрные дыры, куда должны упасть все, но куда не могу упасть я. Они беспринципно яркие и они должны быть для всех живых. Но они так легко ломаются, эти резиновые присоски! Я забываю уснуть и кровь из пальца – вот боль моей потери. И тогда я сжимаюсь, и рёбра пробивают мою гортань насквозь. Так я прячу себя в свежевыкрашенном сундуке без ручек, но нет ключа среди моей мечты».
[5] «Мы прожили с тобой чужую жизнь»
При обыске нашли письмо:
«Я часто вижу тебя на экране, но мало что помню. Помню, что ты обыкновенно молчала, а если и обращалась к кому-то, то всегда на «вы». Странно, но это обращение не рождало чувства отстранённости или какой-то неискренности; находясь по другую сторону стекла, я ловил каждое твоё слово. Именно так – ловил.
Потом краска с внутренней стороны кинескопа стала осыпаться, и пугающе точные прогнозы приносили с собой ветер. Этот ветер старательно подбирал осыпавшиеся разноцветным лепестки и уносил их прочь, полные такой яркой, иссушено-бессмысленной жизни.
Но ветер не мог удержать тебя. Даже в самом прозрачном экране ты всегда была рядом.
… И что я мог сделать после этого? Я всегда был крайне сентиментальным и верил в идеал даже тогда, когда ломал самые прочные карандаши. Мои руки должны были покрыться язвами, но я по-прежнему вспоминал о ней. Ты совершенно права: мы проживали чужую жизнь.
Вот мы идём. На нас смотрят, но мы никого не видим. К нам обернулся милиционер со слезами – попросил передать за проезд. Она погладила кожу сидения, и салон закачался в пыли.
Не было ни боли, ни страха от лица усатого мальчика, беспощадного к зрелищу своего мира. Его лицо было необратимо искажено теми большими петлями, за которые так необходимо держаться. Он переминал свою шляпу, этот мальчик, как переминаются с хрустом деньги, но только шляпа эта складывалась из очень хрупкой бумаги. Такой хрупкой, что каждый раз, когда он хотел порадоваться, его прям в челюсть ударяло очередное воспоминание.
Всё это я пойму и без неё. Без своего экрана она оставалась прозрачной всегда, и я мог с лёгкостью видеть мир сквозь неё, даже не вздыхая по сторонам… Впереди нас было наше время. Не было ничего, чего мы не знали, и всё казалось нам новым, а, значит, чудесным: и титры над головой, и даже ветер, который дышит в спину каждое утро. И ещё мы снимали об этом кино…
… Я был готов защитить её, ведь она казалась мне такой хрупкой и удивительно родной, пусть даже и в отражении. Ты можешь смеяться сколько угодно над моими простыми словами, но всё, что было в ней, я находил в себе, и когда она исчезла… я увидел себя мягким мхом у подножия дерева. Мхи, они всегда к чему-то привязаны.
И началась реальная жизнь, и появилось обращение «ты», и ты повесила на стену календарь, чтобы не забыть о ближайшей дате. Я купил себе телефон, и он стал проводником в мир моей надежды. А если любимый ноутбук показывает мне «жёлтеньку собачку», то мы идём с ней искать то, что я когда-то увидел в окне. На экране».
[6] ОН и камни
Странные падающие сердца бились в такт адекватно ритмами пульса беЗкрылых кузнечиков, когда ОН, непохожий на себя от счастья, переходил площадку забетонированных прожекторов. Сильная телефонная корова цепким хвостом привязывала деревья друг к другу, и с этим ничего нельзя было поделать! «На что Они были готовы?» - вертелось в его голове.
С раненых лет ОН отличался странной наклонностью – кривой верхней челюстью. Нижнюю кривили многие, и ничего удивительного в этом не было, но верхнюю? Если только король, который и без того умер, когда пошёл ко дню…
Но мог ли ОН предположить, помыслить и даже пораскинуть мозгом, что во время чистки лыж его остановит Она? Она, построенная из кубиков и собственной надежды…
С ней было комфортно. Комфортно настолько, что можно было не употреблять слово «легко» для обозначения того неправомочного состояния, в котором ОН отапливал помещение уже полгода.
Как они пробегали! Никто им не верил, а Они всё равно пересекали солнце быстрее всех. Их убЫвал дымящийся воздух – последняя примета сердца – а они для всех улыбались, и те повторяли шёпотом или в полсилы: «Само пройдёт».
Без труда, кто была и вправду простая, мокла под окнами Их.
Зачем Они оставили всё как есть, делая вопрос незаконченным?
[…]
В том месте, куда его запихнули словно монету между страниц, жила кошка. Если она прикасалась к нему своей тёплой спиной, ОН мог уже не плавать под окнами, за которыми жили камни. Камни эти проводили время в тумане, и никто их не ел. Да и кто нащупает что-то, да ещё и зубами?
В буфете плавание обычно было недолгим. С утра несколько рецептов безразличия, потом два взмаха ластами – и на месте. Огромные окна пропускали каждую лучинку Солнца, давая простор для всякого потерянного взгляда. ОН ловил тяжкие каменные соты, посыпанные приправами, и стекло потрескивало от их комплиментов в адрес УХОдящих вершин. Их вершины всегда были уходящими – вот это было важным для него.
На рассвете окна шуршали, и тогда соты поднимались, чтобы счищать ночной мох. ОН в это время прятался в пузырьках флейты. И каждое утро было прекрасным для всех, даже для спящей на кафельном полу кошки.
[…]
«У этой истории нет начала или конца, равно как и завершающего всё смысла; о сюжете и говорить нечего. Есть герой по имени ОН и чьи-то события неподалёку, продиктованные внутренней закономИрностью интуиции – единственной непререкаемой истины для автора этих песен /хотя, может быть, и строк/.
Если говорить о соотношении автора и произведения, то здесь важно следующее. Я всегда стремился к автономности своего внутреннего мира, но в то же время к его естественности, органичности. Это непременно должен быть мир, и непременно исходящий из меня /слово «мой» не совсем уместно в данной ситуации/.
[…]
Камни построены из изломанных линий, но они тоже живые, и потому питаются травой. Они выбирают тарелку и кружку из тех, что стоят на бесчисленных полках, и тщательно перемалывают недавно выросшую траву с помощью вышеупомянутых керамических изделий.
«Эти травинки растут прямо из тарелок, но они всё равно разбивают их.» - подумал однажды ОН, но к выводу так и не пришёл. Очень было холодно среди камней.
[…]
Была одна вещь, камням неподвластная – прорастающий жёлтый орех с круглыми листьями океанов. Он рос из старого ботинка, и когда ОН подходил к нему, то неизбежно спотыкался, и глаза его наполнялись песком. Проводя столько времени среди камней, ОН искренне мечтал о Встрече, но каких трудов стоило ему мечтать! Эта мечта не была чем-то неуловимым; напротив, она крепко впивалась в голову всеми 20-ю ножками, и 80 трёхгранных капель терялись в сумерках его мозга.
«И ради чего я столько путешествовал, если всё равно оказался мечтающим среди растущих камней?» - таков был его утренний клич за трапезой. А потом всё становилось цветным, и можно было жить дальше, ни о ком не заботясь.
[…]
ОН рисовал мелом у эхолота и слушал слова камня:
- Не понимаю, кто мог назвать бабочек красивыми? Эти толстобрюхие создания уже расцарапали мне всё лицо своими мохнатыми конечностями. И как они ухитряются скрывать свои когти среди такого мягкого меха?
- Неужели у бабочек есть когти? – ОН наконец-то оторвался от своего занятия.
- Ещё какие! Ведь они цепляются ими за цветы, и когда те обваливаются, то покрывают обломками всех, кроме этих крылатых тварей.
- И они продолжают летать?
- Именно так – летают, не покрытые обломками.
ОН вспомнил, как накрывался одеялом в детстве, если было страшно. Старенькая бабушка превращалась в великана, жующего капустные листья с чесноком, и подтыкала одеяло с каждой стороны, а рёв чайника напоминал о крике петуха, и приходилось ложиться спать, не досмотрев очередной сон.
«Как странно, что он забыл о шуршании крыльев» - мелькало у лампочки.
[…]
ЛЕГЕНДА О ПЕРВОМ РЫБАКЕ
ОН перебирал картофельные коробки – такая у него была работа. Его сосны держались друг за друга иголками, чтобы хоть как-то противостоять бешено ревущему вертолёту, который прорубал своим винтом каждую переборку насквозь. И лилась эта бессмысленная вода, и тонул остров, имя которому Остров Всплывающих камней…
ОН сидел спокойно, ведь плотность морской воды выше плотности его тела, и она не сможет его утопить. Ей не позволят…
Вместо камней почему-то всплывали свежеотёсанные столы – такая в этом мире была странность. ОН схватил ближайший, взобрался на него, подобрал ноги и приготовился плыть, но тут случилось новое событие – море остановилось. ОН не заметил, как это произошло /и произошло ли?/, но всё было верным – вместо бурных волн «водное зеркало».
«…Конечно же! Надо пройти на ту сторону!» - обрадовался ОН своему первому в жизни решению. Он был горд тем, что прочитал множество сказок, и все они были об одном – если где-то увидеть розовое с чёрным колечко, то первое желание непременно сбудется, а остальные осуществит добрая фея или кто-то с бородой и в синем костюме.
Итак, ОН почесал за ухом… но уха-то не оказалось! Никто не ищет приключений без уха – так говорила ему старенькая бабушка до того, как стала не дождавшимся внучку волком.
«Проплывающий красный берет сделает меня лучше» - подумал ОН про себя и подвязал платок на шее, а потом пропустил через перемазанную дёгтем голову, отчего некоторым гостям стало дурно. Он пытался всё исправить, снимая берет, но за столом не хотели успокаиваться. Предлагали белое, красное, кричали «горько»… если бы не его забывчивость, он никогда бы не смог их простить.
На трёх лучах ткани были зашитые узлы, и когда ОН развязал их, сердце его забилось чаще, а голова потяжелела свободой: он вспомнил, что не сможет вязать узлы без Неё. Идя на фабрику, Она каждый раз просила: «Развяжите все почки и линии, ведь моё сердце большое без пробок». ОН любил Её именно за это умение противостоять хоть всему миру, не теряя при этом милосердия. «Может быть, именно поэтому и начался потоп»…
Дёсны, затоптанные сапогами, быстро заживали в морской воде. ОН уже трое суток не пользовался антигравитацией, а, следовательно, в округе воздух оставался чистым. Его руки были истыканы и даже прокушены насквозь, но разве от этого наши сердца могут быть ближе – спрашивал он себя. «Жаль, что я не вижу своих слёз, перепутавшихся с проклятым океаном», - таково его дословное содержание…
К утру корабль причалил. Первым спешился карлик с огромным для его размера мушкетом, затем исправно дёргали конечностями служивые, и лишь потом до земли дотронулся наш герой. Какие у него были клетчатые штаны, и как блестела его губная гармошка, спрятанная в самом что ни на есть интимном месте – ЗА УХОМ! Он нёс два прогорклых чемодана для приготовления здесь всевозможной снеди, а попугай на его плече держал подзорную струю.
И как от него разбегались медузы! Летопись города навеки сохранила имя своего избавителя, и каждый трудоспособный горожанин до конца дней своих будет печь единственные в стране прозрачные лепёшки, обжигающие губы даже в самый холодный день.
… - Скажи, ты любишь апельсины? – спросил он неприметного оборвыша с бычком во рту.
- Пошёл вон, грязный мерзавец! Твоё место у помойной крыши! – ответил юноша, но от громкого его крика бычок затрепыхался и испустил дух, не помня своего имени.
- Ты станешь большим человеком. – с улыбкой сказал незнакомец. – Как тебя зовут?
Но юноша лишь разводил руками, подобно вытаращенной из воды рыбе.
- Душа бычка перешла к нему. – шепнул тигролову очень пугливый мавр с перемётом.
- Он пойдёт со мной. Это и будет его имя. – сказал капитан, поправив великолепную шляпу с ярко-зелёным пером. Как потом написали газеты, «пират без уха похитил единственного рыбака, которого рыбы знали в лицо». Они больше не могли доверять местным жителям и уплыли прочь.
…Печально, что в газеты так ничего и не завернули, ведь без рыбы людям незачем дарить подарки. А когда газеты встречались, спрессовывались и превращались в дома, люди стояли у стен и незаметно превращались в камни.
[7] День рождения
«И почему я не последовал её совету?» - думал ОН между делом. – «Кто придумывает, что Солнце всё знает даже по пересечённой местности? Ведь куда не посмотри – местность везде пересечённая. Даже серая корова – и та прячется в тень, и никто ей не помогает даже. Она делает это сама, по собственному выбору, и тут мы подходим к выводу, уважаемые слушатели, что коровами движут исключительно инстинкты и вся природа вокруг суть проявление того же самого коровьего инстинкта».
ОН даже не заметил, как его мысли стали слетать с губ, превращаясь в осыпающиеся слова на доске. Аудитория упорно их фиксировала, а ОН ходил из угла в угол и молча требовал добавки, обещанной ему ещё в день сорешённолетия.
«Помню, как стало тихо – магнитофон вдруг потерял всякий смысл, оставшись на дне реки. Мы сидели за пряничным столом, и даже спичка не помещалась между нами. Когда принесли пирог, похожий на отрубленную голову быка, капитан уже был пьян: он называл себя моим отцом, а мать хваталась за голову. У супругов всегда так - взятие боли другого облегчает жизнь в будущем…
Капитан держал торт, мать стояла рядом, а мне безумно хотелось ВЫЙТИ.
- Смотрите, как он жмётся. – пошутил кто-то из приглашённых, и скоро все кричали «Тосты! Тосты! Тосты!». Я встал, почесал за ухом /с тех самых пор у меня эта привычка/, и сказал слова. Никогда моё сердце не говорило слова, и приглашённые заплакали. Их сердца забились в костяных клетках, руки их задрожали от невыносимого числа переживаний, а меж губ потекла неприятная светло-жёлтая жидкость, и все молитвы были напрасны. Я хотел им помочь, честно хотел, но не устоял на ногах, и в тот же миг сердца присутствующих обвалились, как обваливается хлеб перед самой последней трапезой…
И лишь Она предложила мне убрать со стола, и был за ней шлейф из хлебных крошек. Но я простил её, и прощаю сейчас, как прощает меня свет твоего уходящего поиска».
/письмо сложено в 4 раза/
[8]
Из самого сердца картонных коробок ОН строил домики. ОН мог возводить какие угодно башни и играть с картами во всевозможные игры; правда, чересчур плоский король никому не давИл покоя, и приходилось засовывать его между стопками книг. Эти игры были подвижными и, касаясь вершины потолка гостиной, карты прыгали с башен-близнецов, не причиняя никому вреда.
ОН разбирал башни из картона. Это началось с тех пор, когда ОН увидел изумительное овальное окошко, так напоминавшее ему ЧТО-ТО… За окошком целая стена дождя и ещё волны, бегущие только прямо. ОН смотрел из окошка и плакал, и никто не смеялся над ним, ведь шёл такой изумительный дождь… И как боялись Они страшного шума тяжёлых капель…
Если бы ОН мог спасти всё это… если бы преодолел извечный страх… Их можно было спасти, можно было спасти то хрупкое, что зарождалось между ними. Он протягивает это Ей даже сейчас, с воспоминаниями о том, как сам обрубил… перерезал свою руку канатом.
ОН тщательно перемешал суп и вылил его в деревянную миску. «Уродливый получился суп». – сказал ОН себе и съел его. Язык покрылся язвами, телевидение сделало репортаж, он улыбался на улицах, а потом в каждой язве выросло по зёрнышку. «Зерно овсяное охотно клюют воробьи» - и тут ОН уснул.
Но даже во сне его не покидало чувство невыполненности всего происходящего, каждого его действия. Он не знал, как ему жить под этим раскинутым небом. Его сердце никогда не было каменным, оно было картонным – ничем не выдающимся гомогенным куском, никому не интересным, но чутко реагирующим на каждый порыв ветра. Если ветер был очень сильным, сердце превращалось в парус, а пустоты в картоне свистели. В окружении радужных птичек он возносился всё выше и выше, пока не услышал хруст – картон разломился надвое. Картон сердечной мышцы разломился вдоль…
«Держи седло покрепче – лошади не растут без сбруи».
[9]
«Объединение знания сообществ, способствующих их ограниченности приводящих линий всегда позволяет нам быть похожими…» - и тут ОН запнулся, как запинался каждый раз на открытии нового здания – писали «Сотни видимых» в этот раз.
[…]
«Но какому движению сердца позволено стать фундаментом?» - такой вопрос оставлен без ответа.
Хватающий порыв ветра, от которого сердце начинает биться, позволил ему не думать. Уверенность в том, что ОН не думает, была прочнее, чем белые стены каждого здания, построенного в отдельностях. Извёстка, положенная поневоле СНАРУЖИ, поднимала облако, но дождь не хотел идти, и сельчане проклинали невидимое инфракрасное солнце, поднятое на веки вечные строителями «Новых Надежд». Они проклинали его как вперёдсмотрящего, они держались за белые стены, но корабль с провиантом всё равно перевернулся, открыв команде единственное в мире зелёное Солнце без горизонта. Они дышали впервые за время своего существования, они вглядывались в изменённые правдой лица, но без любви их сердца всё равно проклинали.
«Даже на ворохе пустых коробок можно установить кафедру». – такова мораль данной истории.
[10]
ОН умывается, и щёки его светлеют. ОН берёт зубную щётку и спрашивает цитатой: «А если я хочу вымыться ВЕСЬ?» По трубам что-то стучат – это ответ, но колючая из крана вода не даёт даже моргнуть без звука, и никто не ответит ему; даже зеркало в ванной комнате успеет запотеть, прежде чем ОН отважится.
На этот раз ОН пойдёт на трамвай, где звуки колёс ещё громче. Там он оплатит за проезд, будет стоять на месте, да ещё и перед самым выходом, но так никого и не встретит. Из кожаного сидения кондуктора (единственного в салоне) сквозь круглые отверстия будет вылезать коричневый старый мех, политый лесным одеколоном. Его кости начнут вибрировать в сухом воздухе и трамвай поедет. Вокруг не осталось ни единого кубика льда – думает девушка из-за журнала.
Когда вылупляются когти, ОН, ломкий от страха и сухостоя, продолжает держаться за поручни. Билетик на ладони сгибается вчетверо, плавное окошечко открывается, и тогда трамвай впервые останавливается по-настоящему. Все бегут к выходу, не оглядываясь на гибнущего кондуктора, с которым в детстве ОН был на «ты». Пол начинает плавиться, и колёса трамвая становятся рельсами, которые давно пора заменить.
ОН никого не прощает и никому не верит, даже поливальщику комнатных растений, растущих у него дома.
[11] В эту постгемоглобиновую эпоху…
В эту постгемоглобиновую эпоху проходящих, помазанных жёлтым-ветер, ОН мечтает о солнечном умении. ОН мечтает снимать кино.
Здесь, на этой выставке, его позвонки давят железнодорожные петли с двух сторон. Это очень сильное давление, оно с мешком не держит камеру, которую ОН старательно прикрутил к подрезанной палке, потому что мечтал во что бы то ни стало запечатлеть шедевры современного искусства. ОН хотел запечатлеть то, что признаЮт все, даже забудочники, не из-за слабости духа и не из-за податливости. ОН должен запечатлеть, зафиксировать на первые страницы своей невечерней газеты, потерявшей даже чёрно-свинцовые краски, именно то, что видят и признают все. Только признанных знают в ЛИЦО…
Его обороты были на редкость соблазнительны в эту ночь. Объектив, отсвечивающий синей, чертил нечто вроде защитного круга, одновременно выметая все мысли, и ОН производил на редкость хорошее впечатление в эту ночь. Если ОН останавливался, уточняя чью-то позу, лампочки на потолке начинали тихонько смеяться.
Одна, вкрученная в стену чьей-то сильной рукой, с незапамятных времён хотела курить. Когда с рук падали загнутые уголками конверты, она хлипко вздрагивала и брыкалась своей спиралькой; её колба отвечала трубным звуком. В ответ лампочки повыше рассказывали себе легенду, перекрученную сотни раз, о великом Солнце, никогда не перегорающим и зализывающим свои раны, беспримерным фениксом на сковородке. «Молоток чертополоха освистал без радости весь дофабричный евроремонт»…
«Если держать фотоаппарат под углом, даже в самых статичных мыслях возникает иллюзия движения», - терпеливо объяснял ОН маленькой старушке, спросившей у прохожих дорогу; только перебирающие воздух пальцы выдавали его исключительно бессилие. ОН отдавал себе отчёт в том, что компьютер старушки перегревается и она вот-вот задымится с разрывающей небо улыбкой, но… «Спасибо вам, молодой человек» - прочертила губами старуха и направилась к выходу.
Стены украшала морщинистая бородавчатая дубрава. Некоторым посетителям протянули через ноги лианы, и когда они спотыкались, на столе раздавался смех. Особенно восприятие удавалось круглому белобрюхому «Солдату» с пилоткой, которая сваливалась при первом порыве, а когда его пачка сигарет щёлкала, в двух картинах открывалась дверь.
[12]
«Когда закончатся
полёты первых ластоЧЕК…»
«Я помню, что был зажат и, хотя вокруг было очень холодно, в этом узком живом пространстве сила трения создавала тепло. Я держался за одну из тех трубок, что протягивают вдоль потолка и не закрашивают ничем, ведь руки ждущих тепла всё равно составят на трубках неповторимый узор и отполируют их так, что не останется даже малейшей засечки рабочего, скромного, полузакрытого от невзгод завода.
И вот я стоял на песке, вытягивал своё тело в такт движению пола, и вдруг почувствовал её взгляд. Это не была Она, которой никогда не было уже недели две, это была она – девушка со странным пронзительным лицом. Взгляд её был всего лишь дополнением к этому пронзительному лицу, к его острым, выточенным из податливого камня, контурам. Несколько раз наши взгляды встречались (а сколько раз МОГЛИ БЫ встретиться! – прим. авт.), но я тут же отворачивался к окну, вытворяя нечто глазами и проворачивая губами слова. Правда, сердце моё было без слов в ту минуту, но хотелось казаться странным.
Мне хотелось КАЗАТЬСЯ. Среди невидимых, но осязаемых, и при этом уникальных субъектов, даже не собранных общим делом, мне хотелось казаться ЕЙ. Она запомнит меня, обязательно запомнит, и я почувствую себя в луче прожектора, отмеряющего каждое моё движение и стирающего все ненужные стальные воспоминания. Я почти оказался в свете этого прожектора, но бесчисленные слои закрывают меня, они часть единой стены, это множество картонных листочков, они отданы были мне и теперь стали моей частью. Но я не часть их и не часть мира, где они хозяева, я привязан к ним, этим чужим не для всех листочкам. Её лицо лишь поколебало их, вот и всё. Я пересчитываю их твёрдой уверенной рукой и знаю, что Ей никогда не быть.
[13] В морщинах земли
«Разве можно переживать из-за этого?» - говорил ОН, будто задавая вопрос.
«Большие куски очень тяжело проглатывать. Они выжимают слёзы. В дождь под зонтиком целый мир, пространство расширяется по кругу. Удивительные круговые просторы под дождём, где я глотаю самые большие куски. Я убеждён в собственной исключительности, что этот мир не для меня, я ощущаю широту взгляда, и даже без высоты и глубины я обнаруживаю её. И рассыпается упаковка на части, и Она летит ко мне, но одинокая телебашня протыкает зонт, и всякая дыра – «моё вИдение». И если можно держаться за зонт, не поддаваясь ветру, то можно ни о чём не переживать. Верно, ребята?»
Отъезд был удивительно пустым. Будто не было никаких встреч на горизонте, будто бы никто не ударял по любимому стеклу. Перед ним висело именно твёрдо-сухое стекло, самое твёрдое в полупомешанном молоке терпения.
Чему учился ОН? Он учился терпеть со счастливым блестящим лицом, и повисшее стекло скрывало его улыбки. Он учился играть, захлёбываясь от смеха, когда перечитывал свои правила. Учиться составлять правила с положительной мотивацией цельности – вот условие неприметной удачи…
[…]
Хочешь, я улыбнусь
отмеренной тебе улыбкой?
Хочешь, от чувства меры
слёзы мои оросят
всходы, что опадают?
Я наклоняю голову
я проклинаю ножом
щёки
и взгляды повыше
только сквозь глаз песок.
(Нет оправдания мне.)
Я не пишу
дарю
НЕТ пароходам солнца
НЕТ океану рек
НЕТ оправдания мне.
Дай мне секрет убеЖДАТЬ от себя…
В поисках тонуса маленький мальчик
руку отбросил и ПРЫГ на диванчик!
Только диванчик в морщинах земли.
[…]
МИНУТА ПРОСВЕТЛЕНИЯ NEO
«Смотрите, сколько летающих рук, мистер Андерсон. И это тоже, по-вашему, Матрица?» - агент Смит недоумевал.
«Да, я попросил наших людей убавить музыку. Через минуту Нью-Йорк покроется зелёным мхом». – уверенно ответил Neo, хотя голос его дрожал.
«Я агент, я не умею удивляться. Но как вам удалось перевести время Матрицы назад?»
«Когда я спал на клавиатуре, я сломал свой старый будильник. Проснулся – его нет, и с тех пор Матрицы нет для меня, а теперь её нет и для вас. Подумайте, в какой просак был бы поставлен благородный суд передо мной, если бы каждый увидел себя безрадостным среди бархатного мха с запахом клубники, ведь у Матрицы не хватит вариантов, не так ли?»
«Но люди? Что вы оставляете им, кроме омерзительного запах своих тел?»
Теперь удивился Neo.
- Мы знаем, что вам пришлось менять тела, чтобы быть с ней, мистер Андерсон.
- Чтобы спасти её… - прошептал сквозь рацию Neo.
- Вы хотели быть с ней на слишком близком расстоянии, вы хотели видеть её каждый день, чтобы говорить с ней. Вы всего лишь человек, мистер Андерсон, и оставьте наконец эту мысль – найти секрет своей исключительности. Вы неуникальны, как неуникальны все мы, живущие в отобранном людьми мире. Прощайте, мистер Андерсон. – и воздух разорвал агента Смита пополам.
[14] Цветливое море
Какая невероятная радость на него нахлынула, когда ОН отдал букет! За стеной так сладострастно чмокнул герметик и, будто пыльца бабочки, к обрыву взлетела его мечта. Все их мечты легко читались по губам, одухотворенным небесно-голубым линолеумом, и можно было лететь сквозь затаённо-грязные тюли, срывая с насиженных мест дверные горшки…
Оконный скотч потрескивал, напоминая о походном костре. ОН жарил ярко-голубую сосиску в микроволновке. Во время приготовлений веки его тяжелели, но для чая время было раннее, и потому приходилось страдать молча, ни с кем не разделяя двух переломанных от боли покрашенных белых ресниц. Этих ресниц было больше всего в старых круглых лампах; когда-то ОН часто забирался в них, с замиранием сердца обходя стороной вольфрамовую пружинку, готовую в любой момент взорваться и перегореть от пущенного внутрь воздуха. ОН скрывает свой воздух в себе – это умение останется с ним навсегда. Раньше он сравнивал себя с ловцами жемчуга, даже в интервью пару раз упоминал, но теперь он помнил, что в его сердце и кончиках волос никогда не было того перламутрового блеска, способного отразить самую чистую радугу, спрятанную на движущемся песчаном дне. ОН отмечал не раз, даже будучи в ванне, что вода всегда стоит на месте и блики её статичны, а вот дно непрерывно движется – так даже у самых закрытых крабов появляется надежда увидеть перламутровый свет настоящей радуги и своё жёлтое сердце, расправляющее известковые ломкие крылья в ярко-синих шрамах.
[…]
Его лицо, такое привычное прежде, теперь покрывалось бесформенными фиолетовыми пятнами. Они двигались относительно спокойно в такт серо-зелёным ветвям, но когда достигали носа или больших ушей, резко подпрыгивали, будто хотели вырваться. ОН закрывал лицо руками в надежде, что пятна перейдут к его рукам, и тогда он сможет документально зафиксировать это благословенное событие, но пятна продолжали облизываться и смеяться над ним.
Наконец пятна исчезли, уступив место гомогенному фиолетовому раствору. ОН даже испугался на какой-то пролетающий МиГ, что тот изрубит его винтами на миллионы шариковых ручек, но всё улеглось. Страшный легион исчез, оТставив в сторону самые дальние воспоминания о себе.
В его сердце обитала одна история. Привлечённая кровью, она как самка комара методично облизывала каждый желудочек, слегка не долетая до дуги аорты – серый бесхвостый трёхстворчатый клапан своими ледяными жилами останавливал её, и тогда она плакала, а руки его дрожали, и не звучал пульс в его пустых глазах.
Это была история о маленьком толстом крабике, у которого при рождении не было заЧАТков глаз. По утрам он стриг водоросли своими кривыми клешнями, а на ужин к нему спускались утятки и приносили на крыльях крысиные хвостики. Он играл на них как на струнах, утятки слушали и забывали вдохнуть, а когда они опускались на дно, то прекрасные кораллы открывали им свои щупальца, и всё море наслаждалось оранжевой радугой, защищая всех его обитателей и пронося радость людям. А когда к берегу прибивало прозрачные пёрышки, кухарка несла их на скотный двор и готовила кушанье под названием «морской горох», а после кормёжки шла подкладывать утки своим клиентам.
Но однажды водорослей не стало, и утята больше не смогли отыскать дорогу. И крабик застыл от горя. Через миллион лет море поднялось, пена со дна опустилась, и наглый мальчишка бросил крабику злотый (к тому времени он покрылся бородой из кустиков лишайника). И слёзы трёх сестёр оживили крабика, и сквозь его панцирь полилась самая прекрасная музыка. И посыпались все восковые лица, и развеяло ветром краски. И распустились невероятные цветы, скрытые фундаментом каждого дома. И застучало сердце, единое для всех, и разломал крабик свой панцирь надвое. И впустил крабик воздух в себя, и тело его засохло…
[15] Посредине
«Правда, я на редкость вырос за последнее время: тело стало бумажным, сердце, как и надо, каменным, а ещё две руки как у динозавра» - заканчивает ОН письмо, пока Она танцует.
ОН складывает себя вместо конверта, прежде чем Она поставит печать.
ОН балуется с сургучом, разваривая в котелке вишнёвые косточки, а Она смотрит «Улыбающийся дождь в оконной раме».
Когда Она встаёт к нему, ОН идёт в ответ, и пальцы его немеют. ОН будет идти к ней и всегда держаться за стены, дающие ему защиту своими шероховатостями.
Когда Она говорит о несовершенствах, ОН пишет последние строчки, и бумага почти заканчивается, а даже если счастья нет СЕЙЧАС, оно всегда было и обязательно будет.
[16]
4 спины вокруг костра, принадлежащие разным людям, сжимаются им. тогда, когда ОН исследует круглый огонь. Огонь перетекает сквозь пальцы, струится будто малёнькая чёрная река, но для него нет преград в этот полдень. И ОН хватается за последнюю соломинку, способную дать ему ответ на простой вопрос: как победить страх? Она не говорила ему…
«Если в сердце столько молчания и неизвестности, то сколько её в тех плоских дрожащих шторах, скрывающих подёрнутое инеем полено, сохранившее даже прожилки листьев, но уже неспособное жить среди внешнего мира? Передо мной будто кадры мелькают, не способные удержать меня и развеять… Никто не может развеять меня. Разорвать, согнуть – это понятно, но РАЗВЕЯТЬ – никто.
Вихри, заключающие и не поддерживающие, заставляют меня бояться. Чудовищ можно победить, но как бороться с тем, что каждое твоё действие ЗАСТАВЛЕНО кем-то или чем-то? Вот и гремлю, как китайский сервиз…»
Спины у костра дёрнулись, а потом и вовсе разрушили. Круглый снежный баран осыпался лунным кратером, а на Луне не растёт ничего.
[17] Диалог
* Я знаю тебя_ сгоревшего
я вижу – ты давишь стекло
не знающий собственных вымыслов
ты ищешь немое число
в молчании сердца Единого.
ОН: Секреты – они между нами.
* Не надо ответов – живи.
ОН: Но разве возможно не падать?
Мы слишком просты
однозначны
и наши слова обо всём
исчезнут
как данные в мире
двоичности/раскодировки.
Нам страшно остаться собой
нам страшно остаться хоть кем-то
нам страшно остаться без снов
слова_ за зелёные стены
хвататься
тонуть в облаках
из жидкого/твёрдого света.
И кажется
нас больше нет
но провод впивается в горло
и мы говорим о своём.
* Ты больше меня не увидишь
и свет тебе станет чужим
и небо_ цепочкой с нулями
сожмёт твою шею_ как дым
и ты задохнёшься в растворе
питательной смеси_ внутри
ты будешь до первого звука.
ОН: Я слышу дыханье. Прости.
[18] Гуси
Гуси проникают сквозь меня
их головы как нитки солнечного жемчуга, которые всегда остаются чистыми, только свет Солнца не отражается в них.
Гуси всегда со мной
они упруги и в то же время невинны
их острые клювы не предназначены для питья
они неспособны пить.
Гуси бегут по воде, и самая плотная оболочка раскалывается.
Гуси приносят в мир страх, рассекая оболочку каждого, и лента тёмных углов составляет веки, хранящие влажность глаз.
[…]
Гуси помнят добро, но не помнят того, кто его совершил, и нет ворот их ослепляющим клювам.
Головы гусей украшены золотыми шипами, и каждую ночь они терзают небо.
Когда небо покидает гусей, земля принимает от них кольцо.
[…]
Перья гусей скрывают рыбью кожу; в облаке крыльев их видят зелёные бабочки.
Тяжёлые цветы знают эту правду и тянутся вверх, посылая небу свои белые семена.
Гуси протыкают их верхушки, и белый сок облаков изливается в землю.
[…]
Каждое сердце способно понять гусей, как каждая точка есть результат проникновения линий. Уничтожая линии, точка носит в себе тайну их Встречи; так и гуси, протыкая мягкое облако, напоминают сердцам о небе.
[19] Только одна
Мои песни звучат сквозь грохот.
Я вижу стену и понимаю, что ничего не изменится, хотя всё меняется. Ничто не останется прежним. Я смотрю на израненный пол и застываю на пальцах, и лицо моё осыпается.
Здесь миллионы зеркал, и каждое отражает меня. Я вижу свои отражения, похожие на газетные фотографии, построенные из точек, отдающих единую полноту. Когда паук бежит по своей нити, зеркала поют, но фотографии качаются и мутнеют.
Вы пробьёте меня, возносимые гуси!
Ваши петли на лапках оставят луну
Моё тело придёт на ладонях зеркальных
И стеклянный хлопок остановит меня.
И тогда белый гусь мне останется другом
и простым «никогда» мою грудь разорвёт
ослепительный клюв молодеющей стали
и я буду просить. Первый раз попрошу,
и увижу КОГО-ТО в сердцах замолчавших.
«Странные, жёсткие, пробитые на вкус трамваи. Кто входит в эти четыре двери, ведь открывается только одна? Кто говорит друг с другом сквозь грохот? Кто ищет слова для последней попытки?»
Я буду ждать тебя, Звёздочка.
[20]
«Воздух выходит – мы скоро умрём».
Если бы Звёздочка знала, сколько бессмысленной ненависти в падающей пивной банке! Сколько сухости, оставленной следами подков, выпивали они!.. Когда ОН думает о Ней, в его сердце стучит эхо проносящихся горных вершин. ОН не слышит собственного сердца, и тогда он готов к Встрече.
Стена его сотен рук всегда прикрыта разными надписями. Обычно это слова любви, но часто они становятся синими линиями, берущими своё начало от стыков между кирпичами, когда маленький стейк нарастает от чувства вины как снежный ком. И чувство его безответно, и обращается ОН к полосатым сердцам. И предназначено им построить высокую как небо трубу, если не скажут они никому о своей вине. И тает снег с океанских гор, и тонут сердца в каждой речке. И не бьёт уже мир град окрестный, и всходят на дне деревья, чей ствол зелёный, а листья покрыты золотом от рождения.
ОН даже не знает о своих мыслях.
[21] [С надеждой]
ОН наконец-то решился на это… ОН наконец-то сварил свой удивительный чай. ОН поглощал каждую каплю, он захлёбывался слюной, пытаясь сохранить земную губку нетронутой. И пусть говорят хлипкие шнурки на его ботинках, но ОН смог, смог подняться над Солнцем, перехватывая мокрыми руками горящие лестницы; с мягкими улыбками своих предшественников его ноги продолжали этот путь…
- Сигареты «Дро-ме-дар». И что Вы мне дали? – ОН говорил у киоска.
- Мягкое и лёгкое, с подушечками для пальцев, как ты и просил.
- Но я хотел, чтобы шарики бегали быстрее, когда я читаю о Вас.
- Неужели ты не видишь? Шарики вылупляются из поролона.
- Тогда мне необходимы яйца.
- Это ещё зачем?
- Они могут удерживать в себе. Даже руки моей сестры не способны держаться за поручни так, как способны УДЕРЖИВАТЬ яйца. Их форма легка, она совсем недавно покинула круг. Ещё непроснувшаяся форма позволяет яйцам летать. Секрет удержания в себе именно в сером шерстяном полёте; я прячусь среди толстых нитей, а нити тонкие удерживают в себе яйца, и когда скорлупа расстраивается, мир открывает свои двери с готовностью жить.
- Знаете, вчера здесь женщина была. Она хотела подстричься, а я и говорю ей, что парикмахерская напротив синего дома. А она вдруг ребёнка моего забрала, и так засмеялась потом… Я до сих пор в её сердце смех вспоминаю.
- Вы любите поливать цветы?
- Да. [опускает глаза] Они растут прямо из горшков, и каждый вечер перед сигнализацией я выжимаю над ними капли. Наша вода без запаха, и если ты ждёшь в словах моих помощи, чужеземец, то обратись в другое окно – перед нами скопилась слишком большая очередь! – и витрина захлопнулась намертво.
Он направился к Пыльной Пластинке. Это было странное место, больше похожее на кафе. За столиками из дуба фонари удерживали людей. Сотни квадратных очков, маленьких и под солнце, смотрели на него под фонарями в эту минуту. ОН вдруг ощутил приступ невыразимого счастья, и был не в силах удерживать себя. Солнце в его голове извергалось наружу, будто сотни маленьких звёздочек играли его зрачки. Он раскручивался точно по центру; он развязывал все свои линии. ОН паниковал, потому что не знал причины столь великой милости сердца.
Солнце впитало в себя воздух, и вот уже тысячи шариков побежали вниз. ОН прячет урын победы своей и прыгает вслед за ними…
Маленький синий лёлик сидит у него на столе
Дома CD не играет – ОН остаётся в себе
Маленький жёлтенький шарик прячется над головой
Дома CD не играет – ОН остаётся один
Маленький солнечный зайчик ветку зелёных жуёт
Дома CD не играет – ролики ОН не спасёт
Маленький До не поймает, маленький Ко не простит
Дома CD не играет – лучЬ притворяется – спит.
[22] дорога Вокруг
ОН идёт пешком одну остановку, являя просторы мира в себе.
Дороги здесь широки настолько, что открыты каждому и во все стороны. А когда они пересекаются, то возникает летучее ощущение пространства. Именно так и двигался ОН[…]
Жёсткий ветер трепетал его горло, трещинки кожи перемешивались и объединялись, а маленькие сосудики указывали их дальнейшее местоположение.
Внезапно ОН остановился. Каждый сантиметр окон вдали развёртывал в себе дерево; линии развёртки бегали по домам, как по большому экрану. Ветки, свободные от листьев, выставляющие напоказ свою непроявленность, были открыты ему одному. Они открывались ДЛЯ НЕГО, превращая мир в оттенки жёлтого цвета.
(ОН вспоминал, что жёлтый цвет может быть очень разным – от грязно-немого безразличия доя солнечного праздника).
Жёлтый цвет покрывал даже небо плотной песчаной корочкой. На секунду ему показалось, что всё может рассыпаться, но пластинки будто бы застыли в воздухе. Нет, не так – для каждой пылинки был свой воздух, но все они были связаны единой способностью быть и вырастать даже из пустых горшков.
[…]Ветер развеивал его; ОН подогнул голову и увидел своё голубое сердце. Оно вытягивало короткие ложноножки в духе какой-нибудь маленькой амёбы, только целью его вместо водорослей были тонкие проволочные нити. Здесь ОН вернулся к реальности – вместо жёлтых пылинок небо перетягивали именно нити, не принадлежавшие сердцу. Под небом они тянулись ровно и за них цеплялись грохочущие трамваи, но наверху они творили полный произвол, запутываясь в неисчезающих чёрных кругах. Ради смеха ОН потянул одну нить, но круги даже не двинулись с места. Они висели на облаках…
Зачем-то он сел в автобус и поехал прямо. Зелёные конфеты остались в прошлом. Впереди было возвращение к жёлтому небу и огненно-синему сердцу. Огромная энергия «дороги Вокруг» плавно текла сквозь него; хотя она была выше стёкол многоэтажных домов, она легко помещалась в нём, как в старой корзине.
ОН строил жизнь на запотевших окнах, исключая полупрозрачность. Автобусы сильно трясло, но пальцы его легко выводили линии и силуэты тех, к кому он стремился. Потом они плавились, и стекло превращалось в песок.
[…]
Теперь я могу представить всё более отчётливо.
Дороги обычно зажаты домами и протоптаны машинами. Они слишком узки, чтобы быть правдой, и здесь возникает необходимость. Она не осознаётся, но своим присутствием она становится известной.
Там дороги расширяются настолько, что перестают быть дорогами. Именно в этом моменте исчезновения и в то же время обнажения и кроется то, за чем ОН приходит. Движение не исчезает в момент такой ОСТАНОВКИ; теряя обусловленность, оно становится повсюду. Оно внутри него и одновременно ВНЕ. […] Огромные дома, висящие в воздухе, развёртывают ещё более огромное небо.
[…]
Чёрные проволочные линии не способны удерживать себя, как жёлтые капли, и потому они растут из каждой точки. Среди них пребывает странная на вид демократия – каждая линия одинаково важна и не важна, но обусловленная своим существованием. ОН почувствовал, что его опутали одинаково-разные линии, ОН стал перед проблемой выбора, не имеющей никакого смысла - ведь все линии абсолютно одинаковы. Точки, за которые цеплялся его взгляд – здесь может быть тайна. У меня пока нет ясности о них, как нет ответа на вопрос, где же начинается многообразие и существует ли оно вообще.
Линии гигантского ежа, с которым ОН встретился, лишь часть его тела…
[23]
«Чувство спины» оттягивало его, закручивало, словно канат, но ОН шагал только вперёд, никому не сдаваясь – «Уезжай!». Никто не должен был узнать о нём, никто не должен был смотреть на него в эту минуту, потому что до самых отдающихся внизу рёбер он был переполнен СОБОЙ. Это была странная захватывающая лёгкость, которая щекотала живот изнутри и в то же время тянула по сторонам длинной-длинной лодкой. ОН прятал свою уязвимость от прочего мира, ОН видел перед собой шероховатую скорлупу яйца. Скорлупа покрывала его; ОН знал на ней каждый серенький бугорок и самые мелкие поры, они казались тогда удивительно близкими и знакомыми. Маленькие серые тени в неброской белизне… чувство того, что всё может быть по-другому, но при этом оставаясь рядом.
Рядом. Это слово остановило его. Он очень резко затрясся внутри себя. Нет, нет, нет, только не сейчас!.. Это не Она, это не Встреча, это не может быть со мной, это не может покинуть меня, это не может переломить мои коленные чашечки. Это не может ни для кого повториться. Я призвал эту Встречу тогда, она открылась мне. Я окунулся в молчание. Хотя рассыпались разговоры о разном, но я СКОЛЬЗИЛ по ним. Впервые я почувствовал, что в молчании единой субстанции МЫ было сказано всё. Всё, а не что-то.
Но это не должно повторяться. Я умный Орфей и никогда больше не захочу Встречи, потому что буду хотеть повторов. Я разобью себя острыми плоскостями повторов.
[24] Вне направления
Тягучий, плотно-серый бульон заполняет колебания пространства для дыхания.
Звуки уносят его; ОН чувствует их спиной. Низкочастотные вибрации тянут далеко назад; ОН будто бы размазывает себя, следуя за ними.
Серый бульон не двигается, он напоминает о себе отдельными колебаниями прозрачности. ОН стоит в чёрном луче – уплотнённом пространстве. Свет и цвет, содержащий в себе всё, несоединимо тянется вверх, и ОН растёт за ним. Ему легче думать, что ОН куда-то с кем-то растёт.
[…]
Его взгляд был в комнате Жующих травинок.
- Как эти белые-белые паутинки поднимаются из квадратного потолка, не задевая ни одного растения?
- Странно. Гусеницы должны есть.
- Маленькие трупики гусениц замерзают среди паутинок. Я вытирала воздух_ только нога не достанет_ солнечного умения_ лампочек над океаном.
- Знаешь, какие мои малыши_ любят сердца-апельсины? Ты, незнакомая даже с собой,_ не понимаешь сердец телефонных. Я на плакате с тобою смотрю, даже мечтаний твоих не касаясь…
Вне двухголовых бабочек ОН сиял в ярко-жёлтой расходящейся верёвке. Она переплетала себя, и он слышал её шёпот. Линии его пальцев выходили в дальний клубок. Ему хотелось плакать от счастья и даже размыться вслед за звуком автобуса, ведь в первый раз он сумел обойтись без слов. Они сыпались из его рта и прыгали прочь, будто горошек, но ПОВЕРХ он плыл в молчании. Он летел или, лучше сказать, мир летел под ним, а он оставил свой взгляд, забросив его в почтовый ящик без имени. Это никогда не повторится, потому что всегда будет с ним. Мир открылся для него в ту минуту, для НАС…
[…]
Серая безглазая грампластинка касалась его шеи. Она отнимала прикосновение.
Ему не за что было держаться, и тогда он с силой сжал аорту. Кровь разорвала сердце, но не упала на пол – застыла в воздухе бело-ртутными шариками. ОН зажевал комнатные листья и пластинка зашипела под действием кислоты.
«Нельзя было плакать под сожалением. Что было страшного в этой пластинке, остановившей моё зеркало? Серый металл не отразил меня. Я не остался ни с чем. Он не смог меня покинуть.
Я перемешал себя, не погружаясь в битую костяную муку. Я не смог захлебнуться и не смогу умереть, потому что уже был там. Некуда двигаться»…
Но конечно, киноаппарат заработал снова, и жил его взгляд долго и счастливо до конца его солнечных дней!
[25] Сон океана верблюдов
Всё, что казалось, перестало быть важным. ОН держался за каждый выступ, пересекался в совести скорлупок яиц, не поддерживающих друг друга, и всегда ловил то, в чём размокало его сердце. Солнце впитывало в себя влагу как губка и проливалось жёлтым дождём по синему небу непонимающих миллионных попыток БЫТЬ НЕ ТАКИМИ. В совести и секретах отрицания ОН выдёргивал свою боль, а когда чашка заканчивалась, покидал окна прочь.
На окнах, впереди окон, были струны. ОН не заметил их тогда, но сейчас они открыты ему совершенно отчётливо. Они плывут в окружающем воздухе, они поют свою песню перед окном. ОН разжигает огонь на площадке, слушая песни сверкающих струн, которые прочерчивали первые гусеницы, когда уходили из своих яиц.
ОН вдруг понял, что лучше всего умеет уходить. Его путь много раз пересекался **** и каждая Встреча подобна мерцающей звёздочке в тёмном отсутствии неба. Они всегда приходили к нему, но ОН всё равно уходил, как бы они не длились. Он всегда уходил, оставляя в себе воспоминания о счастье.
Чашка покрывалась красной прозрачной тканью. Ритуал Ползания мух подходил к концу. Силуэты гостей высыхали где-то на улице, давая приют симпатичному ёжику. Его перья измазаны гнилыми яблоками, и приют – лишняя возможность подняться. Белая-красная птица играет на клавикорде, заказывая всё новые и новые пачки, но ёжик знает – когда-нибудь она обернётся к нему. Безглазые линии экранов закроют собой их тела, и маленькая, но твёрдая попытка быть ближе заставит ёжика взять растущий автомат и прорубить дверь в корнях опадающего дерева. Рука возьмётся за оболочку неба, и загорятся глаза ненадёжных. Ёжик выхватит лопату, чтобы защититься от бликов, но палка лопаты сломается и упадёт в большую квадратную трещину. Он не сможет удержать свой лоскутный хвост и трещина сомкнётся. Он не сдвинется с облака-места и, когда будет ехать в вагоне, голова его примёрзнет к рукам. Его Солнце и взгляды встретятся в неисчезнувшей тьме.
ОН копает глубокую яму, потому что в ней скрыты цветы…
Лопата не поддаётся – дверь сарая не отпирается. ОН жутко вспотел, утирая бумаги…
В сумерках линий слёз
ОН никому не открыт.
ОН никому не известен
в жутких окатышах ног
трогающих мгновения
верного конского взгляда,
взгляда с тарелки ВНИЗ.
ОН не способен понять
всё для того и летает
не показать кусты
где выпадают гнёзда
машущих крылья птенцов.
Ветер шумит в скорлупках…
ОН не способен ждать
время немых не тронут
солнечное окно
временного отражения
чей-то смешных основ
звёздной тени_ в подарок.
Помни своих подруг…
ОН не способен поверить
в пище «своих» ума
свежих ответов ветра
и замолчало всё –
солнечная иголка
пере-ломила музыку
перьев на чёрных пластинках
вне отражения глаз
в озере наших встреч
тела седых барханов
знойных на волоске –
сон океана верблюдов.
Их убеждённость СНА
каменем неосязаема.
Я открыл для себя СОН ОКЕАНА ВЕРБЛЮДОВ. Это именно то, что делает мой поток живым, стирающим грань невозможного, это «верность/веерность пути».
Я нашёл ИМЯ тому, что делаю. ^!^
[26] Пингвины/Ждать
Странная тревога звенела в сером потёртом платье наступающих уносящих звуков сердце билось негромко. ОН хотел спать.
То глупое и безвольное ощущение не было первым. Шорох одревесневающих ног соединял его с белыми звуками мира; проколотых шин было уже недостаточно – приходилось выносить коробки штабелями по одному.
Ноги его дрожали при каждом трамвае. Проход трамвая был лёгким и вроде как незначительным делом, но звуки дрожания улетали в лужи вместе с ним, и они проваливались вместе в тёмное короткое дно. Дно лёгкое и каменистое – к нему прикованы остатки прошлогодней травы. Солнечный заяц соединяется с травою, а потом летит на землю, пронзённый красной стрелой. Каждый, кто хотел быть зайцем, ужасался при виде своего зеркала – ведь уши и зубы не могли туда войти! Он перебирал на пальцах ветки, но серые/чёрные рамки продолжали своё выплывание. Зеркала сидели в её границах – в этом ОН не сомневался.
Почему-то ему вспомнился «Мир» - единственная в городе станция с попкорном. ОН захотел пойти туда, взять 3 пачки вместо билетов, а потом шагнуть в зоопарк, где с ним будут ждать изумительные пингвины. Как они прекрасны, представлял ОН, когда летят в воде вне времени и направления. Как идеален их полёт одними поворотами головы! Как прекрасны их ноги, не оставляющие следов! ОН ел бронебойных лобстеров, чтобы хоть как-то приблизиться к ним. Может, они, держа усы, видели их – сочетающих в себе пингвинов. Каждый мог поделить\\=\ся с ними чем-то сокровенным и теперь они навсегда без цвета, но держат в себе имя открытой тайны.
В чёрно-белом сверкающем океане пингвины летят над головами огненно-бедных лобстеров с накрученными усами и все, кто стремятся доплыть, путаются в прикосновениях непредающих очков наблюдателей.
«Я хочу быть похожим
хочу быть похожим» -
напевал ОН в гулком туалетном зеркале. Мыло с бумагой сидели на местах, таракан лениво щекотал их небо усами, и все они совершали за него самую грязную и бессмысленную работу – произведение себе подобного. Ключ утонул в чае, и ОН со слезами пытается достать ключ. Ничто не выходит, веки его тяжелеют, сердце не способно ждать, и тогда кости его отпускают все свои минералы. Тело становится слишком тяжёлым, а рука превращается в кнут. ОН способен хлестать себя…
Кроме лодки, на берегу никого не было. ОН легонько толкнул её большим пальцем, желая что-то проверить, но она оставалась ждать. На ней была новая жёлтая краска, уже облупившаяся; она растворилась в окрестной воде. «Каждая вода напоминала об её присутствии».
ОН скользнул в лодку, как неуклюжая выдра. Бабочки были привязаны к самому верху мачты – так они заменяли подзорную трубу. Нелегко было плавать без вёсел, но что ещё оставалось делать при Солнце! Оно так часто в эфире, что нельзя откладывать. «Пусть молоко высохнет, но я найду равнодушный берег! Я буду чувствовать каждое приближение, я стану рассыпчатым от каждого неправильного ответа, но клетка тела станет моей! Я смогу раскрутиться в море и подарить её тебе. Мы соединимся на поле камней и нас не покроют колёса самых важных и серых машин. Мы будем единым ПОКРОВОМ и сохраним последнюю капельку воздуха, и цвет океана Земли никогда не останется равномерным…»
[27] Плитки/Парное молоко
Я бросаюсь на стекло
И мне не страшно
Только ничего
Не будет ясно
Это навсегда
Мне так и надо
Я останусь только одна
никого никогда. /Линда – Я не буду стрелять/
Дорога засеяна плитками.
Земля построена из плиток
Плитки подогнаны
точно_фарфоровые.
ОН ступает по ним, и ломаются от его шагов
они не могут сохранять узор
они готовы разбиться, взлететь, они готовы обнажать землю.
Белая лава в синем огне
смоет его «независимость Солнца»
в ритме сбежавших машин нальёт
реки молочные соединения
в шорохе мыслей они замолчат
ветер весенне-ночной / им не хватит.
«Почему я хочу страдать, чувствуя свою расщеплённость. Я совершаю поступки из прошлого, смотря на себя как бы со стороны. Я не делаю ничего в настоящем, я прячусь в зАмкАх из липы, и под моим окном растут розы из серой бумаги. Я не могу покинуть своё прошлое, потому что не вижу ничего, кроме него. Я не совершаю в настоящем, я не совершаю его. Почему всё так?
Я вычерпываю свою жизнь. Это было ясно уже давно. Но я не вычерпал её до конца, и все мои разочарования впустую, ведь я продолжаю жить по-старому, встав на путь перемен. Всё до идиотизма просто. Машины нет.
Мы набирали молоко в подвале. Когда я вошёл, то увидел зарешечёрную дверь, сделанную из ржавой садовой ограды. Она притянула меня на секунду, и я увидел её под липкими взглядами чьих-то людей. Каждый окатыш проволоки становился взмахами моего тела, и когда земля подо мной стала плавиться, я почувствовал, что отрастают короткие толстые крылья. «Пингвин» - подумали люди в недрах той земли, в которой я родился.
Очередь заиграла на струнах. Мягко и без боли мир разъедал меня. Я превращался в прекрасную музыку. Пальцы мои пульсировали, и я сжал в кулак 10 юных сердец тёмно-красного цвета, предназначенных для вымени огненно-синей коровы, покрытой бесконечно молодым мхом.
Люди в очереди распускались подобно блинам, отражающих Солнце. Машина на улицах зажгла свои фары, потеряв себя из виду. Голубой океан исчез. Я ушёл вверх по сколотой лестнице, потому что лучше всего я умел УХОДИТЬ. Они – мои покинутые. Я слышу зов, заставляющий меня уходить от сотен очередей…»
[…]
Сон из плиток ломался. ОН шёл по направлению роста травы. Внезапно ОН понял, что смотрит на себя как будто бы сверху, и в то же время из глубины. Шея его стала непроизвольно вытягиваться, губы покрылись плесневыми лепёшками. Тело сделалось таким же ломким…
Кто-то ударил по ногам. Обычно он падал, но сейчас в сердце земли впились плотные отполированные когти. Брюки не отпускали его; когти росли прямо из них, словно забавное украшение.
ОН продолжал переставлять ноги, делая каждый шаг продуманным и весомым. Понятие «весовой категории», данное ещё в детстве, приобрело новый смысл. Оказывается, можно не верить в жизнь и при этом не терзать страницы резаной книги; даже на дне отчаяния можно делать прекрасные и бескорыстные поступки, даже более бескорыстные, чем в минуты самой великой радости. ОН до краёв перегружен собой, и любая благодарность, а, точнее, любой встречный взгляд, могли привести его к полному рассечению моста…
Длинная белая шея заслоняла собой облака…
[28] Посредине
- Можно не быть разным. Я разрешаю тебе быть одинаковым здесь и сейчас, не напоминая ничего взамен.
- На что мы похожи…
- Когда души людей цепляются за нас, наши локоны сближаются, но когда сближаемся МЫ, то не становимся ближе. Мы закручиваемся по направлению роста травы, мы проходим насквозь. Наши стёкла не разбиваются, и смех по волосам озаряет пустые квартиры. Ты берёшь в замочные скважины, я следую за тобой, и в этой корке недвусмысленности окружающие пространства не помнят о нас.
- Знаешь, траву можно расчёсывать. Она близкая, как небо… Я могу дать ответ «не верить».
Я могу дать ответ?
[29] Высветлённость
Дом, в котором живёт ОН, освещается фонарями снаружи. Створки фонарей проворачиваются к окну, но когда их мягкие ломкие шеи держат под собою свет, от скользящих ламп невозможно проснуться.
«Не просыпается…»
Мягкие слепые пальцы, которым принадлежит ОН, стали быстрыми и точными в постоянной тьме. ОН любит свои липкие слепые пальцы, когда они открывают терпкую/жёсткую щетину комнатных растений. Эти растения никогда не каменеют от ветра, и ОН помнит только о них.
ОН танцует, поддерживая листья, пока фонари не украсят его.
Треск уходящей из-под крана воды смешал в себе ледяной дождь. Два молодых человека царапали его окно. Они учили друг друга фехтованию, их шпаги могли вытягиваться, завязываться узлами, образовывать прозрачные розы, но только дыхательные движения проктологов смещались в его ухе невыносимой болью стекла, только они отдавали неотрицательную мысль надежды. Они резали простыни, как режут снег на праздниках. Они прятались в длинных жёлтых зубах, где смыкаются белые нитки… Белые халаты не могли сравнять крылья земли, но они допускали возможность… Для него тело было одним и тем же, как открытка для них; проктологи всё время борются за право открытки своим подопечным. Каждый день они методично снимают щипцами сотни открыток… Люди не могут знать об их поздравлениях, люди прощают им отблеск железных роз, но проклинают их за возможность второй попытки НЕ УХОДИТЬ, не быть осколками просвещённого фонарями мира. Они не получат открыток, они держатся за тонкие поручни своей тысячей рук, заставляя себя поверить в свою полноту и собранность; ОН также был их числом. Фехтовальщики были иначе: их оружие – шпага и клинок – давало им право только на две руки.
На экране машины, в которую садился ОН, было написано одно слово – высветлённость. […] Нитки морской воды выходили из каждой щели; раньше они прятались в каждой поре, но здесь они были видны повсюду. Несуществующий рентген, ОН оставался в панике – утонуть во цвете лет – неужели такое возможно? Она, «верная супруга и добродетельная мать», подарила свою фотокарточку, которая теперь была покрыта трёхсантиметровым слоем этой необычайно живой жидкости. Плесень на сидениях разрасталась с ужасающей скоростью; когда она соединялась с водой, вода отступала и разлетались искры. Плесень боролась за своё пространство – это захватывающее зрелище сохраняло ему жизнь.
ОН встречал когда-то рассвет
глуповатой на смех улыбкой,
а теперь темноглазая рыбка
станет банкой в его рюкзаке,
о который порежутся руки.
ОН в метро притворится вором,
и коснутся его спины
разноцветно-двуцветные палки
яркий/мягкий режущий свет
пассажиров не бьёт – огорошит.
ОН исчезнет, как сотня кругов
в черноватой мечте вдохновения,
о которой забыл его страх
обнаруженным БЫТЬ в чьих-то окнах.
[30]
Это платье похоже на сон
для которого я оторвала
Новый Год в железной пыли
и улыбку вне притяжения
отразившихся вместо шаров
отдающих на ветках друг друга.
Иногда я жду мысли. В стопке компакт-дисков они возвращаются ко мне оживающими воспоминаниями. И тогда я хочу их потрогать, подержать очищенный карандаш хотя бы ненадолго в точилке. Я хочу НЕ БЫТЬ с ними.
Мы боимся холода. Каждый из нас перед большим экраном. Металлические детали с обратной стороны умножают свет окон, но мы продолжаем смотреть на экран, который прячет от нас жёсткие приклеенные чешуйки. В холоде чешуйки не двигаются, и потому поддаются взгляду, незаметно привязывая нас...
В минуты отражения окон свет холода становится невыносимым. Другие люди начинают стучать по клавиатуре и вытягивают наружу ответ, но я знаю истину – спасение от холода в масле. Я вижу каркас моей левой руки, когда она делает небольшую ямку, а потом размазывает остатки по каждому волокну стола. Я улыбаюсь ей.
Дерево, из которого сделали стол, продолжает расти и впитывать; масло творит звуки и в то же время удерживает их в себе. В этом весь секрет, и если всё исполнено правильно, масло переходит в липкую лохматую субстанцию…
От мелких пузырьков масла экран начинает дрожать. Рука ускоряется, её контуры едва различимы, но она не может успеть. Экран разрастается; со стороны он похож на гигантский скользящий куб. Я останавливаюсь плоским и жёлтым; моё лицо вытягивается и каждый его контур выглядит чётко размеченной линией. В какой-то момент я осознаю себя как бледно-жёлтую сыпь, но не успеваю за этой мыслью. Сыпь слипается с воздухом, она больше не различает его, и нет времени искать промежутки, которые были мной.
Я вышел в поисках каркасов машин. Полиэтиленовый пакет – единственное, что способно удержаться – скользит по обработанному тротуару, поминутно сменяя наряды на белых как молоко паутинках. Слёзы, выпадающие с крыш сосулек, усиливают скольжение…
Если бы всё было так просто – подойти, извиниться, сказать пару-тройку банальностей и остаться при этом полупогружённым в свой собственный взгляд; обозначить себя, но так, чтобы никто не увидел той главной на весь свет причины, почему я пришёл и сейчас стою перед тобой. Я мечтаю закрепиться в памяти направленных мониторов. Они тоже боятся, и их обнимают твои глаза. Мониторы молчат; густые слова жуют только в самом узком, подповерхностном слое.
«Железные домики внутри мониторов
наши руки хватают и ждут»…
[31] Мы невидимы
- Мы сегодня идём в гости к Интолине. Она ждала нас ещё вчера в белом платье на пойманных звёздах.
- Я помогаю тебе с самого утра, но ты даже двух своих шагов не способен измерить. Воистину, нет помощи во тьме откровенности.
- Я пытаюсь вспомнить, какая она, но не могу прекратить эту мелкую внутреннюю дрожь от ощущения чего-то нездешнего. У школьной доски был такой же нездешний взгляд… Она стояла ко мне спиной в лучах первых букетов, но цветы не могли отразить её.
- Знаешь, я начинаю ревновать тебя!
- Напрасно. Всё напрасно, дорогая. Твой взгляд не такой уж бессмысленный, просто на твоей сковороде холодное облако.
- Да как ты смеешь, мерзавец! Я зубами эту сковороду вынашивала, я на самом медленном огне тебе завтрак готовила, так, что даже кошки слетались окрестные, а они только на лапы падали! Кошки научились летать – вот что я для тебя делаю!
- Завтрак всегда обжигает. Облако на сковороде всегда оставалось холодным. Когда я уходил выстригать траву перед домом, ты добавляла огонь, и облако конденсировалось. Ты не могла включить вытяжку, ведь иначе ты обнаружила бы себя, как происходит во все праздники. Ты в ужасе смотрела, как из угла поднимается тёмное живое облако, как оно звОнит и просит не приезжать сегодня. Ты отвечала ему словами на родном языке, ты звучала в своих словах, но облако поглощало их. Ты разлучилась говорить.
- Ты не мог этого видеть.
- Верно. Я прятался вместе с Интолиной за монитором; нас покрывала плотная корочка масла… Вот почему я стою здесь, а ты уходишь из комнаты.
- Неужели ты действительно такой! [плачет] Неужели ты способен меня бросить! Я переплелась с кирпичной кладкой, я сохранила в ней свои питательные вещества. Я изменюсь, я смогу быть иначе, я зажму себя в голосе электричества…
- Ну, будет. Не волнуйся. [похлопывает её по плечу] Сейчас начнётся твой любимый сериал, и все мысли покажутся дурным сном. Я буду нашей стеной и сохраню тебя; ты сможешь жить и расти над пропастью, где облака только в самых глубоких пещерах.
- Обещай нам, что не пойдёшь туда. Что мы невидимы.
- Если ты поможешь мне спрятать взгляд. Я стена над пропастью, а ты дерево с неопадающими листьями. Сердца в ладонях видят насквозь, и меня пронзает ветер. Сделай так, чтобы не было видно дыр. Закрой меня.
- Приятно, что мы выбрали свободу от чувств. Не зря в математике отношение обозначено дробью. [аплодисменты]
[32] Мягкость
Зонты – мягкие. Они покрыты мхом, способным остановить самый быстрый ветер. Ветер запутывается в зонтах и играет на них, как на струнах.
ОН не может удержать свою струну, даже не пытается, ОН даёт запутать себя в лучах ветра. Струна вырывается; она должна слиться со всеми звуками, она должна вернуться к музыке ветра. ОН не теряет её из виду, ОН спасается в беге за ней. ОН не сдерживает своё тело; каждый его взгляд проходит сквозь музыку.
Листья похожи на зелёные тряпки – они настолько мягкие, что отбирают себе его взгляд, поглощают в себя его эхо. Теперь ОН счастлив.
Когда листья опадают, ветки разрезают небо. ОН смотрит на силуэты веток без листьев, ОН погружается в них. ОН должен найти потерянное в силуэтах пролитых жизней, и он окружает себя чужими нездешними воспоминаниями, которые с первого взгляда знакомы ему. Они рядом с ним, они не покидают его, но ОН покинет их, когда ветер станет слишком холодным и очередная струна поднимется к небу.
Ветер поднимет брошенные в чай лимоны, и они закроют солнце раньше облаков. Облака не смогут подойти к небу, и дождь никогда не начнётся. ОН замкнёт себя, и начала никогда не будет.
[33] Обращение
- Я пришла.
- Мне показалось, я что-то вспомнил.
- Зря ты не пошёл. Интолина всё украсила просто замечательно. Представляешь, она купила специальный ёлочный клей! И не утомляет, и не устаёт никогда!
- Скажи, ты не видела компакт-диски?
- Но у нас их никогда не было. Ты учился петь сам, чтобы сформировать уникальный и неповторимый стиль. Ты всегда говорил, что песни на дисках не самостоятельны, что они всегда прерываются, неужели не помнишь? Однажды ты даже сказал в своём обращении: «Каждая песня как пуля – бьёт и исчезает, теряя себя». Ты попросил на открытии ворот, чтобы не включали песни с альбомов. Тебя очень пугали лица людей, не успевших схватить даже чувство потери, оставшихся наедине с самими собой. Когда официанты внесли чай всем собравшимся, ты засмеялся, как никогда раньше, потому что никто из живущих не мог слышать песню, не мог разобрать на части её слова. Жестяные, чудесные ложечки, которые стучат по стенкам, отодвигают время финала, и финал не властен над ними. Люди, перемешивающие свой чай, длятся, ведь ЖИЗНЬ всегда продолжается. А когда играет песня, люди уходят и появляются герои истории, у которой всегда есть логическое завершение и окончательный взгляд.
- Всё слишком просто. Я не помню этого.
- Странно. Ты был так доволен в тот вечер. Герои историй подарили тебе своё безусловное счастье. Это счастье финала, которому они не принадлежат, но который не существует без них. Каждый герой, даже самый отсутствующий и непонятый, знает о пределах своего неизвестного, а ты, обративший себя наблюдатель, знаешь об его счастье, но остаёшься несоединимым.
- Глупо… Мне нужны компакт-диски. Я вспомнил их прозрачную стопку, зажатую между книг. В своём воспоминании я вижу лишь малую её часть, но она соединяется с небом, и я иду по ней в первый раз. Тогда я забываю тебя, но сразу же просыпаюсь и вижу твоё лицо. Ужасно, но я не помню, кто ты, пока ты не напомнишь мне.
- Наверное, я похожа на тебя в эту минуту. Я твой мир, и когда ты смотришь, то вспоминаешь именно своё лицо, как при взгляде в зеркало. Не пугайся, в зеркале не утонет твой взгляд. Спи, мой милый…
Планета голубая,
мы тихо исчезаем.
Пока! Пока!..
Вокруг темно и можно разбиться
не хочется, но это случится.
Алло! Алло!
Алло! Алло!
Звёзды в звездолётах
что же вы, пилоты?
Расставанье – маленькая «с».
Провода искрятся
нам не удержаться
расставанье – маленькая «с»… /Звери/
[34] Озеро макарон
ОН идёт по холодной земле, впитавшей в себя всю воду.
Впереди ОН видит дома в плоском свете уличных фонарей.
ОН смотрит вперёд, когда спотыкается, он тонет в сотнях книжных миниатюр – вырванных маленьких странниц без запаха.
ОН встречается с ними, пока кровоточащий нос не напомнит ему жизнь и не заставит сделать первый шумный вздох.
Теперь ОН готов подняться и войти на ступеньках в свой дом.
Дверь открылась легко. ОН тут же разглядел все детали – этому он учился давно и даже хотел обучить других. На столе лежит свёрнутая газета, рядом с ней тонкая резная ваза с цветными фруктами. Есть ещё шторы, мимо которых его взгляд скользит к тёмному мусорному ведру, почему-то похожему на продавленное кресло в помаде.
ОН вернулся к шторе, пытаясь закружиться в деталях, но приторный ветерок тут же развеял пыль, и картина прихожей исчезла.
ОН поставил обувь на ящик и вошёл в комнату. Она стояла у самого дальнего угла, где уже не хватало уличного света; она ела свежевыпавшие макароны прямо с пола. Она зачерпнула руками целое озеро макарон и поднесла ему, говоря с улыбкой какие-то глупости о прекрасном дне и невозможности увидеть друг друга, она переливалась в этом озере через край всеми цветами радуги. Ей становилось тесно и трудно дышать; она говорила, как ей тяжело жить рядом. Стирательные резинки на ногтях её слов отпечатывали все детские рисунки на стенах их дома, оставшиеся ещё от прошлых хозяев. ОН хотел остановить её, связав ей руки, но она продолжала убеждать себя в том, что ей необходимо куда-то вернуться и воскресить в памяти то, что было потеряно давным-давно, а потом растворилось в мелкой нескончаемой памяти.
Пока ОН из последних сил удерживал её взгляд, не давая пробудиться своему голосу, макароны превращались в реку, в бурный пепельный ветер. Макароны связывали им руки и тянули их прямо к ветру, но ветер был мёртв – он не соединял движения. Они снова и снова оставались в стенах комнаты, продолжая смотреть в глаза. Они закрывались от чувства щемящей неполноты и невозможности, но в то же время предопределённости всего происходящего вокруг. Они видели, как белый ветер стирает небо, и за небом лишь равномерная жёлтая плоскость, как лист фанеры из чердака. Они видели, как пролетают пустые пространства, не способные оплодотворить себя; они бросали им мелкие красные песчинки с каплями своей кожи. Они держались за железные щиты древнеримских воинов, отполированные до блеска супружеской верностью; они дарили им радость ёлочных/осколочных взглядов, пронзающих врага насквозь, они прощали им каждую секунду счастья от непривязанности и непричастности к миру. Они смягчали боль всем, кто натягивал струны и слышал последний и самый новый звук, самый неожиданный и беспримерный звук в цепочке беспричинно украденных воспоминаний.
Наконец луг остановил их. ОН оглянулся, не увидев её.
[35] Зеркало Персефоны
- Ты учишь меня?
- Сегодня ты странный. Если ты можешь избегать взволнованного одноклассника с сигаретами в нагрудном кармане, то полдела сделано…
- Сломано…
- Много лет сигареты напоминали ему. Он потолстел, расплылся, а потом облил себя жиром вместо огня и засох на месте. Столько лет впустую, представляешь! Сигареты хранились в его доме, иногда прятались подальше от матери, но в тот момент… жира было слишком много для прошлогоднего пепла.
- Почему ты учишь меня каждым своим словом? Почему я не помню тебя, как раньше?
- Ты тоже высыхаешь, но, как ни странно, похож на отражение, которое хочет пить. Пусть твои слёзы не умирают, но они также и не смешиваются с остальной водой. Они горят по стальной поверхности, и даже сталь становится их частью, когда дарит им свою воду.
- Я не умею дарить подарки. Даже Новый Год слишком спокоен для меня.
- Не оставляй своих врагов! Ты способен быть верным, и потому подарки всегда с тобой, мой друг! Подарки очень похожи на твоего одноклассника, который так и не начал жить.
- Я часто видел его с большой пятнистой мулаткой. Она всегда принимала решения, а потом мы уходили втроём прочь, и ничто в мире не могло быть нашей тайной… Как мягкие игрушки без ваты – нельзя сломать. Наверное, мы всегда стояли под напором жизни, будто смешные рисунки, которые кто-то подрисовал к старым обрезанным фотографиям. Я никого не способен любить. Вот чему стоит учиться.
- Это очень красиво…
- Сила Карсила… Они дарили нам букет цветов. Мы шли на озеро, где получали все необходимые нам призы и инструкции. На озере было очень холодно и приходилось закутываться, но когда мы брали ружьё, мир останавливался вопреки нам. Я не помню такого дня, когда не мог повернуться к нему. Стрельбище на озере – удивительный факт: стоит только расслабиться, как тут же прИпадаешь из поля зрения. Как странно – слышать выстрелы, неотличимые от земли. Пули проносились, как ржавые незримые линейки, подводящие нас к чему-то… Мы не похожи на те корявые неуверенные буквы, мы стали сильнее, увереннее в себе, наши приметы земли стали легки и незримы. На нас можно положиться в нашей доброй прекрасной любви. Персефона смогла улыбнуться перед зеркалом.
- Шутка для интеллектуалов, так ведь? Я хотела бы добавить, что твоя критика не является законной, и что бы ты не говорил у школьной доски тогда, тебе не сломить дух защитников нашей родины. Они не такие как ты, они любят без жалости и ответов. Ты уверен, что я учу тебя, но что прячется в твоей голове… Нерождённые жить очень быстро удерживаются, их очень трудно или почти невозможно отследить. Вот почему ты приходишь ко мне – ты мечтаешь следить за собой.
- Что ты прячешь в поисках моих рук? Я ничего не скрываю, ведь я очень похож на тебя. Ты тоже прячешься, хотя в этом нет смысла, ты втайне боишься меня как своё отражение. В то же время мы очень разные, но при этом связь крепка безвозвратно, и потому каждая попытка встречи – это отдаление в наших глазах. Мы встречались на летних каникулах, ты помнишь?
- В ресторане ты был один…
[…]
- Я ни в чём не виноват. Когда я вошёл в открытую дверь нашего дома, ты стояла в темноте у окна. Твои ноги прикрывала крупная ткань, именно ткань отличала тебя. Ты стояла почти у самого ковра, а в центре комнаты сидел человек. Я спросил, кто это, а ты ответила: «Доктор». Мне стало очень страшно, я стал кричать на тебя, но доктор всё равно смеялся. Я не мог быть между вами и собрался уйти, но тут он подошёл ко мне и развернул ладонь. К ней была приклеена прозрачная склянка с копошащейся красной медузой – это сравнение подходит лучше всего. Ты тоже подошла ко мне, как мне казалось, и достала жёлтую книгу. Доктор что-то сказал… Я не помню.
- Как же ты умеешь упускать! Я была с тобой наедине, но ты так и не смог понять. Медуза была тобой, твоими глазами. Я отражалась в них, но ты принял моё отражение за банку. Круглую водную банку с тремя отверстиями для дыхания.
- И ничего не было? Мы не падали на седом лугу?
- Конечно, дурачок. Трава созревает слишком быстро.
- Но я точно уверен, что мы были вместе в тот день. Нас МОГЛО соединять что-то.
- Общее чувство времени?
- Может быть. По крайней мере, это всё упрощало.
- …Наша встреча произойдёт, когда мы вспомним прошлое друг друга, а пока… мы боимся жить с разной скоростью. Когда ты входил ко мне, ты хотел открыть «нашу неизвестную жизнь». Только я уже знала всё о тебе и о нас. Для НАС не существует времени, потому что я объединяю его в точке, а ты замыкаешь его в бесконечной кружевной ленте. Вот почему в попытке тайны ты всегда повёрнут к прошлому, вот почему ты должен уходить. Я не перестану видеть, как ты приближаешься и уходишь со странным чувством уверенности, что исчезаю я. В действительности ты никогда не видел меня, и медуза с доктором – это средство для разговора. Их не существует, как не существует нас.
- Прости меня.
- Всё хорошо. Жизнь всегда продолжится. Богатство одинаково уходящих линий и круглые точки, хранящие себя – таково наше общее воспоминание жизни, не чужое, не постороннее, и в то же время не принадлежащее нам.
- Не принадлежащие…
[36] Ячейки
На столе стоят банки с горошком.
На столе стоят круглые банки с горошком.
Их взгляды не принимают погружения
в белом столе, прикрывающем со всех сторон не быть невозможными замкнутости пересечённых железных зубцов, и именно так мир начинает жить заново. Пускай липкая мягкая жидкость, в которой тонут горошины, понесёт за собой белые крылья порошкообразных невыразимых птиц, и закроются руками пробегающие школьники. Они похожи, школьники и горошины, они висят на концентрированном дереве в месте, где играет собачий лай. Они цепляются за него и летят через бесчисленные мелькающие полоски, где их побеждают самые страшные чудища, так не похожие на людей, имеющих атрибуты.
Конечно, жизнь своё возьмёт, и мы играем по-прежнему в «твоё и моё». Но почему же тогда я чувствую себя среди этих полосок, когда смотрю…? Школьники пробегают мимо, я не из их числа, я не принадлежу их постоянному разбегу. Их назначение – отказывать, не быть первыми, отсидеться под партами и нянчить детей в помаде. Ты удивлена? Напрасно. Там есть дети. В школе живут дети, получившие свои поцелуи ещё до рождения, выходящие из яркой темноты с бледными телами, испачканными помадой…
Почему в моём сердце столько тоски? Почему я пытаюсь вспомнить то, что не принадлежит мне? Они другие, они настолько другие, что зацепиться за них… зафиксироваться в их памяти даже железными когтями без спиц… безответственно. Ответов нет, потому что они не задают вопросов, и на что я способен в своей непонятной нездешней тоске? На что я похож?
Им дано… они отступают при первой попытке, и чудища продолжают их. Оставшись, они продолжат полёт, и сотворят самую большую иллюзию «данного» мира. Они побеждены, они покрыты, но их самое страшное оружие ещё впереди. Они стреляют из-за горизонта, и ядра летят вместо них. Белые/красные ядра зарастают в полёте зелёным мхом, размягчаются в железном лесу смятыми слезами тех, кто никогда не достигнет цели. В скрытном небесном лесу подстилка нужна для подушек…
Мягким бессолнечным утром ОН пробивается сквозь сугробы – там спрятаны дорожки прошлогодних шагов. Только под ними нет этих вечно горящих бычков, которые бросали в небо мальчишки из соседнего дома. ОН не умел смеяться как они, и его ноги теперь похожи на многослойную новогоднюю бумагу, в которую чей-то неопытной рукой завёрнут самый простой подарок, живущий одну ночь. ОН станет вещью, когда его достанут – эта мысль опустошает. ОН борется именно с опустошающей силой подарка, столь привязанному к этому разделённому времени; ОН думает закрепиться в её памяти, когда входит к ней.
Речной переезд ОН преодолел на трамвае. Преодолел легко, без привычного страха обнаружить своё присутствие. «Об-на-ру-жить-ся», как учила его читать мама. Трамваи всегда приближаются…
Трамваи всегда приближаются с невидящим заполняющим грохотом, который, давая знать о себе, закрепляет местность вокруг подобно лучу радара. В квартирах все исчезали, но грохот присутствия успевал покрыть их. Забавное выражение «ячейка общества» всё время отражалось в его голове, где ОН вынашивал, размножал, и даже местами насиловал одну незнакомую мысль – быть недоступным. Единственная рука кондуктора передавала ему билет, когда они поворачивались…
[37] Школьники
Едва листья закроют солнце и первые лучи откроются над головой золотой жёлтой статуи, они побегут в порыве ветра.
Когда перепачканные стрелки часов отбросят пыль и свяжутся узлом, они принесут в мир звук.
Они соберут каждый свой взгляд, отброшенный кем-то вокруг, и спрячут его за спиной.
Если первая трава заплачет, они прольются за ней дождём смеющихся зонтиков.
Если им станет холодно, руки замёрзших отогреют их губы.
Но рано или поздно они узнают, что ПОХОЖИ, и тогда школьники уйдут.
[…]
ОН стоит в коридоре, освещённом перед своим классом. Окно освещается зелёным светом, который задевает бледное совестливое лицо, покрытое морщинами и редкими бородавками. Бородавочное лицо кажется смешанным; оно плавится в стакане молока – в облаке пыли, отпущенном в коридор.
Она передаёт ему записку сквозь сотни перепутанных, исписанных рук. ОН всегда получает мыло и слышит, как смеются блестящие позвонки из рук ярко-голубого оттенка. Этот цвет настолько яркий, что он не выдерживает и бежит на чистую улицу – ему становится плохо.
Мрачный учитель истории отводит их к усыпальнице. Со всех сторон она покрыта камнями и есть лишь один крошечный проход в правом верхнем углу.
Серый хулиган бросает бычок, и он летит далеко вниз. Школьники спускаются. Им очень холодно, их волоски покрываются инеем, они начинают мерцать_ сперва тихо и неуверенно, а потом через всё пространство большого свода прозрачными золотистыми чешуйками в памяти сохранённого света. Удивительно наблюдать, как лирическое пространство глаз превращается в водную сферу, как в самых заурядных эпизодах естественной жизни открывается тайное, но знакомое для всех уважение. Они больше не могут быть здесь и они не могут быть где-то ещё. Они предельно приближены на крупных планах.
- Я такой маленький. Я такой устаревший. Я такой новый мамин компьютер, выращивающий для неё самые свежие яблоки. Я готовая лететь подушка…
Научусь летать с тобой на небо,
там где звёзды до рассвета
говорят телами о любви.
Там его, конечно, встречу,
разревусь и не замечу,
как целует губы-руки не мои…
/МакSим/
[38]
Сон легкоплавкой стали
в два прохода наполняющее дуновение ветра в перерезанном ресницами пламени
слова невольного сбора.
Какой-то странный неоновый пакет светит нас вместо солнца заплатками серыми белыми красными
неотрицательными числами новостей
разрушенных ворот пневматических устричных палок
скрывающих самих себя вне содержания тайны
и без наших нашумевших праздников
чересстрочное измерение дисплея станет смешанным для нас в бурый кочан капусты.
(Незрелость…)
Выходит ладан
щёлкает пол
Господи, если бы ты знала, как она прекрасна, когда ты не видишь!
[…]
Средневзвешенный глухой трамвай уносил её вместе с глубокой воблой – его свадебным от всех подарком. Почему-то именно вобла вызвала у него особый интерес, когда на белой витрине воздух наполняли очки, пряничные соты, хрюшки и будущий год и крошечные узелки ниток с памятными клятвами НЕ БЫТЬ. Они очень долго говорили у этой витрины, отражения окон на берегу уже стали мерцать, покрываться морщинами и дождевыми ходами, но фонари никак не загорались. Он произнёс иностранное слово «плафон», а она невесомо улыбнулась…
Казалось, что в мягкой белой отдельности не будет ничего. Как только можно доверять этим безликим порядочным упаковкам! ОН не умел. Впервые ОН не умел с чем-то быть наедине…
- Скажите, Ваши рыбы действительно столь прекрасны?
- Однозначное «да», молодой человек! Они напоминают мне меня в их возрасте.
ОН вскинул брови.
- Скажите, ведь я не должен их видеть?
- Осенью поезда сердец особенно разрушительны, сэр. Вы рождались осенью, и потому ваши руки проходят воду насквозь, не понимая и не пересекаясь с линейками. Букеты не для вас, молодой человек.
- Что ещё за линейки? [агрессивно]
- Бывают простые. Рекомендованы логарифмические с цветными делениями. Вы им не верьте молодой человек, никогда не верьте, ведь вы и так слишком комфортны и чисты. Возьмите рыбину, не стесняйтесь. ОкуПите её дома в аквариум, а потом преподнесите ей, как можете доверять только самому себе, и тогда вы сможете проследить за её улыбкой. Вы сможете быть вместе всегда, но разве это главное! Я стою именно за улыбку.
- Знаете, часто мне бывает очень страшно. Недавно я ощутил себя героем фильма, идущим по белому снегу. Я был один, мне не было холодно, но когда я нагнулся, то обнаружил, что вместо снега на земле голая соль. Я не верил своим глазам, но догадка моя была несомненна -[шёпотом] – у них не бывает снега. Я расплакался как ребёнок и полетел вниз. Страх сжимал меня своими маленькими частями, и каждой его частью был я, такой же маленький и невинный… Простите. Я заигрался. [с улыбкой]
- Это я испугался за вас тогда… Возьмите рыбу. Она ждёт вас сегодня вечером.
- Милая…
- Я зову её милая, как в рекламе по радио. Прощайте.
Продавец наклонился влево и кое-как сумел увернуться от гигантского портового флюгера. Вода над головой забурлила, и глаза всех «юных» пронзил ясный золотой луч, последний луч в прибежище солнца. Сонные большие водоросли отступили от океана, образовав на суше некое подобие чёрных прямых стволов, перекрывающих время. В зелёном солнце корабль должен был перевернуться очень быстро, ведь совесть членов экипажа не дремлет и может запросто отдалить от цели, развеянной по языкам гладко отполированной мачты.
[39] Reality
Я наблюдаю за тобой, когда ты спишь. Ты не отвечаешь мне, и когда твоя рука проходит в общую сердцевину кастрюли, я не отдаляюсь от тебя. Я по-прежнему голос фиксированного наблюдателя, прикованного к экрану.
В первую рекламу я встаю и иду на природу. Я вхожу по колено в хрупкое ледяное озеро, ноги мои не чувствуют дна, и я лечу свободно, как может летать бабочка на иголке. Она срывает белые простыни, ставшие от ветра прозрачными, но струны из железа не звенят – ветер больше не любит их.
Вздохнув первым ветром, бабочка летит на свет камеры, перед которой ты взбиваешь подушку. Она тоже здесь, но она не видна передо мной, передо мной только ты наедине с тысячей невидимых героев.
Герои прекрасны. Они наделены тобой. Каждый герой твёрд и в то же время податлив, каждый приходит к тебе, зная черты местопребывания. Герои знают, что хотя им никогда не быть на экране, их сможешь увидеть только ты, и только тебе дано замкнуть их повторяющуюся тайну.
Пока герой идёт, он хрупок. Он переступает пространство экрана и больше не видит его. Взгляд героя блуждает, а сам герой слепнет, и нет ничего перед ним и позади него. Герой не знает другого движения, кроме движения, рождающего сон, но он знает, что никогда не спит. Ты не смотришь на него больше, твои глаза вырезаны по контуру, и в сферу его взгляда сводится она. Он не приближается к ней, он больше не отождествляет себя с её утраченным центром.
Для НИХ, ставших ненадолго плотными, приходят новые герои, яркие и интересные. Новые герои яркие, когда рассеивают чрезмерность чёрных лучей и интересные, когда приковывают к себе взгляды тех, кто продолжает наблюдать, как ты будешь вести себя здесь. Во сне.
«Я хозяин ДОМа-2
Меня знает вся страна
Эту песню написала
И себя презентовала» /Солнце./
[40] Солнце
Ровный слой масла отражал неприкрытое небо, и только ветер из форточки не давал ему сделать первый неуверенный шаг в неотпускающую новую жизнь. Пытаясь определить цвет приземного слоя, ОН вынужден был держать себя на коротком поводке. Они смотрели в улыбающихся отражениях, их тонкие костлявые руки были спрятаны за спину, как крылья ночной бабочки или очень крупной осы. ОН чувствовал угрозу, пережёвывающую сено. Сено всегда сохраняло тепло, и сейчас угроза разрасталась. К счастью для него, её спинка упиралась в амёбу, внутри которой выпадал в осадок горячий петушиный гребень – последнее звено в цепочке встреч и расстояний, маленький островок согласия цепей преодолевающих, не слышимых друг для друга людей.
Амёба умирала. Она не была к этому готова, но в то же время никогда в ней не было такой всепоглощающей уверенности ПОНИМАТЬ. Мёртвые амёбы пропадают, и из них рождается вода, которой не дано запутаться в чьих-то молитвах, в чьей-то шерсти, примёрзнув к ней тяжёлыми каплями. Тогда она рассекается на лёгкую и тяжёлую части, и герою является свет в соборности воды и масла.
Только она способна вернуться, и только её рукам дано разбить воду на бутерброды с колбаской. Герой покидает её и ведёт за собой Солнце собранного им мира. Солнце нового мира светит его печалью, и чем ярче его улыбка, тем острее лучи Солнца и слабее крылья одиноких бабочек.
Герой не видит Солнце, и лицо его стоит во мраке. Только сияние чёрного кабеля пробуждает в герое его собственный нерождённый свет и дар обретения имени. Ту, которую видит его, он назовёт на «ты», но не будет он помнить шагов приближения своих. Никогда герою не пересечь/отбросить экран, потому что секрет его силы в равновесии Солнца, не рождающего потомков, но меняющего океан.
[41] Из лифта, разворачиваясь
- Привет! Я видела сон, как ты играешь в шахматы.
- Ты так прекрасна… Ты похожа на музыку в чёрных струнах, переплетённых ветром.
- Тебе было очень страшно в том. Ты весь дрожал, пот катился градом, а лицо твоё было таким загоревшим, что я с трудом узнавала тебя. Ты брал фигуру с доски, но её там уже не было.
- В детстве я прятался в лифте. Это было глупо, вокруг не было никаких опасностей, но я прятался лишь на минуту, когда лифт проезжал между двумя самыми тёплыми этажами. Я мечтал, чтобы меня теряли, как теряют старый башмак с очищающей на мир улыбкой, но у соседского пса был удивительно точный и ясный нюх. Меня всегда обнаруживали, и я был счастлив с ней, пока не наступало время идти в школу; тогда мы расходились по разным углам и становились совершенно чужими друг другу. Я не хотел быть совершенным никогда, понимаешь! Никогда!
- Недавно я нашла две старые фигуры, в точности, как из того сна. Давай сделаем из них счёты и подарим какой-то невесте на свадьбу. У соседки отец женится, если только мне память не изменит…
- Я никогда не видел её… И счёты не умею делать.
- Это очень просто! Берёшь четыре палочки, ломаешь их вдоль углов, и когда японское блюдо готово, отрезаешь основания фигурок и вешаешь их на нитки, лучше капроновые. Вот и всё.
- Там были два слона?
- Что?
- В моём сне были два слона.
- Ну… Я не помню. Сомневаюсь во всём, когда речь о тебе. Я так хороша была в тот вечер, ты же сам сказал.
- Я совершенно отчётливо помню, что держал в руке два слона, а когда часы зазвенели, доска остановилась на месте и белые клетки коней из бумаги лишь слегка заиграли от ветра. В верном уме я заявляю, что никогда ничего не боялся, и пускай твои подруги думают что угодно. Лодка в огне действительно существует, и никому не переубедить меня.
- Никому… Кем будет этот Никто? Сегодня утром я поняла что-то. [пауза] Мы слишком похожи. Мы оба не знаем правду о себе, и потому нам некого винить. Многих спасают именно взаимные обвинения и признания вины. Нам не спасти себя… В наших самоповторениях не находится места отражениям и бессилию духа, нам дано лишь оглядываться, точнее, разворачиваться на перекрёстке. Ты скажешь, что мы всё усложняем сейчас, но я отвечу: иммунитет. Сложность однообразия – иммунитет наших жизней, ведь нас всегда будет много. Мы живём тысячей верных решений. Кто-то возразит, что мир слишком нестабилен, но разве волнение его ядра не распространяется сквозь всех одинаково? В этом наш известный секрет и наша невосполнимость… Ты так похож на пирата, мой милый. Ладно, нас уже ждут.
[42]
ОН не был готов к такому повороту событий. ОН не понимал, зачем его лицо пронзает неведомая улыбка.
Хотелось прижаться к столу как можно плотнее, скрыть эту отвратительную гримасу и сделаться тающим мороженым, упиваясь солёным холодом безразличия. ОН придумал это мороженое, чтобы не отличить от себя, а оно понемногу оживало. ОН не придумывал себе случайную смерть, и в его мороженом не было ни капли крема – не оставалось жирных следов.
Тот холодильник был очень доволен. Он не поверил в дары клеток жизни – под ним текут две реки. Каждая пересечена его тенью, каждой оставлено одно и то же наследство, одна и та же сходная половина. Дары жизни не живут прошлым. Их задача – развернуть…
ОН исполнителен рядом со своей неуверенностью, и поэтому к нему, как к вытоптанному снежному пастбищу, продвигается вода двух зеркал. Это самое странное и в то же время прелестное чувство свободы – быть на разрыве своих отражений…
[43]
- Я часто думаю, как должна пахнуть клубника, когда её собирают резкими интонациями голоса. Героев всегда влечёт в услужении именно резкие тайные просьбы.
- Постарайся сдерживаться, мы же в гостях.
- Тайна сверкать в самой острой и независимой ноте. Тогда клубнику покидает протяжный/прозрачный сок, и он открыт для украшения вкуса. Вкус клубники украшен прекрасным сном, воспоминаниями о детстве, которые проходят через руки героев.
- Я уже давно не видела твоих слёз.
- Герои мертвы в этот час. Солнечная река исполнила предназначение – резкая просьба разделила их окончательно. Герои больше не творят покой в бесконечном поиске.
- Что удерживает их от этого?
- Недавно я вспоминаю… Я недавно вспомнил, как она шепнула мне «Новости». У неё была прекрасная улыбка.
- В звоне металла?
- Именно так.
- Ты уже рассказывал так. Пойдём/сядем куда-нибудь.
Они увидели кожаное кресло. «Для головы» и аккуратные подлокотники соединяли спинку в единое целое, которое казалось им таким маленьким и недостойным даже крупицы покоя.
Новое кресло сильно пахло свежевыделанной кожей. В запахе кресла прятался огромный концентрированный океан. Они чертили друг другу окружности сердца и беззаботно смеялись, а потом их ожидало мороженое, вдыхающее прямо на глазах первую робкую жизнь и тающее в тяжёлой обтекаемой дверце холодильника.
Они сомневались. Они хотели остаться собой, но энергия сомнения разрывала их внеочередное прошлое в тёмно-синей попытке помочь обрести что-то… Нежность, в которой лежал источник и одновременно искра сомнения, была тем самым теплом, расслаивающим их тающее мороженое, и они продолжали пригревать его на груди, пока не впечатались в тёмно-серую тень холодного озера фруктов.
Они повторяли себя в миллионах разнополых копий, огороженных светом двуполого Солнца. Они – интересные, разноплановые люди, всегда желанные в любой компании. С ними каждому человеку весело и приятно думать. С ними не о чем болеть…
Другое время и другая школа
и не смейся так далеко
[44] Хранить
Почему, когда тонешь перед листом фанеры, хочется так открыться чему-то другому, тягучему ватному одеялу, жмущему огонь на твоей шее?..
Школьники не стояли и не двигались, они составляли очередь. Они были прочитаны двумя-тремя острыми штрихами, выдавая чёрный цвет будто бы за себя; кто-то говорил в очереди, как человек на 80% состоит из воды. Все девочки улыбались, их улыбки были столь свежи и первозданны, что соседнее дерево роняло слёзы вместо привычного снега.
«Первичный дом», как назвали школу после пожара, располагался в трёх милях от берега обширной гладководной реки. Соседи удили там рыбу, и когда в столовую «приплывала» очередная итоговая порция, детишки совершенно справедливо составляли живую очередь из полностью укутанных спин.
Глаза детей полны любви. Вместо длинной бетонной тропы они видели вязкий перекидывающийся океан без берегов, впадин, и всевозможных срединных хребтов, океан, совершающий движение в лёгком и простом ритме. Океан тропы, подаренный любовью закрытых глаз…
ОН понял: школьники умели превращаться. Картина очереди закреплялась в бледно-зелёном дыму, и ОН мог её видеть, если не концентрировался на неиспытанном чувстве размывания…
Школьники, замыкающие цепь, одевались ровнее других. Когда они приводили кого-то покрепче, кто ещё «определённо не был готов», по очереди прокатывался тихий шёпот. Шёпот сменялся буйным восторгом, и тогда очередь становилась похожа на раскрашенную ленту бумаги…
Самые первые прятались под корытом. Их символизм страны не касался – они просто любили наблюдать за всеми. Все чувствовали и вели себя неестественно. Самые первые оставались вечно разочарованными поставленным эффектом.
ОН всегда любил дарить имена, и «корыто первых» назвал летающей тарелкой. Деревянная колючая гора, сквозь которую видно небо… Когда начинался дождь, ОН забирался под корыто и ждал, пока его свитер не расправится. Корыто лишь слегка прикасалось к траве, его закрепляла длинная ложка с маслом, но ОН пересекал траектории, оставляя самую лучшую память непрерывное множество, а если успевал вернуться, его ждал весёлый накрытый стол. ОН мечтал был похожим на мебель, вылетающую из окна, но разве можно быть другим без жалости хотя бы однажды? «Предметам мебели всегда наступает смена» - так говорили в его семье.
Чёрные котлы бросили корыто прочь, и его память больше не возвращалась. Осколок дерева пробил два полушария… ОН бился ладонями за свою невозможность, но даже самые прекрасные герои не захотели выйти НА БИС, не захотели двупароногого освобождения. Очередь тем и удивительна, что способна убегать, даже не осмелившись…
ОН долго доказывал, что разломал корыто совершенно случайно, что кокосовый орех не растёт без воды, даже без ледяной воды в аквариуме. ОН в панике доказывал ИМ разрезание пространства сферы, он со слезами строил в прихожей шкаф на зависть кормчим и рулевым, он скрывал в сердцах весеннюю порцию, но Интолина слегка улыбалась, продолжая хранить молчание.
[45] Указующим/Атривин
На Солнце надеты красные вязаные шапочки с длинными мягкими нитями, висящими на острых ножах. Лужи разрезаны и кажется, нас больше нет. Не существует молоко в трещинах, никак не существует…
ОН способен глупо улыбаться в туалете, когда приходит свежая мысль. Водоворот в закрытом пространстве переполняет его атмосферу без окон, ненадёжных мальчиков и пронзительно опустившихся дам, не уверенных до конца в своём бессилии. В стеклянном утре они расползлись из его памяти… Никто не знает, как нужно прощаться. Кем нужно быть, говоря о том, что, в сущности, не уходит и не исчезает, но чего не было никогда? Каждую минуту приходится быть другим, сохраняя святое право оставаться собой, и всё ради тех моментов прощания… Стоит ли? Чувство привязанности, принадлежности, объединённой длительности – так легко назвать всё это иллюзией. Не с чем прощаться, не о чем говорить… Некуда спешить на выходе!
Просыпанный тональный крем легко пролетает сквозь белое сито, пробитое кем-то нарочно в самом глухом, неприметном, немыслимом месте. Муку передержали… На время…
Чудеса просыпанного детьми крема приводили его к конюшне. Сейчас там обитают коровы, не говорящие ни о чём конкретно, и после туалета ОН взбивает им свежее, обитаемое сено. Будто маленькие слоники после работы, они трубят его поведению, и, словно свергнутый каменный король, ОН дарит им частичку древнего ритуала освобождения. Перед рассветом всегда темно.
На хлипкую дверь конюшни для чего-то были приклеены усы. Дети в шутку называли ворота чапаевскими, и если ОН выходил из комнаты раньше обычного, они приветствовали его… Топот и ложь размывали небо, принадлежащее серым воронам, и если рука в прозрачной колбе содержала секрет всего… ОН отказывался в это верить. Для него не существовало даже потенциальной возможности претворить в жизнь их ожидания. Они скрывали себя расчленяющими полосками, и когда ОН поворачивался к ним, обдавали его кипятком и громким стуком копыт, оставляя сердечный локон незавершёнными и непрочищенными пальцами… Для игры в полёты они цепляли усы, думая планировать на их щетине, как на крыльях бабочки после дождя. Бабочки живут под землёй.
На дне самого глубокого ущелья ОН понял, что больше не верит им. Сено для коров росло в самых удалённых местах, нагоняющих страшный сон. Его мускулы оставались верны цели собственных снов… прогонистых веток, за которые так любят цепляться герои мультиков, для которых нет и не могло существовать настоящего преданного момента. Герои держатся за плоское одномерное настоящее и те невидимые шпильки, улавливающие в исчезающем ветре… Героям не кажется, что они мертвы, когда ссорятся и убегают, и за это люди героев их любят. В самые критические моменты, когда ветка вот-вот обломится, герои смотрят вверх, и тогда играет красивая ясная музыка…
Сено для коров ОН укладывал в квадратные сетчатые корзины. Дома было не провернуться, и он прятал сено в самых дальних углах. Пыль с полок собиралась там же, и под шваброй с обратной стороны всегда скапливалось некоторое количество острых камней.
Площадка захвата всегда оборудована флажками – они тоже растут из земли. Флажки сделаны из пластмассы, и ветер не колеблет их/решения. ОН смеялся из-за кустов вместе с детьми, наблюдая пойманные моменты своей «нерешительности проклятой», засыпанные золотой мукой светлые воспоминания о годах пионерского братства и свежей выпечке для-малоимущих. Площадка украшалась самыми незаметными воспоминаниями, и, если буквы подновлялись, ОН сохранял каждый шаг в конверте.
Кусты и утки распадались на части каждую осень. Весной они составлялись вновь, отбрасывая целые рощи каменного угля, отдавая накопленную за год энергию пупырчатой серой почве вулканического происхождения. Цветные фонтанчики дыма дарили почве верную анонимную жизнь, остановив движения рек. Вслед за бабочками из земли выпрыгивали первые большие кузнечики, и если ОН доставлял деревья для топки вовремя, солнечные коровы могли быть рады каждую зиму.
Им не было соловья, и всё, что ОН помнил о первоизменённом дне – школьники встречали рассвет.
[46]
- Всё хорошо. Мы можем переждать дождь.
- …Я оказался кем-то вроде маленького прозрачного ёжика. Оно было рассеяно по всему небу, а когда я пригляделся, то и по земле.
- Солнце.
- Возможно. Хотя обычное Солнце представляет собой канал, сокрытый ярким отталкивающим светом. Я не знаю, не могу знать, могло ли Солнце быть там. Звёздочки бросались на улицы и превращались в людей; было видно, как они идут в чём-то вязком и прозрачном, заметном отдельными колебаниями. Небо было равномерно освещено, я подумал о катке и тут же споткнулся. Вместо взмаха руки я увидел землю, и земля была отражением Солнца. Новым отражением, державшимся за все опоры, как на костылях. Я видел ясное и отчетливое Солнце, и даже стоял на нём! Телеграф по-прежнему принимал стрелы, я шёл мимо зеркальных витрин, пока одна из них не украла моё расстояние. Витрины не существуют внутри и не выходят наружу, они непроницаемы при дневном свете и обширны в сумерках.
- Ты искал дом?
- Я искал комнату со знаком «больше», осветлённое пространство, не ограниченное собой. Люди, которые туда входят… их всегда достаточно. Вот почему витрины втягивают недостаточное пространство внешнего мира. Фигурные кирпичи на дороге составляют идеальную дополнительность, дополнительность Жизни. Но когда они открыли во мне океан… витринам не нужно искать дополнения, они собраны без инициативы границ. Нет деления, и нет восходящего Солнца.
- Ты много раз хотел всё бросить. Точнее, ты утверждал, что у тебя ничего нет и тебе нечего выносить и терять. Ты никогда не чувствовал горести и утраты, потому что тебе нечего было тратить. Горькие мысли ты тоже отметал прочь, как ненужную бумагу. Старую, но никем не изменённую.
- Я не был другим, понимаешь! Я был самым обычным ребёнком, и даже тогда, после выхода из магазина одежды, во мне проснулось странное чувство неловкости, ответственной близости за каждый городской куст. Они уже вымазаны белой краской и теперь росли прямо посреди проезжей части, словно маяки. Я приближался к одному из них, чтобы побыть в тени, и он протянул мне яблоко. Я легко подцепил его. Мысли бежали, как хрупкие тени, и шаги мои были неслышны и всепроникающи. Я пронзал каждый дом своим взглядом, я был злым, и злым навсегда. И мне нельзя было измениться.
- Что заставило быть ежом?
- Каприз, наверное. Я за это и уважаю пресс-конференции – за обтекаемую возможность выбора. Всем счастья.
[47]
Пустая площадь
закрытое серое небо
разделённое голубым на две неравные части.
Кирпичи хранят цвет.
Герой проходит сквозь закатную стену.
ОН стоял слева от синего храма. На площади и перед ним зияло неосвещённое чудовище – закат легко скрылся за мелким холодным облаком. Скамейки под деревьями должны быть другими, их поставили сюда нарочно и в то же время по ошибке, чтобы отводить и приковывать взгляды прежде, чем разреветься/рассыпаться небу. Оно не красиво, в нём нет ничего открытого, и то, что знает о небе ОН, легко покрывает одну страницу. ОН смотрел на «другие скамейки» и искал в своём прошлом.
Для него реальнее всего было настоящее. Его ближние – известные люди, контакты – все как одно бесконечно обозначенное настоящее. У контактов не было связанного прошлого и не могло быть будущего, пересечённого с ним; ОН и сам был одной из тех пустых точек.
То прошлое, которое ОН так хотел вспомнить, всегда оставалось непроницаемым, будто окна в старом актовом зале, закрытые плотной материей - даже из самой маленькой дырочки манит мир. «Окна есть» - так написано мелом…
Кирпичи в руках сменяют стену закатную стеной огненной. Равномерный поглощённый огонь долетает дождём из яблок. Внутри стены и огненного потока… ОН стоит навстречу потоку, и его удерживает от сумасбродства внутренний груз поглощённости. Каждое яблоко пролетает рядом, каждое яблоко ударяется мимо.
«Герой видел меня навстречу. Я заметил его улыбкой, обращённой… просто обращённой. Я помню бледную серую кожу, невесомые отсутствующие движения и расставленные в стороны руки, разбавляющие прозрачность.
Я не помню, что могло выносить меня. Он приближается бесконечно, и мой взгляд уже не фокусируется на нём. Я увидел, как между кирпичами ярко-зелёный стебель промывает дыру, и я успел за него ухватиться. Стебель вырвал меня сквозь ткань…»
[48] Охота на зайцев
Красные облака
вечер ударил в спину
я с тобой так легка
я с тобою красива.
Бешено так в груди
бьётся сердце ТВОЁ…
/Только шёпотом – МакSим «Отпускаю»/
Древнеримские воины проносили цилиндры осторожно, медленно. Если Звучащие ворота едва шелестели, они прятались за плоскими раскатанными холмами. Их ожидали там жёлтые венецианские кусты. Эти кусты никто не мог вырвать с корнем, и они отмечали «киноленты наших расставаний» тонкими грибными криками…
«Солнце и небо как многоточия, слышимые для нас. Их так же много, им так же не хватает времени, им кажется, а мы уверены, что они всегда были другими. Зачем в них столько враждебности, зачем они каждое утро меняют цвета?
В небесах мы страдаем фиксацией…»
Звери тоже прячутся в соседнем лесу. Падают деревья от шагов кудрявого оленя, впитываются сороки сквозь узкие на смерть расщелины, тонет голубой барашек в снежном пруду, так и не потерявший. Голуби прожигают свои имена, как на площади. Два пожилых кролика перемигнулись, напугав древнеримцев до полусмерти. До половины_ они вспомнили зайцев.
Зайцы были страшнее всех. Никто из живущих и мёртвых не носил такой грязный и сальный оттенок. Когда русло камней начинало призывно стучать, отдавая на танец, это служило сигналом, условным знаком, что приближаются зайцы. Они боялись и несли в себе страх, они владели каждой минутой. Кто говорил тогда, что их видел, кто не понимал воздушного аромата цветов?..
Зайцы придавали форму. Они снимали светимость молочных камней, убирали её в сторону на время, и прибивали их лапами. Подушки готовились быстро, а с кроватями приходилось возиться долго – до ближайшего беглого ручья было далеко, и некрасивые тропы всегда косились к обрыву. Зайцы брали колючки и высекали камнями пламя; в отличие от людей сигнальный костёр получался мгновенно. Запоминали и не сомневались, шли, пока не проходили насквозь. Зайцы из бумаги выращивали себе лодки, становились твёрдыми и уплывали, делая надрез в области живота. Проститься – так было надо, прощение наслаждало их, прощение наслаждать впитывало их усилия, как впитывает воду осенняя губка. Не напечатавши на мягких камнях, их проклинали последними неудачами…
Древнеримские воины были охотниками на зайцев. Это сковывало их движения, увеличивая тяжесть и необходимость щитов. Зайцы были ловкими и упругими животными, но воины поклонялись змеям, и самые близкие выбрасывали окрест ажурных крон свои раздвоенные языки. Концы языков переплетались в канаты, острые ножи отнимали у зайцев печень, солнечные драконы меркли, и лица воинов становились седыми. Они стоят в его сне ровными рядами, они остались в памяти его молодыми и старыми неграми, держащими руки в карманах. Они не любят и не жалеют себя, и они мертвы. В его памяти их держат седые волосы.
Хотя им не похоже на строй, но для него они РЯД. Они сохранили ряд и беспечную подозрительность, ведь печень зайцев каждому сну внушает бессмертие. Им сделан дар неподвижности, и когда ОН проходит параллельно их РЯДУ, они прячут свои глаза. Всё другое – наполняется жилами звон. ОН открывает глаза…
[49]
За круглыми кургузыми холмами ОН видел волокнистые поля; это было не в первый раз. Купидоны бросали на холмы хоккейные шайбы. ОН видел, что это случилось давно – шайбы успели зарасти травой, - и в то же время недавно – они не потеряли свой чёрный цвет даже под непрекращающимися попытками сезона дождей закрыть, закружить всю невидимую остаточность, сделать её нестираемой и до невозможности притягательной, чтобы не поддержать/не погибнуть вместе с ними, когда на землю сойдёт зима. Лошади оставляли здесь свои гривы, и чёрные шайбы прятались совершенно самостоятельно…
ОН вытянулся в струну, удерживая старый карандаш в руке. Волокна цеплялись за одежду. ОН мелочно направлялся к зелёному кусту, из которого торчали ноги. Приблизившись, ОН заметил на кустах ситцевую шторку; отдёрнув её, ОН увидел снеговика. Единственный осенний снеговик был потерян…
…Почему-то он не хотел вставать. ОН изготовил тысячи трёхдюймовых подпорок и валиков, но снеговик продолжать быть белым. ОН даже покрылся язвами и огнями, как рождественская ёлка, но снеговик не хотел и не мог меняться и затухать. ОН насобирал со дна ручья обкатанные камешки и попытался обложить снеговика ими, но у того была какая-то необычайно толстая кожа…
За кожу снеговика можно было слегка приподнять, но потом он тонул в ней и возвращался к земле. ОН испугался этого зрелища и повернул назад.
Город открыл ему избавление. Машины и здания не были ему знакомы, но их профили приятно холодили как живое явленное откровение.
[50] Прежний
Всё так жестоко – не смотреть
всё как будто бы вмещается весной
все цветные звёздочки ищут себя – непонимания, ищут свой мир, который больше для них
очертя
растерянно-испуганные лица
отступают против чёрных волос-горы
так и не узнавая правду, обозначившую себя
ту правду, открытую, выдержанную, непорочную правду первого взгляда, единственную правду непопулярного мира
расколотого на себе, такого необозримого и чужого,
который всегда заслоняет глаза,
если правда падает наспех.
Также как тихие звёздочки, ОН стоит на краю сейчас. Его толкает от себя вибрация клеток полей. Над ним висят собранные в букеты голубые крыши в подарок – маска и закрепитель, как название фильма. Не так уж сложно, принимая решения, принимать отличия.
[…]
Не хочется идти в школу ватными подушками. На проходной всё равно не пропустят другими, не пропустят с прежней улыбкой.
Хотя, был один… Прежний. Он приходил раньше всех, ведя за собой закат. Он неизбежно выталкивал самую первую карту, сдвигая её к углу, а когда занимал своё место, вставал и ещё раз осматривался, не бежит ли кто из класса.
Ему поручали заполнять журнал. Это было немного странно для школы, но только он мог прикладывать к этому делу всё своё рвение. Он легко распутывал любую колонку оценок, выявлял все слабые места в полях, и когда начинался урок, учителю было достаточно лишь занять свой место и получить в руки самую чистокровную статистику. Учитель занимал стул перед камином и загадочно улыбался. Его тонкие вкладки вели испуганные взгляды лысых чернобыльских учеников, как строчки в книге, и стоило Прежнему достать фотоаппарат, как мир исчезал. Страх и ватный покой уходили безвозвратно, все стены переступало обычное голубое небо и казалось, она удержит в себе целый мир, подарив возможность хоть на секунду сделаться самим собой, не исчезая, но исчезнуть в оппозиции своему отражению… Учитель держал в сердце потенциал для зеркальных стен, и Прежний был единственным, кто не видел его в журнале. Неизвестно, бывал ли он когда-то счастливым, видел ли он счастье других людей, но несчастным он не был никогда. Что может быть сильнее, чем «искусственный разум» клеток?
Никто не приходил в первый раз. Когда пришла Интолина, Прежний был до того поглощён анализом прошлого, что не заметил карту на разрыве стены. Они встретились только в тексте, и она была первая, кто обратил наше внимание. «На стене любого дома есть географическая карта, и если мы на неё посмотрим, то сможем проводить и удерживать взгляд на каждой минуте пути, не зная прошлого законного владельца. Запечатывая стену снова и снова, вы откроете в себе друг друга, и тогда вам откроется единство и безграничная уникальность того самого ясного мира».
Мы не могли принять эти мысли, в нас было слишком много «державной ненависти». Прежний продолжать ничего не понимать – его иммунитет без сомнения был безупречен на все времена.
Когда новизна уходила, на чёрную дверь школы вешался большой замок. Он оставался тогда и проникал в молчание. Только здесь Прежний целиком ощущал свою противоположность. Он не мог пробиться к своим первым воспоминаниям, и потому он никогда не чувствовал себя в настоящем и боялся говорить много, чтобы никто не подумал неправильно. Теперь понятно, что его ход мыслей не предназначался ему, его мастерство вытягивания нитей было куплено другими, и когда он стоял перед пустыми классами, он делал выбор. Делать выбор – вот в чём была его суть и понимание, и его подарок самому себе. Такова цена его размножения…
[51] «ОН мечтает снимать кино…»
За рекой из солнечных линий и холмами белыми раздвигают тучи холмы жёлтые, и прячутся на самой вершине холмов олени. Руки голые для оленей забором служат, за ворота холмов не пускающим, а глаза оленей красным огнём рассыпаются. И соединяются глаза оленей в созвездия.
Большая река серым камнем впитывается. Даже самой горячей весной воды реки из берегов не выпадают, всегда в камне прячутся.
«Это вода, для которой найдены поры. Красные плоды как красные, жёлтые как жёлтые, а зелёных нет».
Неосторожность
- Под ногами тоже ходят автобусы. Только они утопленные.
- Это как?
- Очень просто. Вода превращена в полёт, и потому лунный асфальт заменяет реку.
- Река вытекает в море?
- Именно. У моря всегда есть дно, вот они и ходят.
- А когда там бывает закат?
- Когда ты смотришь. Закат – твоё настоящее время, ты же сам говорил. Ты ещё не проснулся, но уже уплываешь в закате.
- Я плыву, ты плывёшь… Неужели столько воды в моей жизни?
Разъединение
Здесь мало занятых мест. ОН уже готов найти любое свободное, пусть даже со стружкой, но «Консоль» - узловая линия – всегда полна и востребована. Всегда её смотрят трубы по пятницам, всегда её пункты обречены на известность, и всем её будет МАЛО.
«Консоль» - русская прицельная – предельно понятна – узкая линия строго вдоль извилистой реки. Даже самые смелые пароходы чересчур малы по её меркам.
ОН больше любил другую сторону, где перерастали здания. Именно перерастали – каждую неделю возникал новый небоскрёб. Беспрерывно растущие здания только казались такими страшными – на самом деле они отражали солнце. Сквозь туманные круглые сутки было видно лишь звездное небо, а в зданиях… зеркальные искры заката, изумительно отбирающие внимание, всегда неисправимо и прекрасно поющие ЯДРА, зацепившиеся за пуговицы неведомого великана. ОН знал, что город воистину прекрасен и до смешного невидим, когда он любит их.
А ещё внутри этих зданий был озвученный свет. Любой плафон находил тысячи собственных неисправностей, и каждый день еженощно моргал, разбивая кафель на самых первых ступеньках. Он нёс всему миру тихую весть о безжалостном утре…
Когда ОН заходил в любой дом, он всегда раскланивался и улыбался. Соседи часто выходили неприбранными, с характерными своими запахами, но ОН всегда держал своё лицо. Они обычно не разговаривали, молча обменивались и заходили внутрь. Они садились за стол, круглый или извилистый, и выпивали чай. Конфеты предлагать было непринято.
И если они просиживали здесь, бежали на улицы, то что было для них дороже? ОН замирал, оставляя одно-единственное чувство – быть родным. Светлые люди, как на фотовспышке.
Как я без тебя
[…]
Млекопитающееся
- Солнечный мальчик покрасил стену в зимний цвет. Его приветствовали легко и внезапно, только он не искал безошибочности. Труды не оплачивались спящим.
- А когда папа придёт?
- Подводный фонарик? Я тоже плакала. Когда он выпустил руки… Они боялись инерционности. Солнечный мальчик подарил их самим себе.
- Мама, а у нас в школе ребёнка убили. Новенький пришёл, и ещё лоб красным фломастером разрисовал, чтоб страшнее. Я, когда хожу за батоном, всегда его боюсь. И волосы у него седые…
- А ведь у них телефоны были, позвонить могли. Помнишь ту сцену, где они кукушат выпускали? Большая такая труба, верная. А там у него наручники были и фонарик на память. И я там тоже была, на единственной стенке с гвоздями, и могла ведь помочь, могла! И песня у них была такая красивая, но гордость меня замучила и вера моя псу под хвост. Их и найти-то не могли из-за этой песни, которая повсюду была. Ты говоришь, страшно, но как ночное море может добрым быть? Они всё прекрасно знали, но продолжали свою песню только шёпотом петь… Нет, ты не знаешь…
- Мама, а если книжку читать, она расплавится? А то новенький бомбочку из шапки сделал, и я, чтоб не досталась…
- Первый раз солнечный мальчик пришёл поздно. Первый раз он внушил нам чувство обиды. Мужчины пешком вернулись, лошадей всех загнали, да так и померли до темноты. Женщины вместо слёз всю ночь лунную траву косили, а на утро большой урожай принесли. Только дети в тех домах пропали; из города сказали – ветрянка. Один колокольчик у них остался, его и бросили рыбе без сна, чтобы съела. Только покатился он против течения, пока к чистому берегу не приплыл, где пески разноцветные, а листья всегда одни, и растут эти листья так глубоко, что не вырвать их никому. А все ветра в этом месте в одну сторону дуют, только не соединяются никогда.
- Мама, ты никогда не спишь?
- Не обрывай нитку. Далеко нам до земли, не то, что им… с листьями.
- А души погибших детей встретились?
- Ветки там били больно, потому и не знал о том месте никто. Они отдельный ЛЕС окружали.
- А тебе, мам, не страшно?
- Там все дома из одного дерева скрыты. Волны разбили дерево на три стороны, вот люди и смогли поселиться. А когда заборы ставили, то сбежали к зелёным холмам, потому и топорщатся ветки раздельно. А если солнце в том краю жестоким от сердца бывает, из могил предков голые птицы к небу летят, и падает к листьям радужный дождь первым криком молчания. Дорогой, я знаю, что часто была неправа, глупа, и тебя обижала не раз. Ты простишь меня?
- Для тебя – всё что угодно.
[52] Не зря
И даже сейчас письма взлетают к свету. Даже в горельниках расцветают парафиновые края всех морей, и их преследуют паровозы с мётлами, но письма всё равно не догнать. Им всё равно, живут они или нет, им не бывает тоскливо перед необходимостью просыпаться и идти, они могут позволить себе выходные и праздники словно нечто первоначальное, не раннее, а именно открытое, открытую самой себе ручку. Строки без слов пролетают быстрее ветра, тонут быстрее дождя и перерастают своих учителей быстрее всех вместе взятых. И не надо мне открыток и звона почтовых колокольчиков, если есть письма, и не нужен мне луг и рассудок, потому что земля заворачивается улиткой, и с её изнаночной стороны каждому виден зелёный росток, каждый клянётся другим, что никогда не будет судить.
- Милиционер не зря стоит у столба – он слушает музыку. Ты сегодня поздно вернулся, дорогой.
ОН
Сия вещь возникла как опыт гибридизации отстранённости от мира и искренности выражения чувств. Автор прыгает с одной руины концептуализма на другую и видит что-то в момент прыжка, что-то близкое и чудесное, но при этом недостижимое в силу аутоиммунных реакций. Таким образом, данный проект суть порождение аллергической реакции на жизнь в свете сентенций постнеклассической рациональности.
Начало: 2.06.2007
Конец:16.03.2008
[1]
Площадка полна живыми людьми. Они похожи на колотый лёд, в приступе жажды семенящий по тротуару своими маленькими лапками. Впрочем, здесь для тротуара место не нашли – площадка окружена двумя рядами стен.
Его звали ОН. При рождении он получил имя Гидроксид-аниОН, но для краткости и прочих своих сестёр его имя ОН.
ОН стоит и чувствует ветер. Его бьют по плечам закопанные по грудь люди, а он даже с места не двигается. Ему нужно пройти в одну из дверей, но они слишком одинаковые, чтобы быть правдой, и потому неразделимы. ОН берёт на руки огненно-синий провод (ОН вырос в городе), который прибит гвоздями; провод не даёт ответа, и тогда его подхватывают человеческие существа и уносят прочь.
«Странные мысли меня посещают (это ОН так думает) – когда я беру телефон и вкладываю его в чью-то руку, он почему-то звонит. И он так любит меня, этот звонок, а я так люблю ожидание. Я стою и жду, и из трубки капает расплавленная лава, и я перестаю видеть этот мир, распускаясь на тысячи спичечных коробков. А потом они загораются, и тоненький дымок позволяет мне оставаться неузнанным и неизменным.
Если бы не радость моего ожидания, я бы придумал слоган: «Купите сотовый телефон –аппарат моей надежды».
Во что я верю? Не могу об этом знать. Но я жду, когда придёт Солнце. Оно откроет дверь в сернистом смокинге…»
И тут его мысли прерываются. Белогривая греховодница пролетает над кровавым, рвущимся в небо, потолком, и ОН бежит из коридора – падают акции его ёлок. ОН выбегает на проезжую часть, но это всё равно мимо, это всё равно не его лес. И что бы он не делал, о чём бы он не думал, ОН всегда будет стоять и дёргать дверную ручку.
[2]
В другой раз ОН думал: «Нет, ну так нельзя. Надо осмотреться. Я пойду и спрошу / у кого-нибудь, / когда принимает / тот самый врач.
Я думаю о ней, / и мне спокойно, / что я никогда не буду думать о ней. Я думаю, и оно исчезает, и надо думать, чтобы всё исчезло. Есть простая история «про НАС»,/ нам кто-то о ней рассказал,/ мы стали думать, / и она закончилась.
Вот слышу: скоро начнётся приём».
ОН видит железный чайник, покрытый бумажными отклеивающимися крапинками. Всё как на ладони в этом начищенном чайнике – ОН успевает об этом вспомнить перед ожогом.
«Я ничего не читал на 13-й вопрос».
«Мои часы закрыты, когда я пишу».
«Когда я вспоминаю тебя, мне становится светлее и проще. Я столько всего накрутил, я связан и не могу двигаться. Тут не помогут никакие крылья – они слишком большие и всегда разбиваются о загипсованные стены. Я должен думать о тебе, чтобы земля не руководила мной; в минуты своей любви она натягивает тонкую белую резинку, разрезающую мои руки. Я не должен тебя любить, но я должен вычеркнуть слово «должен».
Я никогда не приеду к тебе, но всегда буду с тобой прощаться…
В больнице всех учат заботиться, но я не умею. А порой такая в этом потребность! Без всякого налёта пошлости просто позаботиться и вместе увидеть что-то глупое и бесполезное, но такое знакомое.
Я вижу, как ты ведёшь меня к настоящему, а мне всего лишь хочется к нему прикоснуться…
Я как та девочка, что смотрела на мир со дна колодца. Вокруг не было никого, а наверху было небо, и ещё старый грязный пакет, на котором отпечаталось её лицо».
ОН был очень закрытым.
[3] Больно любить
Из пальца капал мёд.
ОН хотел прочитать газету за занавеской на скорости 2Х, но его отправили косить траву.
ОН пришёл на место происшествия, а трава такая высокая, что на ней лампочки и те прикручены. Но самолёты всё равно падают – ОН видел их обломанные крылья, по которым сновали маленькие замёрзшие жучки.
«Что с ними случилось? Для кого они?» - спрашивал себя ОН, и деревья склонялись к его волосам.
Один камень уже час протыкает кожу. Он стеклянный и в нём отражается плоское небо. ОН посмотрит в него и никогда не сможет ходить.
«Эта трава достойна большего»…
ОН хочет ещё подумать, но кожа трескается.
Ему становилось всё больнее от слипшихся ресниц и от тонкого пергаментного сердца, залапанного беспощадным ветром. Прекрасные бабочки отрывали по одной травинке, а длинноносые пауки подхватывали падающую плоть и несли её своим детям, в то время как оставшиеся фотографировали этих детей в дупле, обитом войлоком и свинцом. ОН тоже наматывал плоть, ОН тоже мечтал накормить детей, но обручальное кольцо соскользнуло с изрядно похудевшего пальца и впилось в ногу спящему газонокосильщику…
Все несли шляпы. Пчёлы приглушённо гудели. Кто-то обнимал дерево, как в старом фильме. Улыбающийся ребёнок играл со своей кошкой. Плавучая гостиница похожа на гигантский корабль и на вышитый небоскрёб. Засыпающийся гость в одной занавеске всё ещё лизал спину полусонного генерала.
И так было надо, а вилке стало грустно, и она ушла. Её не могли видеть в испачканном море, её не мог видеть задыхающийся кит, и уж точно её не видели исламские террористы, летящие на свадьбу в последний раз.
[4]
ОН ехал в покрашенном автобусе, наблюдая за своим отражением, но громыхнули кости и начался дождь. И тут он впервые увидел, какое под дождём красивое небо. ОН гнал от себя эту банальность, но небо было таким красивым и даже… многогранным. Его руки вытягивались и покрывались щупальцами, достигая обхарканного пола, но ОН был не в состоянии даже думать о жизни и своём напускном равнодушии – впервые он видел всё, не разрезая бумагу на окнах.
Когда ОН отвёл взгляд от неба, то обнаружил ещё более удивительный и волшебный факт: везде на земле – в каждом закоулке, на остановках и даже под навесом ярко-жёлтого квасного ларька были ЛЮДИ. ОН никогда не видел людей так близко…
Когда ОН сошёл с автобуса и спрятал свои отдавленные присоски (они не были нужны ему теперь), земля дышала. Она дышала после дождя тысячей маленьких маргариток, и каждая капля блестела в его глазах. ОН отпустил свою руку, и она погладила мягкую землю, не сломав ни единого комка, не поранив ни единого стволика. И земля превратилась в большую добрую птицу, подхватив его – человека в окружении присосок, расставляющего ловушки для случайных ненаписанных встреч.
«Мои присоски – это чёрные дыры, куда должны упасть все, но куда не могу упасть я. Они беспринципно яркие и они должны быть для всех живых. Но они так легко ломаются, эти резиновые присоски! Я забываю уснуть и кровь из пальца – вот боль моей потери. И тогда я сжимаюсь, и рёбра пробивают мою гортань насквозь. Так я прячу себя в свежевыкрашенном сундуке без ручек, но нет ключа среди моей мечты».
[5] «Мы прожили с тобой чужую жизнь»
При обыске нашли письмо:
«Я часто вижу тебя на экране, но мало что помню. Помню, что ты обыкновенно молчала, а если и обращалась к кому-то, то всегда на «вы». Странно, но это обращение не рождало чувства отстранённости или какой-то неискренности; находясь по другую сторону стекла, я ловил каждое твоё слово. Именно так – ловил.
Потом краска с внутренней стороны кинескопа стала осыпаться, и пугающе точные прогнозы приносили с собой ветер. Этот ветер старательно подбирал осыпавшиеся разноцветным лепестки и уносил их прочь, полные такой яркой, иссушено-бессмысленной жизни.
Но ветер не мог удержать тебя. Даже в самом прозрачном экране ты всегда была рядом.
… И что я мог сделать после этого? Я всегда был крайне сентиментальным и верил в идеал даже тогда, когда ломал самые прочные карандаши. Мои руки должны были покрыться язвами, но я по-прежнему вспоминал о ней. Ты совершенно права: мы проживали чужую жизнь.
Вот мы идём. На нас смотрят, но мы никого не видим. К нам обернулся милиционер со слезами – попросил передать за проезд. Она погладила кожу сидения, и салон закачался в пыли.
Не было ни боли, ни страха от лица усатого мальчика, беспощадного к зрелищу своего мира. Его лицо было необратимо искажено теми большими петлями, за которые так необходимо держаться. Он переминал свою шляпу, этот мальчик, как переминаются с хрустом деньги, но только шляпа эта складывалась из очень хрупкой бумаги. Такой хрупкой, что каждый раз, когда он хотел порадоваться, его прям в челюсть ударяло очередное воспоминание.
Всё это я пойму и без неё. Без своего экрана она оставалась прозрачной всегда, и я мог с лёгкостью видеть мир сквозь неё, даже не вздыхая по сторонам… Впереди нас было наше время. Не было ничего, чего мы не знали, и всё казалось нам новым, а, значит, чудесным: и титры над головой, и даже ветер, который дышит в спину каждое утро. И ещё мы снимали об этом кино…
… Я был готов защитить её, ведь она казалась мне такой хрупкой и удивительно родной, пусть даже и в отражении. Ты можешь смеяться сколько угодно над моими простыми словами, но всё, что было в ней, я находил в себе, и когда она исчезла… я увидел себя мягким мхом у подножия дерева. Мхи, они всегда к чему-то привязаны.
И началась реальная жизнь, и появилось обращение «ты», и ты повесила на стену календарь, чтобы не забыть о ближайшей дате. Я купил себе телефон, и он стал проводником в мир моей надежды. А если любимый ноутбук показывает мне «жёлтеньку собачку», то мы идём с ней искать то, что я когда-то увидел в окне. На экране».
[6] ОН и камни
Странные падающие сердца бились в такт адекватно ритмами пульса беЗкрылых кузнечиков, когда ОН, непохожий на себя от счастья, переходил площадку забетонированных прожекторов. Сильная телефонная корова цепким хвостом привязывала деревья друг к другу, и с этим ничего нельзя было поделать! «На что Они были готовы?» - вертелось в его голове.
С раненых лет ОН отличался странной наклонностью – кривой верхней челюстью. Нижнюю кривили многие, и ничего удивительного в этом не было, но верхнюю? Если только король, который и без того умер, когда пошёл ко дню…
Но мог ли ОН предположить, помыслить и даже пораскинуть мозгом, что во время чистки лыж его остановит Она? Она, построенная из кубиков и собственной надежды…
С ней было комфортно. Комфортно настолько, что можно было не употреблять слово «легко» для обозначения того неправомочного состояния, в котором ОН отапливал помещение уже полгода.
Как они пробегали! Никто им не верил, а Они всё равно пересекали солнце быстрее всех. Их убЫвал дымящийся воздух – последняя примета сердца – а они для всех улыбались, и те повторяли шёпотом или в полсилы: «Само пройдёт».
Без труда, кто была и вправду простая, мокла под окнами Их.
Зачем Они оставили всё как есть, делая вопрос незаконченным?
[…]
В том месте, куда его запихнули словно монету между страниц, жила кошка. Если она прикасалась к нему своей тёплой спиной, ОН мог уже не плавать под окнами, за которыми жили камни. Камни эти проводили время в тумане, и никто их не ел. Да и кто нащупает что-то, да ещё и зубами?
В буфете плавание обычно было недолгим. С утра несколько рецептов безразличия, потом два взмаха ластами – и на месте. Огромные окна пропускали каждую лучинку Солнца, давая простор для всякого потерянного взгляда. ОН ловил тяжкие каменные соты, посыпанные приправами, и стекло потрескивало от их комплиментов в адрес УХОдящих вершин. Их вершины всегда были уходящими – вот это было важным для него.
На рассвете окна шуршали, и тогда соты поднимались, чтобы счищать ночной мох. ОН в это время прятался в пузырьках флейты. И каждое утро было прекрасным для всех, даже для спящей на кафельном полу кошки.
[…]
«У этой истории нет начала или конца, равно как и завершающего всё смысла; о сюжете и говорить нечего. Есть герой по имени ОН и чьи-то события неподалёку, продиктованные внутренней закономИрностью интуиции – единственной непререкаемой истины для автора этих песен /хотя, может быть, и строк/.
Если говорить о соотношении автора и произведения, то здесь важно следующее. Я всегда стремился к автономности своего внутреннего мира, но в то же время к его естественности, органичности. Это непременно должен быть мир, и непременно исходящий из меня /слово «мой» не совсем уместно в данной ситуации/.
[…]
Камни построены из изломанных линий, но они тоже живые, и потому питаются травой. Они выбирают тарелку и кружку из тех, что стоят на бесчисленных полках, и тщательно перемалывают недавно выросшую траву с помощью вышеупомянутых керамических изделий.
«Эти травинки растут прямо из тарелок, но они всё равно разбивают их.» - подумал однажды ОН, но к выводу так и не пришёл. Очень было холодно среди камней.
[…]
Была одна вещь, камням неподвластная – прорастающий жёлтый орех с круглыми листьями океанов. Он рос из старого ботинка, и когда ОН подходил к нему, то неизбежно спотыкался, и глаза его наполнялись песком. Проводя столько времени среди камней, ОН искренне мечтал о Встрече, но каких трудов стоило ему мечтать! Эта мечта не была чем-то неуловимым; напротив, она крепко впивалась в голову всеми 20-ю ножками, и 80 трёхгранных капель терялись в сумерках его мозга.
«И ради чего я столько путешествовал, если всё равно оказался мечтающим среди растущих камней?» - таков был его утренний клич за трапезой. А потом всё становилось цветным, и можно было жить дальше, ни о ком не заботясь.
[…]
ОН рисовал мелом у эхолота и слушал слова камня:
- Не понимаю, кто мог назвать бабочек красивыми? Эти толстобрюхие создания уже расцарапали мне всё лицо своими мохнатыми конечностями. И как они ухитряются скрывать свои когти среди такого мягкого меха?
- Неужели у бабочек есть когти? – ОН наконец-то оторвался от своего занятия.
- Ещё какие! Ведь они цепляются ими за цветы, и когда те обваливаются, то покрывают обломками всех, кроме этих крылатых тварей.
- И они продолжают летать?
- Именно так – летают, не покрытые обломками.
ОН вспомнил, как накрывался одеялом в детстве, если было страшно. Старенькая бабушка превращалась в великана, жующего капустные листья с чесноком, и подтыкала одеяло с каждой стороны, а рёв чайника напоминал о крике петуха, и приходилось ложиться спать, не досмотрев очередной сон.
«Как странно, что он забыл о шуршании крыльев» - мелькало у лампочки.
[…]
ЛЕГЕНДА О ПЕРВОМ РЫБАКЕ
ОН перебирал картофельные коробки – такая у него была работа. Его сосны держались друг за друга иголками, чтобы хоть как-то противостоять бешено ревущему вертолёту, который прорубал своим винтом каждую переборку насквозь. И лилась эта бессмысленная вода, и тонул остров, имя которому Остров Всплывающих камней…
ОН сидел спокойно, ведь плотность морской воды выше плотности его тела, и она не сможет его утопить. Ей не позволят…
Вместо камней почему-то всплывали свежеотёсанные столы – такая в этом мире была странность. ОН схватил ближайший, взобрался на него, подобрал ноги и приготовился плыть, но тут случилось новое событие – море остановилось. ОН не заметил, как это произошло /и произошло ли?/, но всё было верным – вместо бурных волн «водное зеркало».
«…Конечно же! Надо пройти на ту сторону!» - обрадовался ОН своему первому в жизни решению. Он был горд тем, что прочитал множество сказок, и все они были об одном – если где-то увидеть розовое с чёрным колечко, то первое желание непременно сбудется, а остальные осуществит добрая фея или кто-то с бородой и в синем костюме.
Итак, ОН почесал за ухом… но уха-то не оказалось! Никто не ищет приключений без уха – так говорила ему старенькая бабушка до того, как стала не дождавшимся внучку волком.
«Проплывающий красный берет сделает меня лучше» - подумал ОН про себя и подвязал платок на шее, а потом пропустил через перемазанную дёгтем голову, отчего некоторым гостям стало дурно. Он пытался всё исправить, снимая берет, но за столом не хотели успокаиваться. Предлагали белое, красное, кричали «горько»… если бы не его забывчивость, он никогда бы не смог их простить.
На трёх лучах ткани были зашитые узлы, и когда ОН развязал их, сердце его забилось чаще, а голова потяжелела свободой: он вспомнил, что не сможет вязать узлы без Неё. Идя на фабрику, Она каждый раз просила: «Развяжите все почки и линии, ведь моё сердце большое без пробок». ОН любил Её именно за это умение противостоять хоть всему миру, не теряя при этом милосердия. «Может быть, именно поэтому и начался потоп»…
Дёсны, затоптанные сапогами, быстро заживали в морской воде. ОН уже трое суток не пользовался антигравитацией, а, следовательно, в округе воздух оставался чистым. Его руки были истыканы и даже прокушены насквозь, но разве от этого наши сердца могут быть ближе – спрашивал он себя. «Жаль, что я не вижу своих слёз, перепутавшихся с проклятым океаном», - таково его дословное содержание…
К утру корабль причалил. Первым спешился карлик с огромным для его размера мушкетом, затем исправно дёргали конечностями служивые, и лишь потом до земли дотронулся наш герой. Какие у него были клетчатые штаны, и как блестела его губная гармошка, спрятанная в самом что ни на есть интимном месте – ЗА УХОМ! Он нёс два прогорклых чемодана для приготовления здесь всевозможной снеди, а попугай на его плече держал подзорную струю.
И как от него разбегались медузы! Летопись города навеки сохранила имя своего избавителя, и каждый трудоспособный горожанин до конца дней своих будет печь единственные в стране прозрачные лепёшки, обжигающие губы даже в самый холодный день.
… - Скажи, ты любишь апельсины? – спросил он неприметного оборвыша с бычком во рту.
- Пошёл вон, грязный мерзавец! Твоё место у помойной крыши! – ответил юноша, но от громкого его крика бычок затрепыхался и испустил дух, не помня своего имени.
- Ты станешь большим человеком. – с улыбкой сказал незнакомец. – Как тебя зовут?
Но юноша лишь разводил руками, подобно вытаращенной из воды рыбе.
- Душа бычка перешла к нему. – шепнул тигролову очень пугливый мавр с перемётом.
- Он пойдёт со мной. Это и будет его имя. – сказал капитан, поправив великолепную шляпу с ярко-зелёным пером. Как потом написали газеты, «пират без уха похитил единственного рыбака, которого рыбы знали в лицо». Они больше не могли доверять местным жителям и уплыли прочь.
…Печально, что в газеты так ничего и не завернули, ведь без рыбы людям незачем дарить подарки. А когда газеты встречались, спрессовывались и превращались в дома, люди стояли у стен и незаметно превращались в камни.
[7] День рождения
«И почему я не последовал её совету?» - думал ОН между делом. – «Кто придумывает, что Солнце всё знает даже по пересечённой местности? Ведь куда не посмотри – местность везде пересечённая. Даже серая корова – и та прячется в тень, и никто ей не помогает даже. Она делает это сама, по собственному выбору, и тут мы подходим к выводу, уважаемые слушатели, что коровами движут исключительно инстинкты и вся природа вокруг суть проявление того же самого коровьего инстинкта».
ОН даже не заметил, как его мысли стали слетать с губ, превращаясь в осыпающиеся слова на доске. Аудитория упорно их фиксировала, а ОН ходил из угла в угол и молча требовал добавки, обещанной ему ещё в день сорешённолетия.
«Помню, как стало тихо – магнитофон вдруг потерял всякий смысл, оставшись на дне реки. Мы сидели за пряничным столом, и даже спичка не помещалась между нами. Когда принесли пирог, похожий на отрубленную голову быка, капитан уже был пьян: он называл себя моим отцом, а мать хваталась за голову. У супругов всегда так - взятие боли другого облегчает жизнь в будущем…
Капитан держал торт, мать стояла рядом, а мне безумно хотелось ВЫЙТИ.
- Смотрите, как он жмётся. – пошутил кто-то из приглашённых, и скоро все кричали «Тосты! Тосты! Тосты!». Я встал, почесал за ухом /с тех самых пор у меня эта привычка/, и сказал слова. Никогда моё сердце не говорило слова, и приглашённые заплакали. Их сердца забились в костяных клетках, руки их задрожали от невыносимого числа переживаний, а меж губ потекла неприятная светло-жёлтая жидкость, и все молитвы были напрасны. Я хотел им помочь, честно хотел, но не устоял на ногах, и в тот же миг сердца присутствующих обвалились, как обваливается хлеб перед самой последней трапезой…
И лишь Она предложила мне убрать со стола, и был за ней шлейф из хлебных крошек. Но я простил её, и прощаю сейчас, как прощает меня свет твоего уходящего поиска».
/письмо сложено в 4 раза/
[8]
Из самого сердца картонных коробок ОН строил домики. ОН мог возводить какие угодно башни и играть с картами во всевозможные игры; правда, чересчур плоский король никому не давИл покоя, и приходилось засовывать его между стопками книг. Эти игры были подвижными и, касаясь вершины потолка гостиной, карты прыгали с башен-близнецов, не причиняя никому вреда.
ОН разбирал башни из картона. Это началось с тех пор, когда ОН увидел изумительное овальное окошко, так напоминавшее ему ЧТО-ТО… За окошком целая стена дождя и ещё волны, бегущие только прямо. ОН смотрел из окошка и плакал, и никто не смеялся над ним, ведь шёл такой изумительный дождь… И как боялись Они страшного шума тяжёлых капель…
Если бы ОН мог спасти всё это… если бы преодолел извечный страх… Их можно было спасти, можно было спасти то хрупкое, что зарождалось между ними. Он протягивает это Ей даже сейчас, с воспоминаниями о том, как сам обрубил… перерезал свою руку канатом.
ОН тщательно перемешал суп и вылил его в деревянную миску. «Уродливый получился суп». – сказал ОН себе и съел его. Язык покрылся язвами, телевидение сделало репортаж, он улыбался на улицах, а потом в каждой язве выросло по зёрнышку. «Зерно овсяное охотно клюют воробьи» - и тут ОН уснул.
Но даже во сне его не покидало чувство невыполненности всего происходящего, каждого его действия. Он не знал, как ему жить под этим раскинутым небом. Его сердце никогда не было каменным, оно было картонным – ничем не выдающимся гомогенным куском, никому не интересным, но чутко реагирующим на каждый порыв ветра. Если ветер был очень сильным, сердце превращалось в парус, а пустоты в картоне свистели. В окружении радужных птичек он возносился всё выше и выше, пока не услышал хруст – картон разломился надвое. Картон сердечной мышцы разломился вдоль…
«Держи седло покрепче – лошади не растут без сбруи».
[9]
«Объединение знания сообществ, способствующих их ограниченности приводящих линий всегда позволяет нам быть похожими…» - и тут ОН запнулся, как запинался каждый раз на открытии нового здания – писали «Сотни видимых» в этот раз.
[…]
«Но какому движению сердца позволено стать фундаментом?» - такой вопрос оставлен без ответа.
Хватающий порыв ветра, от которого сердце начинает биться, позволил ему не думать. Уверенность в том, что ОН не думает, была прочнее, чем белые стены каждого здания, построенного в отдельностях. Извёстка, положенная поневоле СНАРУЖИ, поднимала облако, но дождь не хотел идти, и сельчане проклинали невидимое инфракрасное солнце, поднятое на веки вечные строителями «Новых Надежд». Они проклинали его как вперёдсмотрящего, они держались за белые стены, но корабль с провиантом всё равно перевернулся, открыв команде единственное в мире зелёное Солнце без горизонта. Они дышали впервые за время своего существования, они вглядывались в изменённые правдой лица, но без любви их сердца всё равно проклинали.
«Даже на ворохе пустых коробок можно установить кафедру». – такова мораль данной истории.
[10]
ОН умывается, и щёки его светлеют. ОН берёт зубную щётку и спрашивает цитатой: «А если я хочу вымыться ВЕСЬ?» По трубам что-то стучат – это ответ, но колючая из крана вода не даёт даже моргнуть без звука, и никто не ответит ему; даже зеркало в ванной комнате успеет запотеть, прежде чем ОН отважится.
На этот раз ОН пойдёт на трамвай, где звуки колёс ещё громче. Там он оплатит за проезд, будет стоять на месте, да ещё и перед самым выходом, но так никого и не встретит. Из кожаного сидения кондуктора (единственного в салоне) сквозь круглые отверстия будет вылезать коричневый старый мех, политый лесным одеколоном. Его кости начнут вибрировать в сухом воздухе и трамвай поедет. Вокруг не осталось ни единого кубика льда – думает девушка из-за журнала.
Когда вылупляются когти, ОН, ломкий от страха и сухостоя, продолжает держаться за поручни. Билетик на ладони сгибается вчетверо, плавное окошечко открывается, и тогда трамвай впервые останавливается по-настоящему. Все бегут к выходу, не оглядываясь на гибнущего кондуктора, с которым в детстве ОН был на «ты». Пол начинает плавиться, и колёса трамвая становятся рельсами, которые давно пора заменить.
ОН никого не прощает и никому не верит, даже поливальщику комнатных растений, растущих у него дома.
[11] В эту постгемоглобиновую эпоху…
В эту постгемоглобиновую эпоху проходящих, помазанных жёлтым-ветер, ОН мечтает о солнечном умении. ОН мечтает снимать кино.
Здесь, на этой выставке, его позвонки давят железнодорожные петли с двух сторон. Это очень сильное давление, оно с мешком не держит камеру, которую ОН старательно прикрутил к подрезанной палке, потому что мечтал во что бы то ни стало запечатлеть шедевры современного искусства. ОН хотел запечатлеть то, что признаЮт все, даже забудочники, не из-за слабости духа и не из-за податливости. ОН должен запечатлеть, зафиксировать на первые страницы своей невечерней газеты, потерявшей даже чёрно-свинцовые краски, именно то, что видят и признают все. Только признанных знают в ЛИЦО…
Его обороты были на редкость соблазнительны в эту ночь. Объектив, отсвечивающий синей, чертил нечто вроде защитного круга, одновременно выметая все мысли, и ОН производил на редкость хорошее впечатление в эту ночь. Если ОН останавливался, уточняя чью-то позу, лампочки на потолке начинали тихонько смеяться.
Одна, вкрученная в стену чьей-то сильной рукой, с незапамятных времён хотела курить. Когда с рук падали загнутые уголками конверты, она хлипко вздрагивала и брыкалась своей спиралькой; её колба отвечала трубным звуком. В ответ лампочки повыше рассказывали себе легенду, перекрученную сотни раз, о великом Солнце, никогда не перегорающим и зализывающим свои раны, беспримерным фениксом на сковородке. «Молоток чертополоха освистал без радости весь дофабричный евроремонт»…
«Если держать фотоаппарат под углом, даже в самых статичных мыслях возникает иллюзия движения», - терпеливо объяснял ОН маленькой старушке, спросившей у прохожих дорогу; только перебирающие воздух пальцы выдавали его исключительно бессилие. ОН отдавал себе отчёт в том, что компьютер старушки перегревается и она вот-вот задымится с разрывающей небо улыбкой, но… «Спасибо вам, молодой человек» - прочертила губами старуха и направилась к выходу.
Стены украшала морщинистая бородавчатая дубрава. Некоторым посетителям протянули через ноги лианы, и когда они спотыкались, на столе раздавался смех. Особенно восприятие удавалось круглому белобрюхому «Солдату» с пилоткой, которая сваливалась при первом порыве, а когда его пачка сигарет щёлкала, в двух картинах открывалась дверь.
[12]
«Когда закончатся
полёты первых ластоЧЕК…»
«Я помню, что был зажат и, хотя вокруг было очень холодно, в этом узком живом пространстве сила трения создавала тепло. Я держался за одну из тех трубок, что протягивают вдоль потолка и не закрашивают ничем, ведь руки ждущих тепла всё равно составят на трубках неповторимый узор и отполируют их так, что не останется даже малейшей засечки рабочего, скромного, полузакрытого от невзгод завода.
И вот я стоял на песке, вытягивал своё тело в такт движению пола, и вдруг почувствовал её взгляд. Это не была Она, которой никогда не было уже недели две, это была она – девушка со странным пронзительным лицом. Взгляд её был всего лишь дополнением к этому пронзительному лицу, к его острым, выточенным из податливого камня, контурам. Несколько раз наши взгляды встречались (а сколько раз МОГЛИ БЫ встретиться! – прим. авт.), но я тут же отворачивался к окну, вытворяя нечто глазами и проворачивая губами слова. Правда, сердце моё было без слов в ту минуту, но хотелось казаться странным.
Мне хотелось КАЗАТЬСЯ. Среди невидимых, но осязаемых, и при этом уникальных субъектов, даже не собранных общим делом, мне хотелось казаться ЕЙ. Она запомнит меня, обязательно запомнит, и я почувствую себя в луче прожектора, отмеряющего каждое моё движение и стирающего все ненужные стальные воспоминания. Я почти оказался в свете этого прожектора, но бесчисленные слои закрывают меня, они часть единой стены, это множество картонных листочков, они отданы были мне и теперь стали моей частью. Но я не часть их и не часть мира, где они хозяева, я привязан к ним, этим чужим не для всех листочкам. Её лицо лишь поколебало их, вот и всё. Я пересчитываю их твёрдой уверенной рукой и знаю, что Ей никогда не быть.
[13] В морщинах земли
«Разве можно переживать из-за этого?» - говорил ОН, будто задавая вопрос.
«Большие куски очень тяжело проглатывать. Они выжимают слёзы. В дождь под зонтиком целый мир, пространство расширяется по кругу. Удивительные круговые просторы под дождём, где я глотаю самые большие куски. Я убеждён в собственной исключительности, что этот мир не для меня, я ощущаю широту взгляда, и даже без высоты и глубины я обнаруживаю её. И рассыпается упаковка на части, и Она летит ко мне, но одинокая телебашня протыкает зонт, и всякая дыра – «моё вИдение». И если можно держаться за зонт, не поддаваясь ветру, то можно ни о чём не переживать. Верно, ребята?»
Отъезд был удивительно пустым. Будто не было никаких встреч на горизонте, будто бы никто не ударял по любимому стеклу. Перед ним висело именно твёрдо-сухое стекло, самое твёрдое в полупомешанном молоке терпения.
Чему учился ОН? Он учился терпеть со счастливым блестящим лицом, и повисшее стекло скрывало его улыбки. Он учился играть, захлёбываясь от смеха, когда перечитывал свои правила. Учиться составлять правила с положительной мотивацией цельности – вот условие неприметной удачи…
[…]
Хочешь, я улыбнусь
отмеренной тебе улыбкой?
Хочешь, от чувства меры
слёзы мои оросят
всходы, что опадают?
Я наклоняю голову
я проклинаю ножом
щёки
и взгляды повыше
только сквозь глаз песок.
(Нет оправдания мне.)
Я не пишу
дарю
НЕТ пароходам солнца
НЕТ океану рек
НЕТ оправдания мне.
Дай мне секрет убеЖДАТЬ от себя…
В поисках тонуса маленький мальчик
руку отбросил и ПРЫГ на диванчик!
Только диванчик в морщинах земли.
[…]
МИНУТА ПРОСВЕТЛЕНИЯ NEO
«Смотрите, сколько летающих рук, мистер Андерсон. И это тоже, по-вашему, Матрица?» - агент Смит недоумевал.
«Да, я попросил наших людей убавить музыку. Через минуту Нью-Йорк покроется зелёным мхом». – уверенно ответил Neo, хотя голос его дрожал.
«Я агент, я не умею удивляться. Но как вам удалось перевести время Матрицы назад?»
«Когда я спал на клавиатуре, я сломал свой старый будильник. Проснулся – его нет, и с тех пор Матрицы нет для меня, а теперь её нет и для вас. Подумайте, в какой просак был бы поставлен благородный суд передо мной, если бы каждый увидел себя безрадостным среди бархатного мха с запахом клубники, ведь у Матрицы не хватит вариантов, не так ли?»
«Но люди? Что вы оставляете им, кроме омерзительного запах своих тел?»
Теперь удивился Neo.
- Мы знаем, что вам пришлось менять тела, чтобы быть с ней, мистер Андерсон.
- Чтобы спасти её… - прошептал сквозь рацию Neo.
- Вы хотели быть с ней на слишком близком расстоянии, вы хотели видеть её каждый день, чтобы говорить с ней. Вы всего лишь человек, мистер Андерсон, и оставьте наконец эту мысль – найти секрет своей исключительности. Вы неуникальны, как неуникальны все мы, живущие в отобранном людьми мире. Прощайте, мистер Андерсон. – и воздух разорвал агента Смита пополам.
[14] Цветливое море
Какая невероятная радость на него нахлынула, когда ОН отдал букет! За стеной так сладострастно чмокнул герметик и, будто пыльца бабочки, к обрыву взлетела его мечта. Все их мечты легко читались по губам, одухотворенным небесно-голубым линолеумом, и можно было лететь сквозь затаённо-грязные тюли, срывая с насиженных мест дверные горшки…
Оконный скотч потрескивал, напоминая о походном костре. ОН жарил ярко-голубую сосиску в микроволновке. Во время приготовлений веки его тяжелели, но для чая время было раннее, и потому приходилось страдать молча, ни с кем не разделяя двух переломанных от боли покрашенных белых ресниц. Этих ресниц было больше всего в старых круглых лампах; когда-то ОН часто забирался в них, с замиранием сердца обходя стороной вольфрамовую пружинку, готовую в любой момент взорваться и перегореть от пущенного внутрь воздуха. ОН скрывает свой воздух в себе – это умение останется с ним навсегда. Раньше он сравнивал себя с ловцами жемчуга, даже в интервью пару раз упоминал, но теперь он помнил, что в его сердце и кончиках волос никогда не было того перламутрового блеска, способного отразить самую чистую радугу, спрятанную на движущемся песчаном дне. ОН отмечал не раз, даже будучи в ванне, что вода всегда стоит на месте и блики её статичны, а вот дно непрерывно движется – так даже у самых закрытых крабов появляется надежда увидеть перламутровый свет настоящей радуги и своё жёлтое сердце, расправляющее известковые ломкие крылья в ярко-синих шрамах.
[…]
Его лицо, такое привычное прежде, теперь покрывалось бесформенными фиолетовыми пятнами. Они двигались относительно спокойно в такт серо-зелёным ветвям, но когда достигали носа или больших ушей, резко подпрыгивали, будто хотели вырваться. ОН закрывал лицо руками в надежде, что пятна перейдут к его рукам, и тогда он сможет документально зафиксировать это благословенное событие, но пятна продолжали облизываться и смеяться над ним.
Наконец пятна исчезли, уступив место гомогенному фиолетовому раствору. ОН даже испугался на какой-то пролетающий МиГ, что тот изрубит его винтами на миллионы шариковых ручек, но всё улеглось. Страшный легион исчез, оТставив в сторону самые дальние воспоминания о себе.
В его сердце обитала одна история. Привлечённая кровью, она как самка комара методично облизывала каждый желудочек, слегка не долетая до дуги аорты – серый бесхвостый трёхстворчатый клапан своими ледяными жилами останавливал её, и тогда она плакала, а руки его дрожали, и не звучал пульс в его пустых глазах.
Это была история о маленьком толстом крабике, у которого при рождении не было заЧАТков глаз. По утрам он стриг водоросли своими кривыми клешнями, а на ужин к нему спускались утятки и приносили на крыльях крысиные хвостики. Он играл на них как на струнах, утятки слушали и забывали вдохнуть, а когда они опускались на дно, то прекрасные кораллы открывали им свои щупальца, и всё море наслаждалось оранжевой радугой, защищая всех его обитателей и пронося радость людям. А когда к берегу прибивало прозрачные пёрышки, кухарка несла их на скотный двор и готовила кушанье под названием «морской горох», а после кормёжки шла подкладывать утки своим клиентам.
Но однажды водорослей не стало, и утята больше не смогли отыскать дорогу. И крабик застыл от горя. Через миллион лет море поднялось, пена со дна опустилась, и наглый мальчишка бросил крабику злотый (к тому времени он покрылся бородой из кустиков лишайника). И слёзы трёх сестёр оживили крабика, и сквозь его панцирь полилась самая прекрасная музыка. И посыпались все восковые лица, и развеяло ветром краски. И распустились невероятные цветы, скрытые фундаментом каждого дома. И застучало сердце, единое для всех, и разломал крабик свой панцирь надвое. И впустил крабик воздух в себя, и тело его засохло…
[15] Посредине
«Правда, я на редкость вырос за последнее время: тело стало бумажным, сердце, как и надо, каменным, а ещё две руки как у динозавра» - заканчивает ОН письмо, пока Она танцует.
ОН складывает себя вместо конверта, прежде чем Она поставит печать.
ОН балуется с сургучом, разваривая в котелке вишнёвые косточки, а Она смотрит «Улыбающийся дождь в оконной раме».
Когда Она встаёт к нему, ОН идёт в ответ, и пальцы его немеют. ОН будет идти к ней и всегда держаться за стены, дающие ему защиту своими шероховатостями.
Когда Она говорит о несовершенствах, ОН пишет последние строчки, и бумага почти заканчивается, а даже если счастья нет СЕЙЧАС, оно всегда было и обязательно будет.
[16]
4 спины вокруг костра, принадлежащие разным людям, сжимаются им. тогда, когда ОН исследует круглый огонь. Огонь перетекает сквозь пальцы, струится будто малёнькая чёрная река, но для него нет преград в этот полдень. И ОН хватается за последнюю соломинку, способную дать ему ответ на простой вопрос: как победить страх? Она не говорила ему…
«Если в сердце столько молчания и неизвестности, то сколько её в тех плоских дрожащих шторах, скрывающих подёрнутое инеем полено, сохранившее даже прожилки листьев, но уже неспособное жить среди внешнего мира? Передо мной будто кадры мелькают, не способные удержать меня и развеять… Никто не может развеять меня. Разорвать, согнуть – это понятно, но РАЗВЕЯТЬ – никто.
Вихри, заключающие и не поддерживающие, заставляют меня бояться. Чудовищ можно победить, но как бороться с тем, что каждое твоё действие ЗАСТАВЛЕНО кем-то или чем-то? Вот и гремлю, как китайский сервиз…»
Спины у костра дёрнулись, а потом и вовсе разрушили. Круглый снежный баран осыпался лунным кратером, а на Луне не растёт ничего.
[17] Диалог
* Я знаю тебя_ сгоревшего
я вижу – ты давишь стекло
не знающий собственных вымыслов
ты ищешь немое число
в молчании сердца Единого.
ОН: Секреты – они между нами.
* Не надо ответов – живи.
ОН: Но разве возможно не падать?
Мы слишком просты
однозначны
и наши слова обо всём
исчезнут
как данные в мире
двоичности/раскодировки.
Нам страшно остаться собой
нам страшно остаться хоть кем-то
нам страшно остаться без снов
слова_ за зелёные стены
хвататься
тонуть в облаках
из жидкого/твёрдого света.
И кажется
нас больше нет
но провод впивается в горло
и мы говорим о своём.
* Ты больше меня не увидишь
и свет тебе станет чужим
и небо_ цепочкой с нулями
сожмёт твою шею_ как дым
и ты задохнёшься в растворе
питательной смеси_ внутри
ты будешь до первого звука.
ОН: Я слышу дыханье. Прости.
[18] Гуси
Гуси проникают сквозь меня
их головы как нитки солнечного жемчуга, которые всегда остаются чистыми, только свет Солнца не отражается в них.
Гуси всегда со мной
они упруги и в то же время невинны
их острые клювы не предназначены для питья
они неспособны пить.
Гуси бегут по воде, и самая плотная оболочка раскалывается.
Гуси приносят в мир страх, рассекая оболочку каждого, и лента тёмных углов составляет веки, хранящие влажность глаз.
[…]
Гуси помнят добро, но не помнят того, кто его совершил, и нет ворот их ослепляющим клювам.
Головы гусей украшены золотыми шипами, и каждую ночь они терзают небо.
Когда небо покидает гусей, земля принимает от них кольцо.
[…]
Перья гусей скрывают рыбью кожу; в облаке крыльев их видят зелёные бабочки.
Тяжёлые цветы знают эту правду и тянутся вверх, посылая небу свои белые семена.
Гуси протыкают их верхушки, и белый сок облаков изливается в землю.
[…]
Каждое сердце способно понять гусей, как каждая точка есть результат проникновения линий. Уничтожая линии, точка носит в себе тайну их Встречи; так и гуси, протыкая мягкое облако, напоминают сердцам о небе.
[19] Только одна
Мои песни звучат сквозь грохот.
Я вижу стену и понимаю, что ничего не изменится, хотя всё меняется. Ничто не останется прежним. Я смотрю на израненный пол и застываю на пальцах, и лицо моё осыпается.
Здесь миллионы зеркал, и каждое отражает меня. Я вижу свои отражения, похожие на газетные фотографии, построенные из точек, отдающих единую полноту. Когда паук бежит по своей нити, зеркала поют, но фотографии качаются и мутнеют.
Вы пробьёте меня, возносимые гуси!
Ваши петли на лапках оставят луну
Моё тело придёт на ладонях зеркальных
И стеклянный хлопок остановит меня.
И тогда белый гусь мне останется другом
и простым «никогда» мою грудь разорвёт
ослепительный клюв молодеющей стали
и я буду просить. Первый раз попрошу,
и увижу КОГО-ТО в сердцах замолчавших.
«Странные, жёсткие, пробитые на вкус трамваи. Кто входит в эти четыре двери, ведь открывается только одна? Кто говорит друг с другом сквозь грохот? Кто ищет слова для последней попытки?»
Я буду ждать тебя, Звёздочка.
[20]
«Воздух выходит – мы скоро умрём».
Если бы Звёздочка знала, сколько бессмысленной ненависти в падающей пивной банке! Сколько сухости, оставленной следами подков, выпивали они!.. Когда ОН думает о Ней, в его сердце стучит эхо проносящихся горных вершин. ОН не слышит собственного сердца, и тогда он готов к Встрече.
Стена его сотен рук всегда прикрыта разными надписями. Обычно это слова любви, но часто они становятся синими линиями, берущими своё начало от стыков между кирпичами, когда маленький стейк нарастает от чувства вины как снежный ком. И чувство его безответно, и обращается ОН к полосатым сердцам. И предназначено им построить высокую как небо трубу, если не скажут они никому о своей вине. И тает снег с океанских гор, и тонут сердца в каждой речке. И не бьёт уже мир град окрестный, и всходят на дне деревья, чей ствол зелёный, а листья покрыты золотом от рождения.
ОН даже не знает о своих мыслях.
[21] [С надеждой]
ОН наконец-то решился на это… ОН наконец-то сварил свой удивительный чай. ОН поглощал каждую каплю, он захлёбывался слюной, пытаясь сохранить земную губку нетронутой. И пусть говорят хлипкие шнурки на его ботинках, но ОН смог, смог подняться над Солнцем, перехватывая мокрыми руками горящие лестницы; с мягкими улыбками своих предшественников его ноги продолжали этот путь…
- Сигареты «Дро-ме-дар». И что Вы мне дали? – ОН говорил у киоска.
- Мягкое и лёгкое, с подушечками для пальцев, как ты и просил.
- Но я хотел, чтобы шарики бегали быстрее, когда я читаю о Вас.
- Неужели ты не видишь? Шарики вылупляются из поролона.
- Тогда мне необходимы яйца.
- Это ещё зачем?
- Они могут удерживать в себе. Даже руки моей сестры не способны держаться за поручни так, как способны УДЕРЖИВАТЬ яйца. Их форма легка, она совсем недавно покинула круг. Ещё непроснувшаяся форма позволяет яйцам летать. Секрет удержания в себе именно в сером шерстяном полёте; я прячусь среди толстых нитей, а нити тонкие удерживают в себе яйца, и когда скорлупа расстраивается, мир открывает свои двери с готовностью жить.
- Знаете, вчера здесь женщина была. Она хотела подстричься, а я и говорю ей, что парикмахерская напротив синего дома. А она вдруг ребёнка моего забрала, и так засмеялась потом… Я до сих пор в её сердце смех вспоминаю.
- Вы любите поливать цветы?
- Да. [опускает глаза] Они растут прямо из горшков, и каждый вечер перед сигнализацией я выжимаю над ними капли. Наша вода без запаха, и если ты ждёшь в словах моих помощи, чужеземец, то обратись в другое окно – перед нами скопилась слишком большая очередь! – и витрина захлопнулась намертво.
Он направился к Пыльной Пластинке. Это было странное место, больше похожее на кафе. За столиками из дуба фонари удерживали людей. Сотни квадратных очков, маленьких и под солнце, смотрели на него под фонарями в эту минуту. ОН вдруг ощутил приступ невыразимого счастья, и был не в силах удерживать себя. Солнце в его голове извергалось наружу, будто сотни маленьких звёздочек играли его зрачки. Он раскручивался точно по центру; он развязывал все свои линии. ОН паниковал, потому что не знал причины столь великой милости сердца.
Солнце впитало в себя воздух, и вот уже тысячи шариков побежали вниз. ОН прячет урын победы своей и прыгает вслед за ними…
Маленький синий лёлик сидит у него на столе
Дома CD не играет – ОН остаётся в себе
Маленький жёлтенький шарик прячется над головой
Дома CD не играет – ОН остаётся один
Маленький солнечный зайчик ветку зелёных жуёт
Дома CD не играет – ролики ОН не спасёт
Маленький До не поймает, маленький Ко не простит
Дома CD не играет – лучЬ притворяется – спит.
[22] дорога Вокруг
ОН идёт пешком одну остановку, являя просторы мира в себе.
Дороги здесь широки настолько, что открыты каждому и во все стороны. А когда они пересекаются, то возникает летучее ощущение пространства. Именно так и двигался ОН[…]
Жёсткий ветер трепетал его горло, трещинки кожи перемешивались и объединялись, а маленькие сосудики указывали их дальнейшее местоположение.
Внезапно ОН остановился. Каждый сантиметр окон вдали развёртывал в себе дерево; линии развёртки бегали по домам, как по большому экрану. Ветки, свободные от листьев, выставляющие напоказ свою непроявленность, были открыты ему одному. Они открывались ДЛЯ НЕГО, превращая мир в оттенки жёлтого цвета.
(ОН вспоминал, что жёлтый цвет может быть очень разным – от грязно-немого безразличия доя солнечного праздника).
Жёлтый цвет покрывал даже небо плотной песчаной корочкой. На секунду ему показалось, что всё может рассыпаться, но пластинки будто бы застыли в воздухе. Нет, не так – для каждой пылинки был свой воздух, но все они были связаны единой способностью быть и вырастать даже из пустых горшков.
[…]Ветер развеивал его; ОН подогнул голову и увидел своё голубое сердце. Оно вытягивало короткие ложноножки в духе какой-нибудь маленькой амёбы, только целью его вместо водорослей были тонкие проволочные нити. Здесь ОН вернулся к реальности – вместо жёлтых пылинок небо перетягивали именно нити, не принадлежавшие сердцу. Под небом они тянулись ровно и за них цеплялись грохочущие трамваи, но наверху они творили полный произвол, запутываясь в неисчезающих чёрных кругах. Ради смеха ОН потянул одну нить, но круги даже не двинулись с места. Они висели на облаках…
Зачем-то он сел в автобус и поехал прямо. Зелёные конфеты остались в прошлом. Впереди было возвращение к жёлтому небу и огненно-синему сердцу. Огромная энергия «дороги Вокруг» плавно текла сквозь него; хотя она была выше стёкол многоэтажных домов, она легко помещалась в нём, как в старой корзине.
ОН строил жизнь на запотевших окнах, исключая полупрозрачность. Автобусы сильно трясло, но пальцы его легко выводили линии и силуэты тех, к кому он стремился. Потом они плавились, и стекло превращалось в песок.
[…]
Теперь я могу представить всё более отчётливо.
Дороги обычно зажаты домами и протоптаны машинами. Они слишком узки, чтобы быть правдой, и здесь возникает необходимость. Она не осознаётся, но своим присутствием она становится известной.
Там дороги расширяются настолько, что перестают быть дорогами. Именно в этом моменте исчезновения и в то же время обнажения и кроется то, за чем ОН приходит. Движение не исчезает в момент такой ОСТАНОВКИ; теряя обусловленность, оно становится повсюду. Оно внутри него и одновременно ВНЕ. […] Огромные дома, висящие в воздухе, развёртывают ещё более огромное небо.
[…]
Чёрные проволочные линии не способны удерживать себя, как жёлтые капли, и потому они растут из каждой точки. Среди них пребывает странная на вид демократия – каждая линия одинаково важна и не важна, но обусловленная своим существованием. ОН почувствовал, что его опутали одинаково-разные линии, ОН стал перед проблемой выбора, не имеющей никакого смысла - ведь все линии абсолютно одинаковы. Точки, за которые цеплялся его взгляд – здесь может быть тайна. У меня пока нет ясности о них, как нет ответа на вопрос, где же начинается многообразие и существует ли оно вообще.
Линии гигантского ежа, с которым ОН встретился, лишь часть его тела…
[23]
«Чувство спины» оттягивало его, закручивало, словно канат, но ОН шагал только вперёд, никому не сдаваясь – «Уезжай!». Никто не должен был узнать о нём, никто не должен был смотреть на него в эту минуту, потому что до самых отдающихся внизу рёбер он был переполнен СОБОЙ. Это была странная захватывающая лёгкость, которая щекотала живот изнутри и в то же время тянула по сторонам длинной-длинной лодкой. ОН прятал свою уязвимость от прочего мира, ОН видел перед собой шероховатую скорлупу яйца. Скорлупа покрывала его; ОН знал на ней каждый серенький бугорок и самые мелкие поры, они казались тогда удивительно близкими и знакомыми. Маленькие серые тени в неброской белизне… чувство того, что всё может быть по-другому, но при этом оставаясь рядом.
Рядом. Это слово остановило его. Он очень резко затрясся внутри себя. Нет, нет, нет, только не сейчас!.. Это не Она, это не Встреча, это не может быть со мной, это не может покинуть меня, это не может переломить мои коленные чашечки. Это не может ни для кого повториться. Я призвал эту Встречу тогда, она открылась мне. Я окунулся в молчание. Хотя рассыпались разговоры о разном, но я СКОЛЬЗИЛ по ним. Впервые я почувствовал, что в молчании единой субстанции МЫ было сказано всё. Всё, а не что-то.
Но это не должно повторяться. Я умный Орфей и никогда больше не захочу Встречи, потому что буду хотеть повторов. Я разобью себя острыми плоскостями повторов.
[24] Вне направления
Тягучий, плотно-серый бульон заполняет колебания пространства для дыхания.
Звуки уносят его; ОН чувствует их спиной. Низкочастотные вибрации тянут далеко назад; ОН будто бы размазывает себя, следуя за ними.
Серый бульон не двигается, он напоминает о себе отдельными колебаниями прозрачности. ОН стоит в чёрном луче – уплотнённом пространстве. Свет и цвет, содержащий в себе всё, несоединимо тянется вверх, и ОН растёт за ним. Ему легче думать, что ОН куда-то с кем-то растёт.
[…]
Его взгляд был в комнате Жующих травинок.
- Как эти белые-белые паутинки поднимаются из квадратного потолка, не задевая ни одного растения?
- Странно. Гусеницы должны есть.
- Маленькие трупики гусениц замерзают среди паутинок. Я вытирала воздух_ только нога не достанет_ солнечного умения_ лампочек над океаном.
- Знаешь, какие мои малыши_ любят сердца-апельсины? Ты, незнакомая даже с собой,_ не понимаешь сердец телефонных. Я на плакате с тобою смотрю, даже мечтаний твоих не касаясь…
Вне двухголовых бабочек ОН сиял в ярко-жёлтой расходящейся верёвке. Она переплетала себя, и он слышал её шёпот. Линии его пальцев выходили в дальний клубок. Ему хотелось плакать от счастья и даже размыться вслед за звуком автобуса, ведь в первый раз он сумел обойтись без слов. Они сыпались из его рта и прыгали прочь, будто горошек, но ПОВЕРХ он плыл в молчании. Он летел или, лучше сказать, мир летел под ним, а он оставил свой взгляд, забросив его в почтовый ящик без имени. Это никогда не повторится, потому что всегда будет с ним. Мир открылся для него в ту минуту, для НАС…
[…]
Серая безглазая грампластинка касалась его шеи. Она отнимала прикосновение.
Ему не за что было держаться, и тогда он с силой сжал аорту. Кровь разорвала сердце, но не упала на пол – застыла в воздухе бело-ртутными шариками. ОН зажевал комнатные листья и пластинка зашипела под действием кислоты.
«Нельзя было плакать под сожалением. Что было страшного в этой пластинке, остановившей моё зеркало? Серый металл не отразил меня. Я не остался ни с чем. Он не смог меня покинуть.
Я перемешал себя, не погружаясь в битую костяную муку. Я не смог захлебнуться и не смогу умереть, потому что уже был там. Некуда двигаться»…
Но конечно, киноаппарат заработал снова, и жил его взгляд долго и счастливо до конца его солнечных дней!
[25] Сон океана верблюдов
Всё, что казалось, перестало быть важным. ОН держался за каждый выступ, пересекался в совести скорлупок яиц, не поддерживающих друг друга, и всегда ловил то, в чём размокало его сердце. Солнце впитывало в себя влагу как губка и проливалось жёлтым дождём по синему небу непонимающих миллионных попыток БЫТЬ НЕ ТАКИМИ. В совести и секретах отрицания ОН выдёргивал свою боль, а когда чашка заканчивалась, покидал окна прочь.
На окнах, впереди окон, были струны. ОН не заметил их тогда, но сейчас они открыты ему совершенно отчётливо. Они плывут в окружающем воздухе, они поют свою песню перед окном. ОН разжигает огонь на площадке, слушая песни сверкающих струн, которые прочерчивали первые гусеницы, когда уходили из своих яиц.
ОН вдруг понял, что лучше всего умеет уходить. Его путь много раз пересекался **** и каждая Встреча подобна мерцающей звёздочке в тёмном отсутствии неба. Они всегда приходили к нему, но ОН всё равно уходил, как бы они не длились. Он всегда уходил, оставляя в себе воспоминания о счастье.
Чашка покрывалась красной прозрачной тканью. Ритуал Ползания мух подходил к концу. Силуэты гостей высыхали где-то на улице, давая приют симпатичному ёжику. Его перья измазаны гнилыми яблоками, и приют – лишняя возможность подняться. Белая-красная птица играет на клавикорде, заказывая всё новые и новые пачки, но ёжик знает – когда-нибудь она обернётся к нему. Безглазые линии экранов закроют собой их тела, и маленькая, но твёрдая попытка быть ближе заставит ёжика взять растущий автомат и прорубить дверь в корнях опадающего дерева. Рука возьмётся за оболочку неба, и загорятся глаза ненадёжных. Ёжик выхватит лопату, чтобы защититься от бликов, но палка лопаты сломается и упадёт в большую квадратную трещину. Он не сможет удержать свой лоскутный хвост и трещина сомкнётся. Он не сдвинется с облака-места и, когда будет ехать в вагоне, голова его примёрзнет к рукам. Его Солнце и взгляды встретятся в неисчезнувшей тьме.
ОН копает глубокую яму, потому что в ней скрыты цветы…
Лопата не поддаётся – дверь сарая не отпирается. ОН жутко вспотел, утирая бумаги…
В сумерках линий слёз
ОН никому не открыт.
ОН никому не известен
в жутких окатышах ног
трогающих мгновения
верного конского взгляда,
взгляда с тарелки ВНИЗ.
ОН не способен понять
всё для того и летает
не показать кусты
где выпадают гнёзда
машущих крылья птенцов.
Ветер шумит в скорлупках…
ОН не способен ждать
время немых не тронут
солнечное окно
временного отражения
чей-то смешных основ
звёздной тени_ в подарок.
Помни своих подруг…
ОН не способен поверить
в пище «своих» ума
свежих ответов ветра
и замолчало всё –
солнечная иголка
пере-ломила музыку
перьев на чёрных пластинках
вне отражения глаз
в озере наших встреч
тела седых барханов
знойных на волоске –
сон океана верблюдов.
Их убеждённость СНА
каменем неосязаема.
Я открыл для себя СОН ОКЕАНА ВЕРБЛЮДОВ. Это именно то, что делает мой поток живым, стирающим грань невозможного, это «верность/веерность пути».
Я нашёл ИМЯ тому, что делаю. ^!^
[26] Пингвины/Ждать
Странная тревога звенела в сером потёртом платье наступающих уносящих звуков сердце билось негромко. ОН хотел спать.
То глупое и безвольное ощущение не было первым. Шорох одревесневающих ног соединял его с белыми звуками мира; проколотых шин было уже недостаточно – приходилось выносить коробки штабелями по одному.
Ноги его дрожали при каждом трамвае. Проход трамвая был лёгким и вроде как незначительным делом, но звуки дрожания улетали в лужи вместе с ним, и они проваливались вместе в тёмное короткое дно. Дно лёгкое и каменистое – к нему прикованы остатки прошлогодней травы. Солнечный заяц соединяется с травою, а потом летит на землю, пронзённый красной стрелой. Каждый, кто хотел быть зайцем, ужасался при виде своего зеркала – ведь уши и зубы не могли туда войти! Он перебирал на пальцах ветки, но серые/чёрные рамки продолжали своё выплывание. Зеркала сидели в её границах – в этом ОН не сомневался.
Почему-то ему вспомнился «Мир» - единственная в городе станция с попкорном. ОН захотел пойти туда, взять 3 пачки вместо билетов, а потом шагнуть в зоопарк, где с ним будут ждать изумительные пингвины. Как они прекрасны, представлял ОН, когда летят в воде вне времени и направления. Как идеален их полёт одними поворотами головы! Как прекрасны их ноги, не оставляющие следов! ОН ел бронебойных лобстеров, чтобы хоть как-то приблизиться к ним. Может, они, держа усы, видели их – сочетающих в себе пингвинов. Каждый мог поделить\\=\ся с ними чем-то сокровенным и теперь они навсегда без цвета, но держат в себе имя открытой тайны.
В чёрно-белом сверкающем океане пингвины летят над головами огненно-бедных лобстеров с накрученными усами и все, кто стремятся доплыть, путаются в прикосновениях непредающих очков наблюдателей.
«Я хочу быть похожим
хочу быть похожим» -
напевал ОН в гулком туалетном зеркале. Мыло с бумагой сидели на местах, таракан лениво щекотал их небо усами, и все они совершали за него самую грязную и бессмысленную работу – произведение себе подобного. Ключ утонул в чае, и ОН со слезами пытается достать ключ. Ничто не выходит, веки его тяжелеют, сердце не способно ждать, и тогда кости его отпускают все свои минералы. Тело становится слишком тяжёлым, а рука превращается в кнут. ОН способен хлестать себя…
Кроме лодки, на берегу никого не было. ОН легонько толкнул её большим пальцем, желая что-то проверить, но она оставалась ждать. На ней была новая жёлтая краска, уже облупившаяся; она растворилась в окрестной воде. «Каждая вода напоминала об её присутствии».
ОН скользнул в лодку, как неуклюжая выдра. Бабочки были привязаны к самому верху мачты – так они заменяли подзорную трубу. Нелегко было плавать без вёсел, но что ещё оставалось делать при Солнце! Оно так часто в эфире, что нельзя откладывать. «Пусть молоко высохнет, но я найду равнодушный берег! Я буду чувствовать каждое приближение, я стану рассыпчатым от каждого неправильного ответа, но клетка тела станет моей! Я смогу раскрутиться в море и подарить её тебе. Мы соединимся на поле камней и нас не покроют колёса самых важных и серых машин. Мы будем единым ПОКРОВОМ и сохраним последнюю капельку воздуха, и цвет океана Земли никогда не останется равномерным…»
[27] Плитки/Парное молоко
Я бросаюсь на стекло
И мне не страшно
Только ничего
Не будет ясно
Это навсегда
Мне так и надо
Я останусь только одна
никого никогда. /Линда – Я не буду стрелять/
Дорога засеяна плитками.
Земля построена из плиток
Плитки подогнаны
точно_фарфоровые.
ОН ступает по ним, и ломаются от его шагов
они не могут сохранять узор
они готовы разбиться, взлететь, они готовы обнажать землю.
Белая лава в синем огне
смоет его «независимость Солнца»
в ритме сбежавших машин нальёт
реки молочные соединения
в шорохе мыслей они замолчат
ветер весенне-ночной / им не хватит.
«Почему я хочу страдать, чувствуя свою расщеплённость. Я совершаю поступки из прошлого, смотря на себя как бы со стороны. Я не делаю ничего в настоящем, я прячусь в зАмкАх из липы, и под моим окном растут розы из серой бумаги. Я не могу покинуть своё прошлое, потому что не вижу ничего, кроме него. Я не совершаю в настоящем, я не совершаю его. Почему всё так?
Я вычерпываю свою жизнь. Это было ясно уже давно. Но я не вычерпал её до конца, и все мои разочарования впустую, ведь я продолжаю жить по-старому, встав на путь перемен. Всё до идиотизма просто. Машины нет.
Мы набирали молоко в подвале. Когда я вошёл, то увидел зарешечёрную дверь, сделанную из ржавой садовой ограды. Она притянула меня на секунду, и я увидел её под липкими взглядами чьих-то людей. Каждый окатыш проволоки становился взмахами моего тела, и когда земля подо мной стала плавиться, я почувствовал, что отрастают короткие толстые крылья. «Пингвин» - подумали люди в недрах той земли, в которой я родился.
Очередь заиграла на струнах. Мягко и без боли мир разъедал меня. Я превращался в прекрасную музыку. Пальцы мои пульсировали, и я сжал в кулак 10 юных сердец тёмно-красного цвета, предназначенных для вымени огненно-синей коровы, покрытой бесконечно молодым мхом.
Люди в очереди распускались подобно блинам, отражающих Солнце. Машина на улицах зажгла свои фары, потеряв себя из виду. Голубой океан исчез. Я ушёл вверх по сколотой лестнице, потому что лучше всего я умел УХОДИТЬ. Они – мои покинутые. Я слышу зов, заставляющий меня уходить от сотен очередей…»
[…]
Сон из плиток ломался. ОН шёл по направлению роста травы. Внезапно ОН понял, что смотрит на себя как будто бы сверху, и в то же время из глубины. Шея его стала непроизвольно вытягиваться, губы покрылись плесневыми лепёшками. Тело сделалось таким же ломким…
Кто-то ударил по ногам. Обычно он падал, но сейчас в сердце земли впились плотные отполированные когти. Брюки не отпускали его; когти росли прямо из них, словно забавное украшение.
ОН продолжал переставлять ноги, делая каждый шаг продуманным и весомым. Понятие «весовой категории», данное ещё в детстве, приобрело новый смысл. Оказывается, можно не верить в жизнь и при этом не терзать страницы резаной книги; даже на дне отчаяния можно делать прекрасные и бескорыстные поступки, даже более бескорыстные, чем в минуты самой великой радости. ОН до краёв перегружен собой, и любая благодарность, а, точнее, любой встречный взгляд, могли привести его к полному рассечению моста…
Длинная белая шея заслоняла собой облака…
[28] Посредине
- Можно не быть разным. Я разрешаю тебе быть одинаковым здесь и сейчас, не напоминая ничего взамен.
- На что мы похожи…
- Когда души людей цепляются за нас, наши локоны сближаются, но когда сближаемся МЫ, то не становимся ближе. Мы закручиваемся по направлению роста травы, мы проходим насквозь. Наши стёкла не разбиваются, и смех по волосам озаряет пустые квартиры. Ты берёшь в замочные скважины, я следую за тобой, и в этой корке недвусмысленности окружающие пространства не помнят о нас.
- Знаешь, траву можно расчёсывать. Она близкая, как небо… Я могу дать ответ «не верить».
Я могу дать ответ?
[29] Высветлённость
Дом, в котором живёт ОН, освещается фонарями снаружи. Створки фонарей проворачиваются к окну, но когда их мягкие ломкие шеи держат под собою свет, от скользящих ламп невозможно проснуться.
«Не просыпается…»
Мягкие слепые пальцы, которым принадлежит ОН, стали быстрыми и точными в постоянной тьме. ОН любит свои липкие слепые пальцы, когда они открывают терпкую/жёсткую щетину комнатных растений. Эти растения никогда не каменеют от ветра, и ОН помнит только о них.
ОН танцует, поддерживая листья, пока фонари не украсят его.
Треск уходящей из-под крана воды смешал в себе ледяной дождь. Два молодых человека царапали его окно. Они учили друг друга фехтованию, их шпаги могли вытягиваться, завязываться узлами, образовывать прозрачные розы, но только дыхательные движения проктологов смещались в его ухе невыносимой болью стекла, только они отдавали неотрицательную мысль надежды. Они резали простыни, как режут снег на праздниках. Они прятались в длинных жёлтых зубах, где смыкаются белые нитки… Белые халаты не могли сравнять крылья земли, но они допускали возможность… Для него тело было одним и тем же, как открытка для них; проктологи всё время борются за право открытки своим подопечным. Каждый день они методично снимают щипцами сотни открыток… Люди не могут знать об их поздравлениях, люди прощают им отблеск железных роз, но проклинают их за возможность второй попытки НЕ УХОДИТЬ, не быть осколками просвещённого фонарями мира. Они не получат открыток, они держатся за тонкие поручни своей тысячей рук, заставляя себя поверить в свою полноту и собранность; ОН также был их числом. Фехтовальщики были иначе: их оружие – шпага и клинок – давало им право только на две руки.
На экране машины, в которую садился ОН, было написано одно слово – высветлённость. […] Нитки морской воды выходили из каждой щели; раньше они прятались в каждой поре, но здесь они были видны повсюду. Несуществующий рентген, ОН оставался в панике – утонуть во цвете лет – неужели такое возможно? Она, «верная супруга и добродетельная мать», подарила свою фотокарточку, которая теперь была покрыта трёхсантиметровым слоем этой необычайно живой жидкости. Плесень на сидениях разрасталась с ужасающей скоростью; когда она соединялась с водой, вода отступала и разлетались искры. Плесень боролась за своё пространство – это захватывающее зрелище сохраняло ему жизнь.
ОН встречал когда-то рассвет
глуповатой на смех улыбкой,
а теперь темноглазая рыбка
станет банкой в его рюкзаке,
о который порежутся руки.
ОН в метро притворится вором,
и коснутся его спины
разноцветно-двуцветные палки
яркий/мягкий режущий свет
пассажиров не бьёт – огорошит.
ОН исчезнет, как сотня кругов
в черноватой мечте вдохновения,
о которой забыл его страх
обнаруженным БЫТЬ в чьих-то окнах.
[30]
Это платье похоже на сон
для которого я оторвала
Новый Год в железной пыли
и улыбку вне притяжения
отразившихся вместо шаров
отдающих на ветках друг друга.
Иногда я жду мысли. В стопке компакт-дисков они возвращаются ко мне оживающими воспоминаниями. И тогда я хочу их потрогать, подержать очищенный карандаш хотя бы ненадолго в точилке. Я хочу НЕ БЫТЬ с ними.
Мы боимся холода. Каждый из нас перед большим экраном. Металлические детали с обратной стороны умножают свет окон, но мы продолжаем смотреть на экран, который прячет от нас жёсткие приклеенные чешуйки. В холоде чешуйки не двигаются, и потому поддаются взгляду, незаметно привязывая нас...
В минуты отражения окон свет холода становится невыносимым. Другие люди начинают стучать по клавиатуре и вытягивают наружу ответ, но я знаю истину – спасение от холода в масле. Я вижу каркас моей левой руки, когда она делает небольшую ямку, а потом размазывает остатки по каждому волокну стола. Я улыбаюсь ей.
Дерево, из которого сделали стол, продолжает расти и впитывать; масло творит звуки и в то же время удерживает их в себе. В этом весь секрет, и если всё исполнено правильно, масло переходит в липкую лохматую субстанцию…
От мелких пузырьков масла экран начинает дрожать. Рука ускоряется, её контуры едва различимы, но она не может успеть. Экран разрастается; со стороны он похож на гигантский скользящий куб. Я останавливаюсь плоским и жёлтым; моё лицо вытягивается и каждый его контур выглядит чётко размеченной линией. В какой-то момент я осознаю себя как бледно-жёлтую сыпь, но не успеваю за этой мыслью. Сыпь слипается с воздухом, она больше не различает его, и нет времени искать промежутки, которые были мной.
Я вышел в поисках каркасов машин. Полиэтиленовый пакет – единственное, что способно удержаться – скользит по обработанному тротуару, поминутно сменяя наряды на белых как молоко паутинках. Слёзы, выпадающие с крыш сосулек, усиливают скольжение…
Если бы всё было так просто – подойти, извиниться, сказать пару-тройку банальностей и остаться при этом полупогружённым в свой собственный взгляд; обозначить себя, но так, чтобы никто не увидел той главной на весь свет причины, почему я пришёл и сейчас стою перед тобой. Я мечтаю закрепиться в памяти направленных мониторов. Они тоже боятся, и их обнимают твои глаза. Мониторы молчат; густые слова жуют только в самом узком, подповерхностном слое.
«Железные домики внутри мониторов
наши руки хватают и ждут»…
[31] Мы невидимы
- Мы сегодня идём в гости к Интолине. Она ждала нас ещё вчера в белом платье на пойманных звёздах.
- Я помогаю тебе с самого утра, но ты даже двух своих шагов не способен измерить. Воистину, нет помощи во тьме откровенности.
- Я пытаюсь вспомнить, какая она, но не могу прекратить эту мелкую внутреннюю дрожь от ощущения чего-то нездешнего. У школьной доски был такой же нездешний взгляд… Она стояла ко мне спиной в лучах первых букетов, но цветы не могли отразить её.
- Знаешь, я начинаю ревновать тебя!
- Напрасно. Всё напрасно, дорогая. Твой взгляд не такой уж бессмысленный, просто на твоей сковороде холодное облако.
- Да как ты смеешь, мерзавец! Я зубами эту сковороду вынашивала, я на самом медленном огне тебе завтрак готовила, так, что даже кошки слетались окрестные, а они только на лапы падали! Кошки научились летать – вот что я для тебя делаю!
- Завтрак всегда обжигает. Облако на сковороде всегда оставалось холодным. Когда я уходил выстригать траву перед домом, ты добавляла огонь, и облако конденсировалось. Ты не могла включить вытяжку, ведь иначе ты обнаружила бы себя, как происходит во все праздники. Ты в ужасе смотрела, как из угла поднимается тёмное живое облако, как оно звОнит и просит не приезжать сегодня. Ты отвечала ему словами на родном языке, ты звучала в своих словах, но облако поглощало их. Ты разлучилась говорить.
- Ты не мог этого видеть.
- Верно. Я прятался вместе с Интолиной за монитором; нас покрывала плотная корочка масла… Вот почему я стою здесь, а ты уходишь из комнаты.
- Неужели ты действительно такой! [плачет] Неужели ты способен меня бросить! Я переплелась с кирпичной кладкой, я сохранила в ней свои питательные вещества. Я изменюсь, я смогу быть иначе, я зажму себя в голосе электричества…
- Ну, будет. Не волнуйся. [похлопывает её по плечу] Сейчас начнётся твой любимый сериал, и все мысли покажутся дурным сном. Я буду нашей стеной и сохраню тебя; ты сможешь жить и расти над пропастью, где облака только в самых глубоких пещерах.
- Обещай нам, что не пойдёшь туда. Что мы невидимы.
- Если ты поможешь мне спрятать взгляд. Я стена над пропастью, а ты дерево с неопадающими листьями. Сердца в ладонях видят насквозь, и меня пронзает ветер. Сделай так, чтобы не было видно дыр. Закрой меня.
- Приятно, что мы выбрали свободу от чувств. Не зря в математике отношение обозначено дробью. [аплодисменты]
[32] Мягкость
Зонты – мягкие. Они покрыты мхом, способным остановить самый быстрый ветер. Ветер запутывается в зонтах и играет на них, как на струнах.
ОН не может удержать свою струну, даже не пытается, ОН даёт запутать себя в лучах ветра. Струна вырывается; она должна слиться со всеми звуками, она должна вернуться к музыке ветра. ОН не теряет её из виду, ОН спасается в беге за ней. ОН не сдерживает своё тело; каждый его взгляд проходит сквозь музыку.
Листья похожи на зелёные тряпки – они настолько мягкие, что отбирают себе его взгляд, поглощают в себя его эхо. Теперь ОН счастлив.
Когда листья опадают, ветки разрезают небо. ОН смотрит на силуэты веток без листьев, ОН погружается в них. ОН должен найти потерянное в силуэтах пролитых жизней, и он окружает себя чужими нездешними воспоминаниями, которые с первого взгляда знакомы ему. Они рядом с ним, они не покидают его, но ОН покинет их, когда ветер станет слишком холодным и очередная струна поднимется к небу.
Ветер поднимет брошенные в чай лимоны, и они закроют солнце раньше облаков. Облака не смогут подойти к небу, и дождь никогда не начнётся. ОН замкнёт себя, и начала никогда не будет.
[33] Обращение
- Я пришла.
- Мне показалось, я что-то вспомнил.
- Зря ты не пошёл. Интолина всё украсила просто замечательно. Представляешь, она купила специальный ёлочный клей! И не утомляет, и не устаёт никогда!
- Скажи, ты не видела компакт-диски?
- Но у нас их никогда не было. Ты учился петь сам, чтобы сформировать уникальный и неповторимый стиль. Ты всегда говорил, что песни на дисках не самостоятельны, что они всегда прерываются, неужели не помнишь? Однажды ты даже сказал в своём обращении: «Каждая песня как пуля – бьёт и исчезает, теряя себя». Ты попросил на открытии ворот, чтобы не включали песни с альбомов. Тебя очень пугали лица людей, не успевших схватить даже чувство потери, оставшихся наедине с самими собой. Когда официанты внесли чай всем собравшимся, ты засмеялся, как никогда раньше, потому что никто из живущих не мог слышать песню, не мог разобрать на части её слова. Жестяные, чудесные ложечки, которые стучат по стенкам, отодвигают время финала, и финал не властен над ними. Люди, перемешивающие свой чай, длятся, ведь ЖИЗНЬ всегда продолжается. А когда играет песня, люди уходят и появляются герои истории, у которой всегда есть логическое завершение и окончательный взгляд.
- Всё слишком просто. Я не помню этого.
- Странно. Ты был так доволен в тот вечер. Герои историй подарили тебе своё безусловное счастье. Это счастье финала, которому они не принадлежат, но который не существует без них. Каждый герой, даже самый отсутствующий и непонятый, знает о пределах своего неизвестного, а ты, обративший себя наблюдатель, знаешь об его счастье, но остаёшься несоединимым.
- Глупо… Мне нужны компакт-диски. Я вспомнил их прозрачную стопку, зажатую между книг. В своём воспоминании я вижу лишь малую её часть, но она соединяется с небом, и я иду по ней в первый раз. Тогда я забываю тебя, но сразу же просыпаюсь и вижу твоё лицо. Ужасно, но я не помню, кто ты, пока ты не напомнишь мне.
- Наверное, я похожа на тебя в эту минуту. Я твой мир, и когда ты смотришь, то вспоминаешь именно своё лицо, как при взгляде в зеркало. Не пугайся, в зеркале не утонет твой взгляд. Спи, мой милый…
Планета голубая,
мы тихо исчезаем.
Пока! Пока!..
Вокруг темно и можно разбиться
не хочется, но это случится.
Алло! Алло!
Алло! Алло!
Звёзды в звездолётах
что же вы, пилоты?
Расставанье – маленькая «с».
Провода искрятся
нам не удержаться
расставанье – маленькая «с»… /Звери/
[34] Озеро макарон
ОН идёт по холодной земле, впитавшей в себя всю воду.
Впереди ОН видит дома в плоском свете уличных фонарей.
ОН смотрит вперёд, когда спотыкается, он тонет в сотнях книжных миниатюр – вырванных маленьких странниц без запаха.
ОН встречается с ними, пока кровоточащий нос не напомнит ему жизнь и не заставит сделать первый шумный вздох.
Теперь ОН готов подняться и войти на ступеньках в свой дом.
Дверь открылась легко. ОН тут же разглядел все детали – этому он учился давно и даже хотел обучить других. На столе лежит свёрнутая газета, рядом с ней тонкая резная ваза с цветными фруктами. Есть ещё шторы, мимо которых его взгляд скользит к тёмному мусорному ведру, почему-то похожему на продавленное кресло в помаде.
ОН вернулся к шторе, пытаясь закружиться в деталях, но приторный ветерок тут же развеял пыль, и картина прихожей исчезла.
ОН поставил обувь на ящик и вошёл в комнату. Она стояла у самого дальнего угла, где уже не хватало уличного света; она ела свежевыпавшие макароны прямо с пола. Она зачерпнула руками целое озеро макарон и поднесла ему, говоря с улыбкой какие-то глупости о прекрасном дне и невозможности увидеть друг друга, она переливалась в этом озере через край всеми цветами радуги. Ей становилось тесно и трудно дышать; она говорила, как ей тяжело жить рядом. Стирательные резинки на ногтях её слов отпечатывали все детские рисунки на стенах их дома, оставшиеся ещё от прошлых хозяев. ОН хотел остановить её, связав ей руки, но она продолжала убеждать себя в том, что ей необходимо куда-то вернуться и воскресить в памяти то, что было потеряно давным-давно, а потом растворилось в мелкой нескончаемой памяти.
Пока ОН из последних сил удерживал её взгляд, не давая пробудиться своему голосу, макароны превращались в реку, в бурный пепельный ветер. Макароны связывали им руки и тянули их прямо к ветру, но ветер был мёртв – он не соединял движения. Они снова и снова оставались в стенах комнаты, продолжая смотреть в глаза. Они закрывались от чувства щемящей неполноты и невозможности, но в то же время предопределённости всего происходящего вокруг. Они видели, как белый ветер стирает небо, и за небом лишь равномерная жёлтая плоскость, как лист фанеры из чердака. Они видели, как пролетают пустые пространства, не способные оплодотворить себя; они бросали им мелкие красные песчинки с каплями своей кожи. Они держались за железные щиты древнеримских воинов, отполированные до блеска супружеской верностью; они дарили им радость ёлочных/осколочных взглядов, пронзающих врага насквозь, они прощали им каждую секунду счастья от непривязанности и непричастности к миру. Они смягчали боль всем, кто натягивал струны и слышал последний и самый новый звук, самый неожиданный и беспримерный звук в цепочке беспричинно украденных воспоминаний.
Наконец луг остановил их. ОН оглянулся, не увидев её.
[35] Зеркало Персефоны
- Ты учишь меня?
- Сегодня ты странный. Если ты можешь избегать взволнованного одноклассника с сигаретами в нагрудном кармане, то полдела сделано…
- Сломано…
- Много лет сигареты напоминали ему. Он потолстел, расплылся, а потом облил себя жиром вместо огня и засох на месте. Столько лет впустую, представляешь! Сигареты хранились в его доме, иногда прятались подальше от матери, но в тот момент… жира было слишком много для прошлогоднего пепла.
- Почему ты учишь меня каждым своим словом? Почему я не помню тебя, как раньше?
- Ты тоже высыхаешь, но, как ни странно, похож на отражение, которое хочет пить. Пусть твои слёзы не умирают, но они также и не смешиваются с остальной водой. Они горят по стальной поверхности, и даже сталь становится их частью, когда дарит им свою воду.
- Я не умею дарить подарки. Даже Новый Год слишком спокоен для меня.
- Не оставляй своих врагов! Ты способен быть верным, и потому подарки всегда с тобой, мой друг! Подарки очень похожи на твоего одноклассника, который так и не начал жить.
- Я часто видел его с большой пятнистой мулаткой. Она всегда принимала решения, а потом мы уходили втроём прочь, и ничто в мире не могло быть нашей тайной… Как мягкие игрушки без ваты – нельзя сломать. Наверное, мы всегда стояли под напором жизни, будто смешные рисунки, которые кто-то подрисовал к старым обрезанным фотографиям. Я никого не способен любить. Вот чему стоит учиться.
- Это очень красиво…
- Сила Карсила… Они дарили нам букет цветов. Мы шли на озеро, где получали все необходимые нам призы и инструкции. На озере было очень холодно и приходилось закутываться, но когда мы брали ружьё, мир останавливался вопреки нам. Я не помню такого дня, когда не мог повернуться к нему. Стрельбище на озере – удивительный факт: стоит только расслабиться, как тут же прИпадаешь из поля зрения. Как странно – слышать выстрелы, неотличимые от земли. Пули проносились, как ржавые незримые линейки, подводящие нас к чему-то… Мы не похожи на те корявые неуверенные буквы, мы стали сильнее, увереннее в себе, наши приметы земли стали легки и незримы. На нас можно положиться в нашей доброй прекрасной любви. Персефона смогла улыбнуться перед зеркалом.
- Шутка для интеллектуалов, так ведь? Я хотела бы добавить, что твоя критика не является законной, и что бы ты не говорил у школьной доски тогда, тебе не сломить дух защитников нашей родины. Они не такие как ты, они любят без жалости и ответов. Ты уверен, что я учу тебя, но что прячется в твоей голове… Нерождённые жить очень быстро удерживаются, их очень трудно или почти невозможно отследить. Вот почему ты приходишь ко мне – ты мечтаешь следить за собой.
- Что ты прячешь в поисках моих рук? Я ничего не скрываю, ведь я очень похож на тебя. Ты тоже прячешься, хотя в этом нет смысла, ты втайне боишься меня как своё отражение. В то же время мы очень разные, но при этом связь крепка безвозвратно, и потому каждая попытка встречи – это отдаление в наших глазах. Мы встречались на летних каникулах, ты помнишь?
- В ресторане ты был один…
[…]
- Я ни в чём не виноват. Когда я вошёл в открытую дверь нашего дома, ты стояла в темноте у окна. Твои ноги прикрывала крупная ткань, именно ткань отличала тебя. Ты стояла почти у самого ковра, а в центре комнаты сидел человек. Я спросил, кто это, а ты ответила: «Доктор». Мне стало очень страшно, я стал кричать на тебя, но доктор всё равно смеялся. Я не мог быть между вами и собрался уйти, но тут он подошёл ко мне и развернул ладонь. К ней была приклеена прозрачная склянка с копошащейся красной медузой – это сравнение подходит лучше всего. Ты тоже подошла ко мне, как мне казалось, и достала жёлтую книгу. Доктор что-то сказал… Я не помню.
- Как же ты умеешь упускать! Я была с тобой наедине, но ты так и не смог понять. Медуза была тобой, твоими глазами. Я отражалась в них, но ты принял моё отражение за банку. Круглую водную банку с тремя отверстиями для дыхания.
- И ничего не было? Мы не падали на седом лугу?
- Конечно, дурачок. Трава созревает слишком быстро.
- Но я точно уверен, что мы были вместе в тот день. Нас МОГЛО соединять что-то.
- Общее чувство времени?
- Может быть. По крайней мере, это всё упрощало.
- …Наша встреча произойдёт, когда мы вспомним прошлое друг друга, а пока… мы боимся жить с разной скоростью. Когда ты входил ко мне, ты хотел открыть «нашу неизвестную жизнь». Только я уже знала всё о тебе и о нас. Для НАС не существует времени, потому что я объединяю его в точке, а ты замыкаешь его в бесконечной кружевной ленте. Вот почему в попытке тайны ты всегда повёрнут к прошлому, вот почему ты должен уходить. Я не перестану видеть, как ты приближаешься и уходишь со странным чувством уверенности, что исчезаю я. В действительности ты никогда не видел меня, и медуза с доктором – это средство для разговора. Их не существует, как не существует нас.
- Прости меня.
- Всё хорошо. Жизнь всегда продолжится. Богатство одинаково уходящих линий и круглые точки, хранящие себя – таково наше общее воспоминание жизни, не чужое, не постороннее, и в то же время не принадлежащее нам.
- Не принадлежащие…
[36] Ячейки
На столе стоят банки с горошком.
На столе стоят круглые банки с горошком.
Их взгляды не принимают погружения
в белом столе, прикрывающем со всех сторон не быть невозможными замкнутости пересечённых железных зубцов, и именно так мир начинает жить заново. Пускай липкая мягкая жидкость, в которой тонут горошины, понесёт за собой белые крылья порошкообразных невыразимых птиц, и закроются руками пробегающие школьники. Они похожи, школьники и горошины, они висят на концентрированном дереве в месте, где играет собачий лай. Они цепляются за него и летят через бесчисленные мелькающие полоски, где их побеждают самые страшные чудища, так не похожие на людей, имеющих атрибуты.
Конечно, жизнь своё возьмёт, и мы играем по-прежнему в «твоё и моё». Но почему же тогда я чувствую себя среди этих полосок, когда смотрю…? Школьники пробегают мимо, я не из их числа, я не принадлежу их постоянному разбегу. Их назначение – отказывать, не быть первыми, отсидеться под партами и нянчить детей в помаде. Ты удивлена? Напрасно. Там есть дети. В школе живут дети, получившие свои поцелуи ещё до рождения, выходящие из яркой темноты с бледными телами, испачканными помадой…
Почему в моём сердце столько тоски? Почему я пытаюсь вспомнить то, что не принадлежит мне? Они другие, они настолько другие, что зацепиться за них… зафиксироваться в их памяти даже железными когтями без спиц… безответственно. Ответов нет, потому что они не задают вопросов, и на что я способен в своей непонятной нездешней тоске? На что я похож?
Им дано… они отступают при первой попытке, и чудища продолжают их. Оставшись, они продолжат полёт, и сотворят самую большую иллюзию «данного» мира. Они побеждены, они покрыты, но их самое страшное оружие ещё впереди. Они стреляют из-за горизонта, и ядра летят вместо них. Белые/красные ядра зарастают в полёте зелёным мхом, размягчаются в железном лесу смятыми слезами тех, кто никогда не достигнет цели. В скрытном небесном лесу подстилка нужна для подушек…
Мягким бессолнечным утром ОН пробивается сквозь сугробы – там спрятаны дорожки прошлогодних шагов. Только под ними нет этих вечно горящих бычков, которые бросали в небо мальчишки из соседнего дома. ОН не умел смеяться как они, и его ноги теперь похожи на многослойную новогоднюю бумагу, в которую чей-то неопытной рукой завёрнут самый простой подарок, живущий одну ночь. ОН станет вещью, когда его достанут – эта мысль опустошает. ОН борется именно с опустошающей силой подарка, столь привязанному к этому разделённому времени; ОН думает закрепиться в её памяти, когда входит к ней.
Речной переезд ОН преодолел на трамвае. Преодолел легко, без привычного страха обнаружить своё присутствие. «Об-на-ру-жить-ся», как учила его читать мама. Трамваи всегда приближаются…
Трамваи всегда приближаются с невидящим заполняющим грохотом, который, давая знать о себе, закрепляет местность вокруг подобно лучу радара. В квартирах все исчезали, но грохот присутствия успевал покрыть их. Забавное выражение «ячейка общества» всё время отражалось в его голове, где ОН вынашивал, размножал, и даже местами насиловал одну незнакомую мысль – быть недоступным. Единственная рука кондуктора передавала ему билет, когда они поворачивались…
[37] Школьники
Едва листья закроют солнце и первые лучи откроются над головой золотой жёлтой статуи, они побегут в порыве ветра.
Когда перепачканные стрелки часов отбросят пыль и свяжутся узлом, они принесут в мир звук.
Они соберут каждый свой взгляд, отброшенный кем-то вокруг, и спрячут его за спиной.
Если первая трава заплачет, они прольются за ней дождём смеющихся зонтиков.
Если им станет холодно, руки замёрзших отогреют их губы.
Но рано или поздно они узнают, что ПОХОЖИ, и тогда школьники уйдут.
[…]
ОН стоит в коридоре, освещённом перед своим классом. Окно освещается зелёным светом, который задевает бледное совестливое лицо, покрытое морщинами и редкими бородавками. Бородавочное лицо кажется смешанным; оно плавится в стакане молока – в облаке пыли, отпущенном в коридор.
Она передаёт ему записку сквозь сотни перепутанных, исписанных рук. ОН всегда получает мыло и слышит, как смеются блестящие позвонки из рук ярко-голубого оттенка. Этот цвет настолько яркий, что он не выдерживает и бежит на чистую улицу – ему становится плохо.
Мрачный учитель истории отводит их к усыпальнице. Со всех сторон она покрыта камнями и есть лишь один крошечный проход в правом верхнем углу.
Серый хулиган бросает бычок, и он летит далеко вниз. Школьники спускаются. Им очень холодно, их волоски покрываются инеем, они начинают мерцать_ сперва тихо и неуверенно, а потом через всё пространство большого свода прозрачными золотистыми чешуйками в памяти сохранённого света. Удивительно наблюдать, как лирическое пространство глаз превращается в водную сферу, как в самых заурядных эпизодах естественной жизни открывается тайное, но знакомое для всех уважение. Они больше не могут быть здесь и они не могут быть где-то ещё. Они предельно приближены на крупных планах.
- Я такой маленький. Я такой устаревший. Я такой новый мамин компьютер, выращивающий для неё самые свежие яблоки. Я готовая лететь подушка…
Научусь летать с тобой на небо,
там где звёзды до рассвета
говорят телами о любви.
Там его, конечно, встречу,
разревусь и не замечу,
как целует губы-руки не мои…
/МакSим/
[38]
Сон легкоплавкой стали
в два прохода наполняющее дуновение ветра в перерезанном ресницами пламени
слова невольного сбора.
Какой-то странный неоновый пакет светит нас вместо солнца заплатками серыми белыми красными
неотрицательными числами новостей
разрушенных ворот пневматических устричных палок
скрывающих самих себя вне содержания тайны
и без наших нашумевших праздников
чересстрочное измерение дисплея станет смешанным для нас в бурый кочан капусты.
(Незрелость…)
Выходит ладан
щёлкает пол
Господи, если бы ты знала, как она прекрасна, когда ты не видишь!
[…]
Средневзвешенный глухой трамвай уносил её вместе с глубокой воблой – его свадебным от всех подарком. Почему-то именно вобла вызвала у него особый интерес, когда на белой витрине воздух наполняли очки, пряничные соты, хрюшки и будущий год и крошечные узелки ниток с памятными клятвами НЕ БЫТЬ. Они очень долго говорили у этой витрины, отражения окон на берегу уже стали мерцать, покрываться морщинами и дождевыми ходами, но фонари никак не загорались. Он произнёс иностранное слово «плафон», а она невесомо улыбнулась…
Казалось, что в мягкой белой отдельности не будет ничего. Как только можно доверять этим безликим порядочным упаковкам! ОН не умел. Впервые ОН не умел с чем-то быть наедине…
- Скажите, Ваши рыбы действительно столь прекрасны?
- Однозначное «да», молодой человек! Они напоминают мне меня в их возрасте.
ОН вскинул брови.
- Скажите, ведь я не должен их видеть?
- Осенью поезда сердец особенно разрушительны, сэр. Вы рождались осенью, и потому ваши руки проходят воду насквозь, не понимая и не пересекаясь с линейками. Букеты не для вас, молодой человек.
- Что ещё за линейки? [агрессивно]
- Бывают простые. Рекомендованы логарифмические с цветными делениями. Вы им не верьте молодой человек, никогда не верьте, ведь вы и так слишком комфортны и чисты. Возьмите рыбину, не стесняйтесь. ОкуПите её дома в аквариум, а потом преподнесите ей, как можете доверять только самому себе, и тогда вы сможете проследить за её улыбкой. Вы сможете быть вместе всегда, но разве это главное! Я стою именно за улыбку.
- Знаете, часто мне бывает очень страшно. Недавно я ощутил себя героем фильма, идущим по белому снегу. Я был один, мне не было холодно, но когда я нагнулся, то обнаружил, что вместо снега на земле голая соль. Я не верил своим глазам, но догадка моя была несомненна -[шёпотом] – у них не бывает снега. Я расплакался как ребёнок и полетел вниз. Страх сжимал меня своими маленькими частями, и каждой его частью был я, такой же маленький и невинный… Простите. Я заигрался. [с улыбкой]
- Это я испугался за вас тогда… Возьмите рыбу. Она ждёт вас сегодня вечером.
- Милая…
- Я зову её милая, как в рекламе по радио. Прощайте.
Продавец наклонился влево и кое-как сумел увернуться от гигантского портового флюгера. Вода над головой забурлила, и глаза всех «юных» пронзил ясный золотой луч, последний луч в прибежище солнца. Сонные большие водоросли отступили от океана, образовав на суше некое подобие чёрных прямых стволов, перекрывающих время. В зелёном солнце корабль должен был перевернуться очень быстро, ведь совесть членов экипажа не дремлет и может запросто отдалить от цели, развеянной по языкам гладко отполированной мачты.
[39] Reality
Я наблюдаю за тобой, когда ты спишь. Ты не отвечаешь мне, и когда твоя рука проходит в общую сердцевину кастрюли, я не отдаляюсь от тебя. Я по-прежнему голос фиксированного наблюдателя, прикованного к экрану.
В первую рекламу я встаю и иду на природу. Я вхожу по колено в хрупкое ледяное озеро, ноги мои не чувствуют дна, и я лечу свободно, как может летать бабочка на иголке. Она срывает белые простыни, ставшие от ветра прозрачными, но струны из железа не звенят – ветер больше не любит их.
Вздохнув первым ветром, бабочка летит на свет камеры, перед которой ты взбиваешь подушку. Она тоже здесь, но она не видна передо мной, передо мной только ты наедине с тысячей невидимых героев.
Герои прекрасны. Они наделены тобой. Каждый герой твёрд и в то же время податлив, каждый приходит к тебе, зная черты местопребывания. Герои знают, что хотя им никогда не быть на экране, их сможешь увидеть только ты, и только тебе дано замкнуть их повторяющуюся тайну.
Пока герой идёт, он хрупок. Он переступает пространство экрана и больше не видит его. Взгляд героя блуждает, а сам герой слепнет, и нет ничего перед ним и позади него. Герой не знает другого движения, кроме движения, рождающего сон, но он знает, что никогда не спит. Ты не смотришь на него больше, твои глаза вырезаны по контуру, и в сферу его взгляда сводится она. Он не приближается к ней, он больше не отождествляет себя с её утраченным центром.
Для НИХ, ставших ненадолго плотными, приходят новые герои, яркие и интересные. Новые герои яркие, когда рассеивают чрезмерность чёрных лучей и интересные, когда приковывают к себе взгляды тех, кто продолжает наблюдать, как ты будешь вести себя здесь. Во сне.
«Я хозяин ДОМа-2
Меня знает вся страна
Эту песню написала
И себя презентовала» /Солнце./
[40] Солнце
Ровный слой масла отражал неприкрытое небо, и только ветер из форточки не давал ему сделать первый неуверенный шаг в неотпускающую новую жизнь. Пытаясь определить цвет приземного слоя, ОН вынужден был держать себя на коротком поводке. Они смотрели в улыбающихся отражениях, их тонкие костлявые руки были спрятаны за спину, как крылья ночной бабочки или очень крупной осы. ОН чувствовал угрозу, пережёвывающую сено. Сено всегда сохраняло тепло, и сейчас угроза разрасталась. К счастью для него, её спинка упиралась в амёбу, внутри которой выпадал в осадок горячий петушиный гребень – последнее звено в цепочке встреч и расстояний, маленький островок согласия цепей преодолевающих, не слышимых друг для друга людей.
Амёба умирала. Она не была к этому готова, но в то же время никогда в ней не было такой всепоглощающей уверенности ПОНИМАТЬ. Мёртвые амёбы пропадают, и из них рождается вода, которой не дано запутаться в чьих-то молитвах, в чьей-то шерсти, примёрзнув к ней тяжёлыми каплями. Тогда она рассекается на лёгкую и тяжёлую части, и герою является свет в соборности воды и масла.
Только она способна вернуться, и только её рукам дано разбить воду на бутерброды с колбаской. Герой покидает её и ведёт за собой Солнце собранного им мира. Солнце нового мира светит его печалью, и чем ярче его улыбка, тем острее лучи Солнца и слабее крылья одиноких бабочек.
Герой не видит Солнце, и лицо его стоит во мраке. Только сияние чёрного кабеля пробуждает в герое его собственный нерождённый свет и дар обретения имени. Ту, которую видит его, он назовёт на «ты», но не будет он помнить шагов приближения своих. Никогда герою не пересечь/отбросить экран, потому что секрет его силы в равновесии Солнца, не рождающего потомков, но меняющего океан.
[41] Из лифта, разворачиваясь
- Привет! Я видела сон, как ты играешь в шахматы.
- Ты так прекрасна… Ты похожа на музыку в чёрных струнах, переплетённых ветром.
- Тебе было очень страшно в том. Ты весь дрожал, пот катился градом, а лицо твоё было таким загоревшим, что я с трудом узнавала тебя. Ты брал фигуру с доски, но её там уже не было.
- В детстве я прятался в лифте. Это было глупо, вокруг не было никаких опасностей, но я прятался лишь на минуту, когда лифт проезжал между двумя самыми тёплыми этажами. Я мечтал, чтобы меня теряли, как теряют старый башмак с очищающей на мир улыбкой, но у соседского пса был удивительно точный и ясный нюх. Меня всегда обнаруживали, и я был счастлив с ней, пока не наступало время идти в школу; тогда мы расходились по разным углам и становились совершенно чужими друг другу. Я не хотел быть совершенным никогда, понимаешь! Никогда!
- Недавно я нашла две старые фигуры, в точности, как из того сна. Давай сделаем из них счёты и подарим какой-то невесте на свадьбу. У соседки отец женится, если только мне память не изменит…
- Я никогда не видел её… И счёты не умею делать.
- Это очень просто! Берёшь четыре палочки, ломаешь их вдоль углов, и когда японское блюдо готово, отрезаешь основания фигурок и вешаешь их на нитки, лучше капроновые. Вот и всё.
- Там были два слона?
- Что?
- В моём сне были два слона.
- Ну… Я не помню. Сомневаюсь во всём, когда речь о тебе. Я так хороша была в тот вечер, ты же сам сказал.
- Я совершенно отчётливо помню, что держал в руке два слона, а когда часы зазвенели, доска остановилась на месте и белые клетки коней из бумаги лишь слегка заиграли от ветра. В верном уме я заявляю, что никогда ничего не боялся, и пускай твои подруги думают что угодно. Лодка в огне действительно существует, и никому не переубедить меня.
- Никому… Кем будет этот Никто? Сегодня утром я поняла что-то. [пауза] Мы слишком похожи. Мы оба не знаем правду о себе, и потому нам некого винить. Многих спасают именно взаимные обвинения и признания вины. Нам не спасти себя… В наших самоповторениях не находится места отражениям и бессилию духа, нам дано лишь оглядываться, точнее, разворачиваться на перекрёстке. Ты скажешь, что мы всё усложняем сейчас, но я отвечу: иммунитет. Сложность однообразия – иммунитет наших жизней, ведь нас всегда будет много. Мы живём тысячей верных решений. Кто-то возразит, что мир слишком нестабилен, но разве волнение его ядра не распространяется сквозь всех одинаково? В этом наш известный секрет и наша невосполнимость… Ты так похож на пирата, мой милый. Ладно, нас уже ждут.
[42]
ОН не был готов к такому повороту событий. ОН не понимал, зачем его лицо пронзает неведомая улыбка.
Хотелось прижаться к столу как можно плотнее, скрыть эту отвратительную гримасу и сделаться тающим мороженым, упиваясь солёным холодом безразличия. ОН придумал это мороженое, чтобы не отличить от себя, а оно понемногу оживало. ОН не придумывал себе случайную смерть, и в его мороженом не было ни капли крема – не оставалось жирных следов.
Тот холодильник был очень доволен. Он не поверил в дары клеток жизни – под ним текут две реки. Каждая пересечена его тенью, каждой оставлено одно и то же наследство, одна и та же сходная половина. Дары жизни не живут прошлым. Их задача – развернуть…
ОН исполнителен рядом со своей неуверенностью, и поэтому к нему, как к вытоптанному снежному пастбищу, продвигается вода двух зеркал. Это самое странное и в то же время прелестное чувство свободы – быть на разрыве своих отражений…
[43]
- Я часто думаю, как должна пахнуть клубника, когда её собирают резкими интонациями голоса. Героев всегда влечёт в услужении именно резкие тайные просьбы.
- Постарайся сдерживаться, мы же в гостях.
- Тайна сверкать в самой острой и независимой ноте. Тогда клубнику покидает протяжный/прозрачный сок, и он открыт для украшения вкуса. Вкус клубники украшен прекрасным сном, воспоминаниями о детстве, которые проходят через руки героев.
- Я уже давно не видела твоих слёз.
- Герои мертвы в этот час. Солнечная река исполнила предназначение – резкая просьба разделила их окончательно. Герои больше не творят покой в бесконечном поиске.
- Что удерживает их от этого?
- Недавно я вспоминаю… Я недавно вспомнил, как она шепнула мне «Новости». У неё была прекрасная улыбка.
- В звоне металла?
- Именно так.
- Ты уже рассказывал так. Пойдём/сядем куда-нибудь.
Они увидели кожаное кресло. «Для головы» и аккуратные подлокотники соединяли спинку в единое целое, которое казалось им таким маленьким и недостойным даже крупицы покоя.
Новое кресло сильно пахло свежевыделанной кожей. В запахе кресла прятался огромный концентрированный океан. Они чертили друг другу окружности сердца и беззаботно смеялись, а потом их ожидало мороженое, вдыхающее прямо на глазах первую робкую жизнь и тающее в тяжёлой обтекаемой дверце холодильника.
Они сомневались. Они хотели остаться собой, но энергия сомнения разрывала их внеочередное прошлое в тёмно-синей попытке помочь обрести что-то… Нежность, в которой лежал источник и одновременно искра сомнения, была тем самым теплом, расслаивающим их тающее мороженое, и они продолжали пригревать его на груди, пока не впечатались в тёмно-серую тень холодного озера фруктов.
Они повторяли себя в миллионах разнополых копий, огороженных светом двуполого Солнца. Они – интересные, разноплановые люди, всегда желанные в любой компании. С ними каждому человеку весело и приятно думать. С ними не о чем болеть…
Другое время и другая школа
и не смейся так далеко
[44] Хранить
Почему, когда тонешь перед листом фанеры, хочется так открыться чему-то другому, тягучему ватному одеялу, жмущему огонь на твоей шее?..
Школьники не стояли и не двигались, они составляли очередь. Они были прочитаны двумя-тремя острыми штрихами, выдавая чёрный цвет будто бы за себя; кто-то говорил в очереди, как человек на 80% состоит из воды. Все девочки улыбались, их улыбки были столь свежи и первозданны, что соседнее дерево роняло слёзы вместо привычного снега.
«Первичный дом», как назвали школу после пожара, располагался в трёх милях от берега обширной гладководной реки. Соседи удили там рыбу, и когда в столовую «приплывала» очередная итоговая порция, детишки совершенно справедливо составляли живую очередь из полностью укутанных спин.
Глаза детей полны любви. Вместо длинной бетонной тропы они видели вязкий перекидывающийся океан без берегов, впадин, и всевозможных срединных хребтов, океан, совершающий движение в лёгком и простом ритме. Океан тропы, подаренный любовью закрытых глаз…
ОН понял: школьники умели превращаться. Картина очереди закреплялась в бледно-зелёном дыму, и ОН мог её видеть, если не концентрировался на неиспытанном чувстве размывания…
Школьники, замыкающие цепь, одевались ровнее других. Когда они приводили кого-то покрепче, кто ещё «определённо не был готов», по очереди прокатывался тихий шёпот. Шёпот сменялся буйным восторгом, и тогда очередь становилась похожа на раскрашенную ленту бумаги…
Самые первые прятались под корытом. Их символизм страны не касался – они просто любили наблюдать за всеми. Все чувствовали и вели себя неестественно. Самые первые оставались вечно разочарованными поставленным эффектом.
ОН всегда любил дарить имена, и «корыто первых» назвал летающей тарелкой. Деревянная колючая гора, сквозь которую видно небо… Когда начинался дождь, ОН забирался под корыто и ждал, пока его свитер не расправится. Корыто лишь слегка прикасалось к траве, его закрепляла длинная ложка с маслом, но ОН пересекал траектории, оставляя самую лучшую память непрерывное множество, а если успевал вернуться, его ждал весёлый накрытый стол. ОН мечтал был похожим на мебель, вылетающую из окна, но разве можно быть другим без жалости хотя бы однажды? «Предметам мебели всегда наступает смена» - так говорили в его семье.
Чёрные котлы бросили корыто прочь, и его память больше не возвращалась. Осколок дерева пробил два полушария… ОН бился ладонями за свою невозможность, но даже самые прекрасные герои не захотели выйти НА БИС, не захотели двупароногого освобождения. Очередь тем и удивительна, что способна убегать, даже не осмелившись…
ОН долго доказывал, что разломал корыто совершенно случайно, что кокосовый орех не растёт без воды, даже без ледяной воды в аквариуме. ОН в панике доказывал ИМ разрезание пространства сферы, он со слезами строил в прихожей шкаф на зависть кормчим и рулевым, он скрывал в сердцах весеннюю порцию, но Интолина слегка улыбалась, продолжая хранить молчание.
[45] Указующим/Атривин
На Солнце надеты красные вязаные шапочки с длинными мягкими нитями, висящими на острых ножах. Лужи разрезаны и кажется, нас больше нет. Не существует молоко в трещинах, никак не существует…
ОН способен глупо улыбаться в туалете, когда приходит свежая мысль. Водоворот в закрытом пространстве переполняет его атмосферу без окон, ненадёжных мальчиков и пронзительно опустившихся дам, не уверенных до конца в своём бессилии. В стеклянном утре они расползлись из его памяти… Никто не знает, как нужно прощаться. Кем нужно быть, говоря о том, что, в сущности, не уходит и не исчезает, но чего не было никогда? Каждую минуту приходится быть другим, сохраняя святое право оставаться собой, и всё ради тех моментов прощания… Стоит ли? Чувство привязанности, принадлежности, объединённой длительности – так легко назвать всё это иллюзией. Не с чем прощаться, не о чем говорить… Некуда спешить на выходе!
Просыпанный тональный крем легко пролетает сквозь белое сито, пробитое кем-то нарочно в самом глухом, неприметном, немыслимом месте. Муку передержали… На время…
Чудеса просыпанного детьми крема приводили его к конюшне. Сейчас там обитают коровы, не говорящие ни о чём конкретно, и после туалета ОН взбивает им свежее, обитаемое сено. Будто маленькие слоники после работы, они трубят его поведению, и, словно свергнутый каменный король, ОН дарит им частичку древнего ритуала освобождения. Перед рассветом всегда темно.
На хлипкую дверь конюшни для чего-то были приклеены усы. Дети в шутку называли ворота чапаевскими, и если ОН выходил из комнаты раньше обычного, они приветствовали его… Топот и ложь размывали небо, принадлежащее серым воронам, и если рука в прозрачной колбе содержала секрет всего… ОН отказывался в это верить. Для него не существовало даже потенциальной возможности претворить в жизнь их ожидания. Они скрывали себя расчленяющими полосками, и когда ОН поворачивался к ним, обдавали его кипятком и громким стуком копыт, оставляя сердечный локон незавершёнными и непрочищенными пальцами… Для игры в полёты они цепляли усы, думая планировать на их щетине, как на крыльях бабочки после дождя. Бабочки живут под землёй.
На дне самого глубокого ущелья ОН понял, что больше не верит им. Сено для коров росло в самых удалённых местах, нагоняющих страшный сон. Его мускулы оставались верны цели собственных снов… прогонистых веток, за которые так любят цепляться герои мультиков, для которых нет и не могло существовать настоящего преданного момента. Герои держатся за плоское одномерное настоящее и те невидимые шпильки, улавливающие в исчезающем ветре… Героям не кажется, что они мертвы, когда ссорятся и убегают, и за это люди героев их любят. В самые критические моменты, когда ветка вот-вот обломится, герои смотрят вверх, и тогда играет красивая ясная музыка…
Сено для коров ОН укладывал в квадратные сетчатые корзины. Дома было не провернуться, и он прятал сено в самых дальних углах. Пыль с полок собиралась там же, и под шваброй с обратной стороны всегда скапливалось некоторое количество острых камней.
Площадка захвата всегда оборудована флажками – они тоже растут из земли. Флажки сделаны из пластмассы, и ветер не колеблет их/решения. ОН смеялся из-за кустов вместе с детьми, наблюдая пойманные моменты своей «нерешительности проклятой», засыпанные золотой мукой светлые воспоминания о годах пионерского братства и свежей выпечке для-малоимущих. Площадка украшалась самыми незаметными воспоминаниями, и, если буквы подновлялись, ОН сохранял каждый шаг в конверте.
Кусты и утки распадались на части каждую осень. Весной они составлялись вновь, отбрасывая целые рощи каменного угля, отдавая накопленную за год энергию пупырчатой серой почве вулканического происхождения. Цветные фонтанчики дыма дарили почве верную анонимную жизнь, остановив движения рек. Вслед за бабочками из земли выпрыгивали первые большие кузнечики, и если ОН доставлял деревья для топки вовремя, солнечные коровы могли быть рады каждую зиму.
Им не было соловья, и всё, что ОН помнил о первоизменённом дне – школьники встречали рассвет.
[46]
- Всё хорошо. Мы можем переждать дождь.
- …Я оказался кем-то вроде маленького прозрачного ёжика. Оно было рассеяно по всему небу, а когда я пригляделся, то и по земле.
- Солнце.
- Возможно. Хотя обычное Солнце представляет собой канал, сокрытый ярким отталкивающим светом. Я не знаю, не могу знать, могло ли Солнце быть там. Звёздочки бросались на улицы и превращались в людей; было видно, как они идут в чём-то вязком и прозрачном, заметном отдельными колебаниями. Небо было равномерно освещено, я подумал о катке и тут же споткнулся. Вместо взмаха руки я увидел землю, и земля была отражением Солнца. Новым отражением, державшимся за все опоры, как на костылях. Я видел ясное и отчетливое Солнце, и даже стоял на нём! Телеграф по-прежнему принимал стрелы, я шёл мимо зеркальных витрин, пока одна из них не украла моё расстояние. Витрины не существуют внутри и не выходят наружу, они непроницаемы при дневном свете и обширны в сумерках.
- Ты искал дом?
- Я искал комнату со знаком «больше», осветлённое пространство, не ограниченное собой. Люди, которые туда входят… их всегда достаточно. Вот почему витрины втягивают недостаточное пространство внешнего мира. Фигурные кирпичи на дороге составляют идеальную дополнительность, дополнительность Жизни. Но когда они открыли во мне океан… витринам не нужно искать дополнения, они собраны без инициативы границ. Нет деления, и нет восходящего Солнца.
- Ты много раз хотел всё бросить. Точнее, ты утверждал, что у тебя ничего нет и тебе нечего выносить и терять. Ты никогда не чувствовал горести и утраты, потому что тебе нечего было тратить. Горькие мысли ты тоже отметал прочь, как ненужную бумагу. Старую, но никем не изменённую.
- Я не был другим, понимаешь! Я был самым обычным ребёнком, и даже тогда, после выхода из магазина одежды, во мне проснулось странное чувство неловкости, ответственной близости за каждый городской куст. Они уже вымазаны белой краской и теперь росли прямо посреди проезжей части, словно маяки. Я приближался к одному из них, чтобы побыть в тени, и он протянул мне яблоко. Я легко подцепил его. Мысли бежали, как хрупкие тени, и шаги мои были неслышны и всепроникающи. Я пронзал каждый дом своим взглядом, я был злым, и злым навсегда. И мне нельзя было измениться.
- Что заставило быть ежом?
- Каприз, наверное. Я за это и уважаю пресс-конференции – за обтекаемую возможность выбора. Всем счастья.
[47]
Пустая площадь
закрытое серое небо
разделённое голубым на две неравные части.
Кирпичи хранят цвет.
Герой проходит сквозь закатную стену.
ОН стоял слева от синего храма. На площади и перед ним зияло неосвещённое чудовище – закат легко скрылся за мелким холодным облаком. Скамейки под деревьями должны быть другими, их поставили сюда нарочно и в то же время по ошибке, чтобы отводить и приковывать взгляды прежде, чем разреветься/рассыпаться небу. Оно не красиво, в нём нет ничего открытого, и то, что знает о небе ОН, легко покрывает одну страницу. ОН смотрел на «другие скамейки» и искал в своём прошлом.
Для него реальнее всего было настоящее. Его ближние – известные люди, контакты – все как одно бесконечно обозначенное настоящее. У контактов не было связанного прошлого и не могло быть будущего, пересечённого с ним; ОН и сам был одной из тех пустых точек.
То прошлое, которое ОН так хотел вспомнить, всегда оставалось непроницаемым, будто окна в старом актовом зале, закрытые плотной материей - даже из самой маленькой дырочки манит мир. «Окна есть» - так написано мелом…
Кирпичи в руках сменяют стену закатную стеной огненной. Равномерный поглощённый огонь долетает дождём из яблок. Внутри стены и огненного потока… ОН стоит навстречу потоку, и его удерживает от сумасбродства внутренний груз поглощённости. Каждое яблоко пролетает рядом, каждое яблоко ударяется мимо.
«Герой видел меня навстречу. Я заметил его улыбкой, обращённой… просто обращённой. Я помню бледную серую кожу, невесомые отсутствующие движения и расставленные в стороны руки, разбавляющие прозрачность.
Я не помню, что могло выносить меня. Он приближается бесконечно, и мой взгляд уже не фокусируется на нём. Я увидел, как между кирпичами ярко-зелёный стебель промывает дыру, и я успел за него ухватиться. Стебель вырвал меня сквозь ткань…»
[48] Охота на зайцев
Красные облака
вечер ударил в спину
я с тобой так легка
я с тобою красива.
Бешено так в груди
бьётся сердце ТВОЁ…
/Только шёпотом – МакSим «Отпускаю»/
Древнеримские воины проносили цилиндры осторожно, медленно. Если Звучащие ворота едва шелестели, они прятались за плоскими раскатанными холмами. Их ожидали там жёлтые венецианские кусты. Эти кусты никто не мог вырвать с корнем, и они отмечали «киноленты наших расставаний» тонкими грибными криками…
«Солнце и небо как многоточия, слышимые для нас. Их так же много, им так же не хватает времени, им кажется, а мы уверены, что они всегда были другими. Зачем в них столько враждебности, зачем они каждое утро меняют цвета?
В небесах мы страдаем фиксацией…»
Звери тоже прячутся в соседнем лесу. Падают деревья от шагов кудрявого оленя, впитываются сороки сквозь узкие на смерть расщелины, тонет голубой барашек в снежном пруду, так и не потерявший. Голуби прожигают свои имена, как на площади. Два пожилых кролика перемигнулись, напугав древнеримцев до полусмерти. До половины_ они вспомнили зайцев.
Зайцы были страшнее всех. Никто из живущих и мёртвых не носил такой грязный и сальный оттенок. Когда русло камней начинало призывно стучать, отдавая на танец, это служило сигналом, условным знаком, что приближаются зайцы. Они боялись и несли в себе страх, они владели каждой минутой. Кто говорил тогда, что их видел, кто не понимал воздушного аромата цветов?..
Зайцы придавали форму. Они снимали светимость молочных камней, убирали её в сторону на время, и прибивали их лапами. Подушки готовились быстро, а с кроватями приходилось возиться долго – до ближайшего беглого ручья было далеко, и некрасивые тропы всегда косились к обрыву. Зайцы брали колючки и высекали камнями пламя; в отличие от людей сигнальный костёр получался мгновенно. Запоминали и не сомневались, шли, пока не проходили насквозь. Зайцы из бумаги выращивали себе лодки, становились твёрдыми и уплывали, делая надрез в области живота. Проститься – так было надо, прощение наслаждало их, прощение наслаждать впитывало их усилия, как впитывает воду осенняя губка. Не напечатавши на мягких камнях, их проклинали последними неудачами…
Древнеримские воины были охотниками на зайцев. Это сковывало их движения, увеличивая тяжесть и необходимость щитов. Зайцы были ловкими и упругими животными, но воины поклонялись змеям, и самые близкие выбрасывали окрест ажурных крон свои раздвоенные языки. Концы языков переплетались в канаты, острые ножи отнимали у зайцев печень, солнечные драконы меркли, и лица воинов становились седыми. Они стоят в его сне ровными рядами, они остались в памяти его молодыми и старыми неграми, держащими руки в карманах. Они не любят и не жалеют себя, и они мертвы. В его памяти их держат седые волосы.
Хотя им не похоже на строй, но для него они РЯД. Они сохранили ряд и беспечную подозрительность, ведь печень зайцев каждому сну внушает бессмертие. Им сделан дар неподвижности, и когда ОН проходит параллельно их РЯДУ, они прячут свои глаза. Всё другое – наполняется жилами звон. ОН открывает глаза…
[49]
За круглыми кургузыми холмами ОН видел волокнистые поля; это было не в первый раз. Купидоны бросали на холмы хоккейные шайбы. ОН видел, что это случилось давно – шайбы успели зарасти травой, - и в то же время недавно – они не потеряли свой чёрный цвет даже под непрекращающимися попытками сезона дождей закрыть, закружить всю невидимую остаточность, сделать её нестираемой и до невозможности притягательной, чтобы не поддержать/не погибнуть вместе с ними, когда на землю сойдёт зима. Лошади оставляли здесь свои гривы, и чёрные шайбы прятались совершенно самостоятельно…
ОН вытянулся в струну, удерживая старый карандаш в руке. Волокна цеплялись за одежду. ОН мелочно направлялся к зелёному кусту, из которого торчали ноги. Приблизившись, ОН заметил на кустах ситцевую шторку; отдёрнув её, ОН увидел снеговика. Единственный осенний снеговик был потерян…
…Почему-то он не хотел вставать. ОН изготовил тысячи трёхдюймовых подпорок и валиков, но снеговик продолжать быть белым. ОН даже покрылся язвами и огнями, как рождественская ёлка, но снеговик не хотел и не мог меняться и затухать. ОН насобирал со дна ручья обкатанные камешки и попытался обложить снеговика ими, но у того была какая-то необычайно толстая кожа…
За кожу снеговика можно было слегка приподнять, но потом он тонул в ней и возвращался к земле. ОН испугался этого зрелища и повернул назад.
Город открыл ему избавление. Машины и здания не были ему знакомы, но их профили приятно холодили как живое явленное откровение.
[50] Прежний
Всё так жестоко – не смотреть
всё как будто бы вмещается весной
все цветные звёздочки ищут себя – непонимания, ищут свой мир, который больше для них
очертя
растерянно-испуганные лица
отступают против чёрных волос-горы
так и не узнавая правду, обозначившую себя
ту правду, открытую, выдержанную, непорочную правду первого взгляда, единственную правду непопулярного мира
расколотого на себе, такого необозримого и чужого,
который всегда заслоняет глаза,
если правда падает наспех.
Также как тихие звёздочки, ОН стоит на краю сейчас. Его толкает от себя вибрация клеток полей. Над ним висят собранные в букеты голубые крыши в подарок – маска и закрепитель, как название фильма. Не так уж сложно, принимая решения, принимать отличия.
[…]
Не хочется идти в школу ватными подушками. На проходной всё равно не пропустят другими, не пропустят с прежней улыбкой.
Хотя, был один… Прежний. Он приходил раньше всех, ведя за собой закат. Он неизбежно выталкивал самую первую карту, сдвигая её к углу, а когда занимал своё место, вставал и ещё раз осматривался, не бежит ли кто из класса.
Ему поручали заполнять журнал. Это было немного странно для школы, но только он мог прикладывать к этому делу всё своё рвение. Он легко распутывал любую колонку оценок, выявлял все слабые места в полях, и когда начинался урок, учителю было достаточно лишь занять свой место и получить в руки самую чистокровную статистику. Учитель занимал стул перед камином и загадочно улыбался. Его тонкие вкладки вели испуганные взгляды лысых чернобыльских учеников, как строчки в книге, и стоило Прежнему достать фотоаппарат, как мир исчезал. Страх и ватный покой уходили безвозвратно, все стены переступало обычное голубое небо и казалось, она удержит в себе целый мир, подарив возможность хоть на секунду сделаться самим собой, не исчезая, но исчезнуть в оппозиции своему отражению… Учитель держал в сердце потенциал для зеркальных стен, и Прежний был единственным, кто не видел его в журнале. Неизвестно, бывал ли он когда-то счастливым, видел ли он счастье других людей, но несчастным он не был никогда. Что может быть сильнее, чем «искусственный разум» клеток?
Никто не приходил в первый раз. Когда пришла Интолина, Прежний был до того поглощён анализом прошлого, что не заметил карту на разрыве стены. Они встретились только в тексте, и она была первая, кто обратил наше внимание. «На стене любого дома есть географическая карта, и если мы на неё посмотрим, то сможем проводить и удерживать взгляд на каждой минуте пути, не зная прошлого законного владельца. Запечатывая стену снова и снова, вы откроете в себе друг друга, и тогда вам откроется единство и безграничная уникальность того самого ясного мира».
Мы не могли принять эти мысли, в нас было слишком много «державной ненависти». Прежний продолжать ничего не понимать – его иммунитет без сомнения был безупречен на все времена.
Когда новизна уходила, на чёрную дверь школы вешался большой замок. Он оставался тогда и проникал в молчание. Только здесь Прежний целиком ощущал свою противоположность. Он не мог пробиться к своим первым воспоминаниям, и потому он никогда не чувствовал себя в настоящем и боялся говорить много, чтобы никто не подумал неправильно. Теперь понятно, что его ход мыслей не предназначался ему, его мастерство вытягивания нитей было куплено другими, и когда он стоял перед пустыми классами, он делал выбор. Делать выбор – вот в чём была его суть и понимание, и его подарок самому себе. Такова цена его размножения…
[51] «ОН мечтает снимать кино…»
За рекой из солнечных линий и холмами белыми раздвигают тучи холмы жёлтые, и прячутся на самой вершине холмов олени. Руки голые для оленей забором служат, за ворота холмов не пускающим, а глаза оленей красным огнём рассыпаются. И соединяются глаза оленей в созвездия.
Большая река серым камнем впитывается. Даже самой горячей весной воды реки из берегов не выпадают, всегда в камне прячутся.
«Это вода, для которой найдены поры. Красные плоды как красные, жёлтые как жёлтые, а зелёных нет».
Неосторожность
- Под ногами тоже ходят автобусы. Только они утопленные.
- Это как?
- Очень просто. Вода превращена в полёт, и потому лунный асфальт заменяет реку.
- Река вытекает в море?
- Именно. У моря всегда есть дно, вот они и ходят.
- А когда там бывает закат?
- Когда ты смотришь. Закат – твоё настоящее время, ты же сам говорил. Ты ещё не проснулся, но уже уплываешь в закате.
- Я плыву, ты плывёшь… Неужели столько воды в моей жизни?
Разъединение
Здесь мало занятых мест. ОН уже готов найти любое свободное, пусть даже со стружкой, но «Консоль» - узловая линия – всегда полна и востребована. Всегда её смотрят трубы по пятницам, всегда её пункты обречены на известность, и всем её будет МАЛО.
«Консоль» - русская прицельная – предельно понятна – узкая линия строго вдоль извилистой реки. Даже самые смелые пароходы чересчур малы по её меркам.
ОН больше любил другую сторону, где перерастали здания. Именно перерастали – каждую неделю возникал новый небоскрёб. Беспрерывно растущие здания только казались такими страшными – на самом деле они отражали солнце. Сквозь туманные круглые сутки было видно лишь звездное небо, а в зданиях… зеркальные искры заката, изумительно отбирающие внимание, всегда неисправимо и прекрасно поющие ЯДРА, зацепившиеся за пуговицы неведомого великана. ОН знал, что город воистину прекрасен и до смешного невидим, когда он любит их.
А ещё внутри этих зданий был озвученный свет. Любой плафон находил тысячи собственных неисправностей, и каждый день еженощно моргал, разбивая кафель на самых первых ступеньках. Он нёс всему миру тихую весть о безжалостном утре…
Когда ОН заходил в любой дом, он всегда раскланивался и улыбался. Соседи часто выходили неприбранными, с характерными своими запахами, но ОН всегда держал своё лицо. Они обычно не разговаривали, молча обменивались и заходили внутрь. Они садились за стол, круглый или извилистый, и выпивали чай. Конфеты предлагать было непринято.
И если они просиживали здесь, бежали на улицы, то что было для них дороже? ОН замирал, оставляя одно-единственное чувство – быть родным. Светлые люди, как на фотовспышке.
Как я без тебя
[…]
Млекопитающееся
- Солнечный мальчик покрасил стену в зимний цвет. Его приветствовали легко и внезапно, только он не искал безошибочности. Труды не оплачивались спящим.
- А когда папа придёт?
- Подводный фонарик? Я тоже плакала. Когда он выпустил руки… Они боялись инерционности. Солнечный мальчик подарил их самим себе.
- Мама, а у нас в школе ребёнка убили. Новенький пришёл, и ещё лоб красным фломастером разрисовал, чтоб страшнее. Я, когда хожу за батоном, всегда его боюсь. И волосы у него седые…
- А ведь у них телефоны были, позвонить могли. Помнишь ту сцену, где они кукушат выпускали? Большая такая труба, верная. А там у него наручники были и фонарик на память. И я там тоже была, на единственной стенке с гвоздями, и могла ведь помочь, могла! И песня у них была такая красивая, но гордость меня замучила и вера моя псу под хвост. Их и найти-то не могли из-за этой песни, которая повсюду была. Ты говоришь, страшно, но как ночное море может добрым быть? Они всё прекрасно знали, но продолжали свою песню только шёпотом петь… Нет, ты не знаешь…
- Мама, а если книжку читать, она расплавится? А то новенький бомбочку из шапки сделал, и я, чтоб не досталась…
- Первый раз солнечный мальчик пришёл поздно. Первый раз он внушил нам чувство обиды. Мужчины пешком вернулись, лошадей всех загнали, да так и померли до темноты. Женщины вместо слёз всю ночь лунную траву косили, а на утро большой урожай принесли. Только дети в тех домах пропали; из города сказали – ветрянка. Один колокольчик у них остался, его и бросили рыбе без сна, чтобы съела. Только покатился он против течения, пока к чистому берегу не приплыл, где пески разноцветные, а листья всегда одни, и растут эти листья так глубоко, что не вырвать их никому. А все ветра в этом месте в одну сторону дуют, только не соединяются никогда.
- Мама, ты никогда не спишь?
- Не обрывай нитку. Далеко нам до земли, не то, что им… с листьями.
- А души погибших детей встретились?
- Ветки там били больно, потому и не знал о том месте никто. Они отдельный ЛЕС окружали.
- А тебе, мам, не страшно?
- Там все дома из одного дерева скрыты. Волны разбили дерево на три стороны, вот люди и смогли поселиться. А когда заборы ставили, то сбежали к зелёным холмам, потому и топорщатся ветки раздельно. А если солнце в том краю жестоким от сердца бывает, из могил предков голые птицы к небу летят, и падает к листьям радужный дождь первым криком молчания. Дорогой, я знаю, что часто была неправа, глупа, и тебя обижала не раз. Ты простишь меня?
- Для тебя – всё что угодно.
[52] Не зря
И даже сейчас письма взлетают к свету. Даже в горельниках расцветают парафиновые края всех морей, и их преследуют паровозы с мётлами, но письма всё равно не догнать. Им всё равно, живут они или нет, им не бывает тоскливо перед необходимостью просыпаться и идти, они могут позволить себе выходные и праздники словно нечто первоначальное, не раннее, а именно открытое, открытую самой себе ручку. Строки без слов пролетают быстрее ветра, тонут быстрее дождя и перерастают своих учителей быстрее всех вместе взятых. И не надо мне открыток и звона почтовых колокольчиков, если есть письма, и не нужен мне луг и рассудок, потому что земля заворачивается улиткой, и с её изнаночной стороны каждому виден зелёный росток, каждый клянётся другим, что никогда не будет судить.
- Милиционер не зря стоит у столба – он слушает музыку. Ты сегодня поздно вернулся, дорогой.
Голосование:
Суммарный балл: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
|
Оставлен:
Странно.....но интересно
|
Platon
|
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор