16+

Зарегистрировано – 123 511Зрителей: 66 579
Авторов: 56 932
On-line – 6 985Зрителей: 1349
Авторов: 5636
Загружено работ – 2 124 894
Авторов: 56 932
On-line – 6 985Зрителей: 1349
Авторов: 5636
Загружено работ – 2 124 894
Социальная сеть для творческих людей
Человек в собственном одиночестве.
Просмотр работы: |
След. |
Добавлено в закладки: 7

Под утро приснился ему сон.
И приснился ему большой Золотой зал с куполом, и табаристанский шерстяной ковер, шитый золотом, и дабикские занавеси. Халиф восседает на троне, на возвышении, покрытом тканью ал-куркуби. И визир, отодвинув занавес, смиренно приближается к нему, целует руку и ногу и отступает на три мелких шага. Халиф бросает визиру почетную подушку, разрешая сесть справа от себя.
В его однокомнатной малосемейке было уже светло и была суббота. За окном лил дождь. В дождь сон глубокий, и человеку снятся самые отдаленные события, – подумал он. Тело затекло, и он заворочался под теплым одеялом, потягиваясь и разминая члены.
Чайник на газ. Масло из холодильника на стол. Он прошел в туалет, заодно слил старую заварку в унитаз. В ванной сполоснул заварочный чайник и задумчиво почистил зубы растрепанной щеткой, плеснул в лицо холодной водой. На кухне уже булькал кипяток.
Сыр подсох и крошился. Он пил чай с бутербродом из треснувшей пиалы, и смотрел на обои. Кухня была маленькой, обои старыми и местами отставали от стен.
За окном все шумел дождь. Вода причудливо струилась по стеклу.
Он подошел к окну, открыл форточку. Подвинул консервную банку, полную вчерашних окурков и закурил, пуская дым в форточку. Дым упрямо не хотел выходить под дождь, ему было хорошо и на кухне.
С высоты девятого этажа он смотрел на мокнущий под дождем сквер. Он не сразу заметил, а заметив, удивленно поднял бровь: фонтан посреди сквера активно функционировал, пуская тугие струи в небо, навстречу падающему оттуда дождю.
Бред, – подумал он. - Сюр какой-то. Дали отдыхает.
Потом возле фонтана он заметил желтый микроавтобус с открытыми задними дверцами. Из автобуса вылез человек в оранжевом комбинезоне, торопливо открыл черный зонт, пошел вокруг фонтана, заглядывая в его чашу. Закончив осмотр, залез обратно в автобус. Судя по жестам, он кому-то что-то докладывал по сотику. Струи фонтана, оседая, поползли вниз и пропали. Дверцы автобуса захлопнулись, он сорвался с места и растворился в дожде.
День начинался со странного.
Усмехаясь и качая головой, он прошел в комнатку через прихожую, захламленную связками старых журналов, картонными коробками с разной ерундой, которую пора давно выбросить, да жалко. По пути задержался у зеркала. На него равнодушно смотрел мужчина средних лет в линялой синей майке, невыразительное плоское лицо. Служитель местного краеведческого музея, холост, детей вроде бы нет, не был, не участвовал. Побреюсь в понедельник, – решил он, потрогав щеку.
В комнате Кеша резко вскрикивал и стучал клювом по прутьям клетки, требуя законного завтрака.
Он насыпал попугаю зерна, постучал по клетке. Привет, Кеша. Как дела? Кеша был занят поглощением пищи и разговаривать не стал.
Не люблю выходных, – подумал он, опускаясь в старое, продавленное, ободранное котом кресло. Кот сдох месяц назад, и он вечером закопал его маленькое тельце в сквере, обмотав импровизированным саваном из старой наволочки.
Он окинул взглядом комнату. Бардак на палубе. Две недели не убирался. Завтра. Заодно и коробки с хламом из прихожей выкину.
Возле кресла, прямо на полу, была свалена печатная продукция, которую он читал в последнее время. Подшивка «Техника молодежи» россыпью, двадцатилетней давности, купленная за гроши на барахолке. Брошюрка местного краеведа о костях шерстистого носорога, найденных при рытье котлована. Тоненькая потрепанная книжонка в мягкой обложке - сборник японских хоку.
Телевизор неделями пылился в углу с выдернутым из розетки шнуром. Работу свою он выполнял аккуратно, но и только. Надо же на что-то жить. Друзья? Он криво усмехнулся. А что это?
А вот чтение, эти маленькие черные закорючки на белом листе, были одним из немногих, что вызывало его интерес и доставляло некоторое удовольствие. Хотя читал он весьма выборочно. Не любил толстых романов, всяких там эпопей с мелодрамами. Чужие жизни и чужие страсти, что может быть скучнее? Если проза, то покороче и повеселее. Нравились детективы, лучше старых авторов, где имя убийцы узнаешь на последней странице. Немного поэзии, лучше восточной. Эта привязанность у него осталась еще с первых жизней. Что-нибудь о технике и науке, в развлекательной и доступной форме. Но только не по истории.
Его, многое видевшего собственноглазно, смешило и раздражало, какую ахинею иногда несли авторы всех этих исторических романов и исследований. Самая неточная наука из всех неточных наук – это история. Если бы люди знали, насколько причудливо искажено, а то и перевернуто с ног на голову то, что они считают своим прошлым. Ох уж эти историки. Как порой они с ловкостью шулера беззастенчиво тасуют и передергивают факты, в обоснование своих сомнительных идей и теорий. А пуще всего в угоду и по велению сильных. Увы, но таков человек. Быть выше всех, есть два пути - либо самому карабкаться вверх, либо сталкивать вниз тех, кто тебя превзошел.
Он взял с пола наугад журнал, полистал, и бросил обратно.
Есть такое состояние – сплин. Как там? Скука, снижение побуждений…
И еще есть нехорошие предчувствия. Как-то на душе неспокойно. Неужели приближается это? С чего бы?
Ты просто устал, - сказал он себе. Это отчего же? – тут же откликнулся ехидный голосок где-то внутри. От всего, - немного раздраженно ответил он сам себе.
Он сидел с закрытыми глазами, прислушиваясь к звукам вокруг. Как тихо. Только шуршит за окном дождь, да – тик, тик, тик – еле слышно тикают часы.
Тихо, тихо ползет улитка по склону Фудзи…
Он мало что помнил из первой жизни, но как произошло это – запомнил ясно, словно это было вчера. Он сидел на солнышке, на пороге своего дома, растирая распухшее колено. Колено болело. Грудь болела. Боль была тупая и давящая. Старость, старость, думал он, когда увидел приближающегося путника. Осел, которого тот вел на простой веревке, был худой и облезлый. Поклажа малая и небогатая. Путник был усталый и запыленный, но молодой и здоровый. Колени, небось, не болят, и дышит легко и свободно. Он разглядывал путника слезящимися глазами и вдруг остро позавидовал его молодости, и здоровью, и тому, что у того впереди не только дорога, но и вся жизнь. И тогда это и случилось. Голова поплыла, солнце на мгновенье стало багровым и огромным, и он очнулся уже в теле путника. Земля еще покачивалась, и он с ужасом и недоверием смотрел на себя, на бывшего себя, на свое тело, тело старика с остекленевшим взором и открытым ртом, медленно заваливающееся в пыль со своего стульчика.
Сначала он до конца так и не понял, почему это произошло. Но по прошествии лет, когда он умирал после укуса черной гадюки, это повторилось еще раз. И тогда он понял, что избран.
Он не владел этим божьим даром, он не знал, почему и как это происходит, он не мог свершить переход по своей прихоти, но только при условии реальной, смертельной опасности для своей жизни. Словно какой-то ангел-хранитель пристально и ласково следил за ним, чтобы вмешаться в должный момент.
И иногда ему приходилось вмешиваться очень быстро.
Во время переправы через Гронское болото, ему, тогда ополченцу короля Генриха, стрела, пущенная почти в упор, вошла в левую глазницу, мгновенно прошла сквозь мозг, и он еще успел почувствовать, как она с жутким тупым стуком ударила изнутри в заднюю стенку черепной коробки. Мир стремительно померк, но его ангел-хранитель успел. Когда схлынула короткая тошнота, всегда сопровождающая переход, он уже был пехотинцем Оттона Нодгеймского, бородатым верзилой с круглым щитом в одной руке и топором в другой, заляпанным грязью и кровью, стоящим по колено в черной торфяной жиже и дико озирающимся по сторонам.
Ему вдруг захотелось выпить. Он встал и прошел на кухню, к холодильнику. Что тут у нас? Початая бутылка водки, консервы. В трехлитровой банке одинокий соленый огурец, залег на дне, в мутноватом рассоле, среди веточек укропа и зубчиков чеснока, как субмарина, среди водорослей и донных камней. На вилочку тебя. Хлеб резать не хотелось, и он просто отломил кусок руками. Из шкафчика извлек стопочку, подул в нее и протер изнутри пальцем.
Разложил все на столе. Взял в руку консервы.
Скумбрия в собственном соку. Он долго смотрел на этикетку. Надо же - в собственном. Он словно увидел эту фразу под другим углом, наполненную другим смыслом. Если долго вдумываться в слова, они превращаются в набор звуков, начинают терять смысл. Или приобретают совсем другой.
Язык дан нам, чтобы скрывать свои мысли. А слова – чтобы искажать истинную суть предмета. Соседка, женщина в самом соку, часто кричит на своего худосочного мужа-пьяницу: - Все соки из меня выпил, паразит!
Он вскрыл консервы, прикинул, на сколько стопок осталось водки, и ровно на столько же частей нарезал огурец.
Водка была холодной, а огурчик крепким и острым. Он в задумчивости достал сигареты, переставил с подоконника на стол банку с окурками и закурил.
Да, поначалу он возликовал. Вечен!
Поначалу он решил, что теперь может дерзко разговаривать с сильными и показывать язык безносой.
На людей он стал смотреть новыми глазами. Так хозяин удовлетворенно смотрит на скот в загонах и на зерно в амбаре, залог его благополучия и самой жизни.
Одно только поначалу смущало его. Что-то во всем этом было неправильным. Выходило так, что даря ему новую жизнь Бог прекращал другую. Но в конце концов, разве ему судить о путях и помыслах Господа?
Потом ему открылась еще одна, не очень приятная сторона его положения. Размышляя, он понял, что всегда переходил в новое тело не по собственному выбору, а только в человека, находящегося к нему ближе всех, перед глазами. В одном случае, в безлюдном ночном лесу, после встречи с лихим человеком, он перешел в своего же убийцу. Холодея, он понял, что есть и второе условие его дара. Переход возможен только в реципиента, находящегося в зоне прямой видимости.
А что будет, если в роковой момент он окажется один, в пустынном месте?
Вечность оказалась отсрочкой.
И тогда в его душе поселился страх, который уже не покидал его никогда.
Люди воспринимают смерть как неизбежное. Да, страшатся предстать перед последним судом - ибо кто безгрешен? - цепляются за жизнь, оплакивают свою участь, но в душе готовы к ней. Бояться неизбежного глупо и смешно.
Он же стал воспринимать смерть лишь как вероятное. Это было куда страшнее.
Ты что, собираешься жить вечно? Он собирался.
Но за все нужно платить в этом мире.
Поэтому поближе к людям, поближе. И не нужно лишний раз нарываться, не стоит все время испытывать судьбу, она этого не любит. Ничего. Если по течению, иногда только подгребая, что б не вынесло на стремнину, стать неприметным, никому не нужным, сидеть тихо как мышь, то можно жить. И даже, улучив момент, стащить с хозяйского стола свой кусочек счастья. Ничего, что это чей-то объедок, мы не гордые.
Он вздохнул, наливая себе вторую стопку.
Помягче надо быть с собой, нежнее. Себя нужно любить, - сказал он вслух.
Вот он дышит, пьет водочку на обшарпанной кухне под аккомпанемент дождя. Что еще нужно? Власть, золото? Палаты, толпу наложниц, кучу прихлебателей, поющих тебе славу и выжидающих момента, чтобы всадить нож в спину?
Все – суета и томление духа.
Псу живому лучше, нежели мертвому льву.
А стоит ли эта овчинка выделки? Ведь что есть бессмертие в принципе? - подумал он философски. - Бессмертие это всего лишь непрерывность воспоминаний. И не нужно помнить все. Человек не может помнить все. Несколько размытых кадров, всплывающих в памяти – этого достаточно для осознания себя как личности, перемещающейся во времени.
Вот, скажем, наугад: что он делал ровно тысячу лет назад, в год от воплощения Господа нашего Иисуса Христа одна тысяча ноль ноль семь, в пятый индикт, в третьи августовские Иды? Пробел, пустота, словно и не было этого дня в его жизни. И таких дней набирается тьма и тьма. Если начать вспоминать, то окажется, что не так уж много мы помним, так, какие-то крохи да обрывки.
Интересно, есть ли в этом мире еще такие как я? – подумал он, подперев рукой голову и глядя в окно. - Или вот вопрос. Почему я ни разу не перешел в тело женщины?
Черт знает, какие мысли лезут в голову.
Он встряхнул головой и потянулся за бутылкой.
Да, не все оказалось таким сладким.
Жить-то хорошо, но вот входить в новую жизнь каждый раз было трудно, а то и мучительно. Переходя в новое тело, он часто ничего не знал о его владельце, иногда даже имени и положения. Случалось, везло, новое тело оказывалось принадлежащим пришлому и одинокому. Но когда у того была родня, нужно было побыстрее уходить в места, где тебя не знали, бросать нажитое и обжитое, начинать все с начала, иначе приходилось покорно изображать убогого, потерявшего память, забывшего родных и свое ремесло, которое кормило его, запоминать и учить то, чего не было. Его это раздражало и утомляло. Слезы, сочувствующие, а иногда и подозрительные и раздраженные взгляды, кому нужна обуза? Врачи, священники.
А эти разговоры во сне? Поначалу-то ничего, но чем больше менял он тела, а с ними и страны и языки, тем все больше это становилось проблемой. Да и то сказать – с чего это человек во сне говорит на непонятном языке? В военное время могли и за лазутчика принять. А как поступают с лазутчиками во все времена и народы известно. Да и в мирное время хорошего было мало, уж не одержим ли бедолага бесами? А ну, где тут наша святая, естественно, инквизиция?
Но как-то обходилось, везло. Наверное его ангел-хранитель приложил крыло.
Хотя казусы случались.
Он тихонько захихикал, вспоминая, как лет сорок назад, в предыдущей жизни, еле отбился от ученых. Те во что бы то ни стало, желали выяснить, почему конюх тридцати с лишним лет, из глухой ярославской деревни, с трудом окончивший четыре класса и не бывавший нигде далее райцентра, после непонятной потери памяти вдруг во сне заговорил на старо-французском и латыни.
А при Елизавете… или еще раньше, при Алексее Тишайшем?…Ну, не важно. В общем, когда юродивые были в почете, новая родня, заприметив за ним подобное, стала активно раскручивать его как провидца и божьего человека. Видно решила, что с паршивой, то есть больной овцы, хоть шерсти клок.
Пришлось срочно смываться. Линять. Делать ноги. Рвать когти.
Первая стадия опьянения. Болтливость и игривость. До последней, пожалуй, не дотяну, не хватит, - с сожалением подумал он, глядя на значительно понизившийся в бутылке уровень водки.
Хорошее дело монастырь. Особенно - обет пожизненного молчания. Никто ничего не спрашивает. А в келье ночью ты один. А монастырская трапеза? И не только трапеза. Монахи умели сладко пожить.
Да и вообще, раньше было легче. Ушел подальше, назвался любым именем, и живи, налаживай свое существование, как сумеешь, как повезет. Попроще были люди, не было всех этих паспортов и прописок. А сейчас?
Он вылил остатки водки в стопку, подержал бутылку, наблюдая, как последние капли стекают по горлышку. Выпил залпом, докурил сигарету, встал, не глядя, щелчком отправил окурок в открытую форточку, и побрел в комнату. Сквозняк подхватил окурок, занес его обратно в помещение и швырнул точнехонько в мусорное ведро, стоящее у окна.
Вчера, когда он возвращался с работы, нетрезвый сосед курил у мусоропровода.
Увидев его, он выпятил чахлую грудь и вызовом сказал: - Все козлы!
Он не стал возражать соседу. Отчасти оттого, что не хотел связываться с пьяным, отчасти оттого, что в принципе был согласен с этим определением.
Что позволено мне, то не позволено быку. Подпись – Юпитер. Каждый из нас Юпитер, все остальные быки. Или козлы. Принадлежащие к стаду, одним словом.
Уж ты-то козел точно! – с раздражением сказала мужу вышедшая на лестничную площадку соседка и с шумом опорожнила ведро в мусоропровод.
Сосед задумался, и пьяно мотнул головой: - И я тоже.
М-да…
Он плотно прикрыл за собой дверь в комнату. Подремать, что ли, или в магазин сходить? Дождь. Может, после обеда распогодится. Он со вздохом опустился в кресло. Старый стал, ленивый стал… Его вдруг поразила эта фраза, всплывшая в памяти. Старый стал? Его нынешнему телу было тридцать восемь лет, вполне молодое и крепкое тело. А до этого были и более молодые, даже юные. Но уже много циклов, независимо от физического состояния тела, он воспринимает себя не иначе, как стариком, растерявшим за долгое существование вкус и интерес к жизни. Это что же выходит? Он, его Я, то, что принято называть душой, стареет само по себе, независимо от тела?
В старые времена все знали – тело не что иное, как бренное вместилище бессмертной души. А бессмертной ли? Если ей свойственно стареть…
Чудные мысли приходят порой в голову после возлияния, - расслабленно подумал он, погружаясь в дрему в своем старом верном кресле, в своей старой тихой берлоге, в своем убежище, в своей раковине.
Богом позабыт этот край, где лишь листва мёртвая шуршит…
На кухне, попавший в мусорное ведро окурок, делал свое дело. Сначала начал тлеть целлофан от позавчерашней колбасы, потом скомканная бумага. Сначала дымок, потом показался огонь. Язык пламени подобрался к краю свисающей старенькой капроновой занавески, зацепился за нее, и быстро, быстро, как обезьяна, полез вверх.
Посольство было большим и неповоротливым. Впереди ехала дюжина гайдуков в шелковых шапках с алыми кистями, с нашитыми на груди серебряными монетами. Шестерки разномастных коней тащили большие подводы, груженные подарками Великому князю Борису Федоровичу, самодержцу всея Руси.
Сразу за ними в дорожных каретах ехали сиятельный князь-посол Михаил Черторыйский, воевода, лейб-медик и капеллан свиты. За ними сама официальная свита, отряд драгун в шесть десятков человек и подводы с посольским скарбом и утварью. Далее, в каретах и верхом шляхта, добровольцы, примкнувшие к посольству, что бы повидать Московию, всякие яснейшие и благородные паны в сопровождении верховых и пеших слуг. Благородные кони, дар Великому князю, а также восьмерка фрисландских коней, предназначенная для торжественного въезда в город, шли свободно, без груза. Их сопровождали конюхи на простых конях
Его хозяин, вельможный пан Котович, виленский каштелян, высовывает из окна легкой, в две лошади, кареты свою убеленную благородными сединами голову и пронзительно кричит ему голосом соседки: - Пожар! Горим!
Он распахнул дверь в прихожую. В лицо ударило жаром и тошнотворным едким дымом. Вся прихожая была объята пламенем. Горел линолеум на полу, сворачиваясь и сползая со стен, горели обои. Горела одежда на вешалке и старые журналы и коробки у стены.
Почему-то он совершенно не испугался, только подумал с досадой: - Опять! Ну что за невезуха…
Он торопливо захлопнул дверь, мучительно закашлялся от едкого дыма.
Хорошо, что он собственноручно уплотнил внутреннюю дверь, огораживаясь от всего мира, и в первую очередь от соседки, любящей устраивать скандалы мужу прямо на лестничной площадке.
Дверь пока держалась, почти не пропускала дым в комнату. Надолго ли?
Отдышавшись, он вспомнил про окно.
Дождь чуть-чуть поутих, но все еще моросил. Ни одного человека на улице, все сидят по домам. Огромная куча народу сидит по домам. Им нет дела до него. Он им не нужен. Это они нужны ему. Ну, хоть один, – подумал он, и удивился, как спокойно и даже лениво он это подумал, словно и не желал этого, словно эта мокрая безлюдная улица его вполне устраивала.
Потом внизу произошло движение. Какой-то мужчина выскочил из подъезда соседнего дома и зашлепал кроссовками по лужам. Сверху он оценивающе рассматривал своего потенциального реципиента. Молодой. Не иначе студент. Джинсы, курточка с неразборчивой отсюда надписью, бейсболка, на щеках тщательно холимая растительность а ля Че, наверняка страдающий от надуманных юношеских комплексов, и от этого наглый и колючий. Бережно несет красную розу - денег хватило только на одну - своей рыжей герлфренд.
Почему он решил, что она рыжая? А какая же еще? Хм…Хороший довод, логичный.
Сейчас его не станет, - подумал он, и внезапно почувствовал себя от этой мысли как-то неуютно и виновато.
Он даже пошарил глазами по улице – может есть кто другой?
Капризничаешь? – тут же брюзгливо отозвался кто-то внутри его. – А раньше радовался. Он, или другой - какая разница? Можно подумать, что от тебя что-то зависит.
Ладно, ладно, - пробормотал он и опустил веки, приготовился. Вот сейчас это случится, ну… И ничего не произошло.
Он удивленно открыл глаза. С какой-то обидой прислушался к себе. Эй, где ты там? Пора!
Но все оставалось без изменений.
Ноги стали ватными, пересохло во рту да тренькнуло сердце, как будто оборвалось что-то внутри. Ну вот… Неужели все? Но почему именно сейчас?
Не разверзлись небеса, не рухнул мир. Все так же студент семенил по лужам, удаляясь все дальше и дальше. Все так же летели с низких облаков мелкие водяные капли, а он словно застыл в каком-то ступоре. Мысли в голове кружились со скрипом, как изношенные жернова, скакали с одного на другое. Бросил, бросил его ангел-хранитель… И еще одна никчемная мысль упрямо крутилась в голове: – надо было пойти в магазин, надо было пойти в магазин, надо было…
Потом его немного отпустило. Он в растерянности окинул глазами комнату. Все? Это все? Странно, но он совсем не ощущал страха, только какое-то отупение.
Ему многократно приходилось видеть людей покорно и без сопротивления идущих на плаху, как бессловесный скот на бойню. Он никогда не мог понять их равнодушия, он всегда панически боялся смерти и страстно хотел жить, любой ценой, как угодно, но жить. Куда это подевалось?
Я хочу жить! – громко сказал он в пространство, вслушиваясь в звучание слов. Помолчав, еще раз повторил, тише и уже с вопросительной интонацией: - Я хочу жить?
Ничего не шевельнулось в нем, только заныло в груди, и на мгновение померещилось ему, что снова сидит он на своем стульчике, на пороге своего глинобитного дома с узкими окнами-бойницами, на обожженной солнцем кривой улочке, со своим больным коленом и больной грудью.
Только вместо острой зависти к скачущему по лужам путнику было что-то другое, малознакомое и неожиданное – маленькое и теплое, как котенок, чувство жалости. К этому, только начинающему жить студенту, к его рыжей герлфренд…А пуще всего к себе, который век тоскливо бредущему по этой земле. Сколько он их прожил, этих своих жизней, серых, одинаковых, пресных и приевшихся? Господи! Ведь и вспомнить-то практически нечего…Как он, оказывается, устал от них. Настолько, что уже просто не хочет начинать все с начала. Не хочет… Может это и есть третье условие его дара?
А ведь он всегда знал, что когда-то этот момент наступит - ничто не вечно под луной. Только гнал эту мысль, закрывал глаза, отворачивался от нее.
Все в этом мире, без исключения, движется по своему кругу; есть время, в которое оно начинается, срок, в течение которого оно возвышается, и предел, к которому оно приходит. У каждого свой срок, но он определен для всего. Может ли человеческая душа оставаться молодой и жадной до жизни бесконечно в этом вечно меняющемся мире? Нарушая ход вещей и задерживаясь в нем дольше положенного, она неизменно должна и сама прийти к своему пределу, истощиться, как масло в лампаде. Рано или поздно наступает момент, когда мигнет в последний раз огонек, и все, и нет больше.
Полторы тысячи лет, видно, достаточный срок.
Вот оно, время собирать камни…
Ну и пусть… Он даже почувствовал странное облегчение, словно кто-то принял за него трудное решение, на которое он все никак не мог решиться.
Он отрешенно провожал глазами подпрыгивающую фигурку, пока ее не заслонили кроны деревьев.
Что ж, беги, мальчик, лети к своей рыжеволосой белокожей богине. Спеши, жизнь так коротка…
Долгий путь пройден, за далеким облаком сяду отдохнуть…
Девятый этаж. Кто-то барабанит во входную дверь. Где-то, еще далеко, завывает пожарная машина.
Он перегнулся через мокрый подоконник. По ногам пополз холодок – он всегда боялся высоты. Далеко, далеко внизу был залитый дождем свинцовый асфальт, блестящие от воды крыши припаркованных у дома машин. Девятый этаж. До какого этажа достает пожарная лестница?
Стремительно летящая навстречу, прямо в лицо, земля. Разрушенное тело. Морг, холодные, оббитые оцинкованным железом столы с наваленными на них голыми телами, тусклый свет, поддатый санитар с прилипшей к губе папироской. И тошнотворный с непривычки запах. Карболка, или что там у них? В прошлом году он побывал в морге, когда умер сослуживец, и это произвело на него впечатление. Не вид неприкаянных мертвых тел так поразил его, к покойникам он относился без страха и с почтением, он много повидал в своих жизнях смертей - и от старости, и от болезней, и от оружия. Поразила его равнодушная, будничная, как на дровяном складе атмосфера заведения.
Почему человек не летает, как птица?
Он вспомнил о попугае, поднес к окну клетку с Кешей, открыл дверцу. Кеша, Кеша, гулять. Попугай выбрался из клетки, и стал, не спеша, прогуливаться по подоконнику, брезгливо поджимая лапки от залетающих брызг. Он никуда не хотел лететь. Лети, дурак. Кеша хороший, – неуверенно произнес попугай и принялся искать клювом у себя под крылом.
Ничего. Окно открыто, огонь заставит его вспомнить, что он птица, что он должен рассекать крыльями холодный упругий воздух, а не сидеть в уютной клетке, у кормушки и забавлять хозяина.
А я? Что должен я?
Он сел на подоконник, рядом с попугаем. На спину упало несколько холодных капель.
Только теперь ему стало страшно. Сладкий ужас, зародившийся где-то в ослабевших ногах, поднимался к сердцу, перехватывал дыхание. Но не перед огнем.
Что же ждет его теперь там? И ждет ли?
Его первое тело, когда-то, давным-давно, было предано огню, согласно вере и обычаю, пусть и последнее… Цикл должен замкнуться правильно. Выдержу ли?
Сирена выла пронзительно и противно – пожарная машина уже въезжала во двор.
Но и дверь прогорала. Пластик коробился, выгибался. Темное пятно, причудливо меняя свою форму, расползалось во все стороны. Желтый туман наполнял комнату. В горле першило. В центре пятна возникла черная точка, из нее пыхнула струйка дыма, и первый робкий язычок пламени пополз по двери.
Маленькая огненная улитка.
Тихо, тихо ползет улитка…
И приснился ему большой Золотой зал с куполом, и табаристанский шерстяной ковер, шитый золотом, и дабикские занавеси. Халиф восседает на троне, на возвышении, покрытом тканью ал-куркуби. И визир, отодвинув занавес, смиренно приближается к нему, целует руку и ногу и отступает на три мелких шага. Халиф бросает визиру почетную подушку, разрешая сесть справа от себя.
В его однокомнатной малосемейке было уже светло и была суббота. За окном лил дождь. В дождь сон глубокий, и человеку снятся самые отдаленные события, – подумал он. Тело затекло, и он заворочался под теплым одеялом, потягиваясь и разминая члены.
Чайник на газ. Масло из холодильника на стол. Он прошел в туалет, заодно слил старую заварку в унитаз. В ванной сполоснул заварочный чайник и задумчиво почистил зубы растрепанной щеткой, плеснул в лицо холодной водой. На кухне уже булькал кипяток.
Сыр подсох и крошился. Он пил чай с бутербродом из треснувшей пиалы, и смотрел на обои. Кухня была маленькой, обои старыми и местами отставали от стен.
За окном все шумел дождь. Вода причудливо струилась по стеклу.
Он подошел к окну, открыл форточку. Подвинул консервную банку, полную вчерашних окурков и закурил, пуская дым в форточку. Дым упрямо не хотел выходить под дождь, ему было хорошо и на кухне.
С высоты девятого этажа он смотрел на мокнущий под дождем сквер. Он не сразу заметил, а заметив, удивленно поднял бровь: фонтан посреди сквера активно функционировал, пуская тугие струи в небо, навстречу падающему оттуда дождю.
Бред, – подумал он. - Сюр какой-то. Дали отдыхает.
Потом возле фонтана он заметил желтый микроавтобус с открытыми задними дверцами. Из автобуса вылез человек в оранжевом комбинезоне, торопливо открыл черный зонт, пошел вокруг фонтана, заглядывая в его чашу. Закончив осмотр, залез обратно в автобус. Судя по жестам, он кому-то что-то докладывал по сотику. Струи фонтана, оседая, поползли вниз и пропали. Дверцы автобуса захлопнулись, он сорвался с места и растворился в дожде.
День начинался со странного.
Усмехаясь и качая головой, он прошел в комнатку через прихожую, захламленную связками старых журналов, картонными коробками с разной ерундой, которую пора давно выбросить, да жалко. По пути задержался у зеркала. На него равнодушно смотрел мужчина средних лет в линялой синей майке, невыразительное плоское лицо. Служитель местного краеведческого музея, холост, детей вроде бы нет, не был, не участвовал. Побреюсь в понедельник, – решил он, потрогав щеку.
В комнате Кеша резко вскрикивал и стучал клювом по прутьям клетки, требуя законного завтрака.
Он насыпал попугаю зерна, постучал по клетке. Привет, Кеша. Как дела? Кеша был занят поглощением пищи и разговаривать не стал.
Не люблю выходных, – подумал он, опускаясь в старое, продавленное, ободранное котом кресло. Кот сдох месяц назад, и он вечером закопал его маленькое тельце в сквере, обмотав импровизированным саваном из старой наволочки.
Он окинул взглядом комнату. Бардак на палубе. Две недели не убирался. Завтра. Заодно и коробки с хламом из прихожей выкину.
Возле кресла, прямо на полу, была свалена печатная продукция, которую он читал в последнее время. Подшивка «Техника молодежи» россыпью, двадцатилетней давности, купленная за гроши на барахолке. Брошюрка местного краеведа о костях шерстистого носорога, найденных при рытье котлована. Тоненькая потрепанная книжонка в мягкой обложке - сборник японских хоку.
Телевизор неделями пылился в углу с выдернутым из розетки шнуром. Работу свою он выполнял аккуратно, но и только. Надо же на что-то жить. Друзья? Он криво усмехнулся. А что это?
А вот чтение, эти маленькие черные закорючки на белом листе, были одним из немногих, что вызывало его интерес и доставляло некоторое удовольствие. Хотя читал он весьма выборочно. Не любил толстых романов, всяких там эпопей с мелодрамами. Чужие жизни и чужие страсти, что может быть скучнее? Если проза, то покороче и повеселее. Нравились детективы, лучше старых авторов, где имя убийцы узнаешь на последней странице. Немного поэзии, лучше восточной. Эта привязанность у него осталась еще с первых жизней. Что-нибудь о технике и науке, в развлекательной и доступной форме. Но только не по истории.
Его, многое видевшего собственноглазно, смешило и раздражало, какую ахинею иногда несли авторы всех этих исторических романов и исследований. Самая неточная наука из всех неточных наук – это история. Если бы люди знали, насколько причудливо искажено, а то и перевернуто с ног на голову то, что они считают своим прошлым. Ох уж эти историки. Как порой они с ловкостью шулера беззастенчиво тасуют и передергивают факты, в обоснование своих сомнительных идей и теорий. А пуще всего в угоду и по велению сильных. Увы, но таков человек. Быть выше всех, есть два пути - либо самому карабкаться вверх, либо сталкивать вниз тех, кто тебя превзошел.
Он взял с пола наугад журнал, полистал, и бросил обратно.
Есть такое состояние – сплин. Как там? Скука, снижение побуждений…
И еще есть нехорошие предчувствия. Как-то на душе неспокойно. Неужели приближается это? С чего бы?
Ты просто устал, - сказал он себе. Это отчего же? – тут же откликнулся ехидный голосок где-то внутри. От всего, - немного раздраженно ответил он сам себе.
Он сидел с закрытыми глазами, прислушиваясь к звукам вокруг. Как тихо. Только шуршит за окном дождь, да – тик, тик, тик – еле слышно тикают часы.
Тихо, тихо ползет улитка по склону Фудзи…
Он мало что помнил из первой жизни, но как произошло это – запомнил ясно, словно это было вчера. Он сидел на солнышке, на пороге своего дома, растирая распухшее колено. Колено болело. Грудь болела. Боль была тупая и давящая. Старость, старость, думал он, когда увидел приближающегося путника. Осел, которого тот вел на простой веревке, был худой и облезлый. Поклажа малая и небогатая. Путник был усталый и запыленный, но молодой и здоровый. Колени, небось, не болят, и дышит легко и свободно. Он разглядывал путника слезящимися глазами и вдруг остро позавидовал его молодости, и здоровью, и тому, что у того впереди не только дорога, но и вся жизнь. И тогда это и случилось. Голова поплыла, солнце на мгновенье стало багровым и огромным, и он очнулся уже в теле путника. Земля еще покачивалась, и он с ужасом и недоверием смотрел на себя, на бывшего себя, на свое тело, тело старика с остекленевшим взором и открытым ртом, медленно заваливающееся в пыль со своего стульчика.
Сначала он до конца так и не понял, почему это произошло. Но по прошествии лет, когда он умирал после укуса черной гадюки, это повторилось еще раз. И тогда он понял, что избран.
Он не владел этим божьим даром, он не знал, почему и как это происходит, он не мог свершить переход по своей прихоти, но только при условии реальной, смертельной опасности для своей жизни. Словно какой-то ангел-хранитель пристально и ласково следил за ним, чтобы вмешаться в должный момент.
И иногда ему приходилось вмешиваться очень быстро.
Во время переправы через Гронское болото, ему, тогда ополченцу короля Генриха, стрела, пущенная почти в упор, вошла в левую глазницу, мгновенно прошла сквозь мозг, и он еще успел почувствовать, как она с жутким тупым стуком ударила изнутри в заднюю стенку черепной коробки. Мир стремительно померк, но его ангел-хранитель успел. Когда схлынула короткая тошнота, всегда сопровождающая переход, он уже был пехотинцем Оттона Нодгеймского, бородатым верзилой с круглым щитом в одной руке и топором в другой, заляпанным грязью и кровью, стоящим по колено в черной торфяной жиже и дико озирающимся по сторонам.
Ему вдруг захотелось выпить. Он встал и прошел на кухню, к холодильнику. Что тут у нас? Початая бутылка водки, консервы. В трехлитровой банке одинокий соленый огурец, залег на дне, в мутноватом рассоле, среди веточек укропа и зубчиков чеснока, как субмарина, среди водорослей и донных камней. На вилочку тебя. Хлеб резать не хотелось, и он просто отломил кусок руками. Из шкафчика извлек стопочку, подул в нее и протер изнутри пальцем.
Разложил все на столе. Взял в руку консервы.
Скумбрия в собственном соку. Он долго смотрел на этикетку. Надо же - в собственном. Он словно увидел эту фразу под другим углом, наполненную другим смыслом. Если долго вдумываться в слова, они превращаются в набор звуков, начинают терять смысл. Или приобретают совсем другой.
Язык дан нам, чтобы скрывать свои мысли. А слова – чтобы искажать истинную суть предмета. Соседка, женщина в самом соку, часто кричит на своего худосочного мужа-пьяницу: - Все соки из меня выпил, паразит!
Он вскрыл консервы, прикинул, на сколько стопок осталось водки, и ровно на столько же частей нарезал огурец.
Водка была холодной, а огурчик крепким и острым. Он в задумчивости достал сигареты, переставил с подоконника на стол банку с окурками и закурил.
Да, поначалу он возликовал. Вечен!
Поначалу он решил, что теперь может дерзко разговаривать с сильными и показывать язык безносой.
На людей он стал смотреть новыми глазами. Так хозяин удовлетворенно смотрит на скот в загонах и на зерно в амбаре, залог его благополучия и самой жизни.
Одно только поначалу смущало его. Что-то во всем этом было неправильным. Выходило так, что даря ему новую жизнь Бог прекращал другую. Но в конце концов, разве ему судить о путях и помыслах Господа?
Потом ему открылась еще одна, не очень приятная сторона его положения. Размышляя, он понял, что всегда переходил в новое тело не по собственному выбору, а только в человека, находящегося к нему ближе всех, перед глазами. В одном случае, в безлюдном ночном лесу, после встречи с лихим человеком, он перешел в своего же убийцу. Холодея, он понял, что есть и второе условие его дара. Переход возможен только в реципиента, находящегося в зоне прямой видимости.
А что будет, если в роковой момент он окажется один, в пустынном месте?
Вечность оказалась отсрочкой.
И тогда в его душе поселился страх, который уже не покидал его никогда.
Люди воспринимают смерть как неизбежное. Да, страшатся предстать перед последним судом - ибо кто безгрешен? - цепляются за жизнь, оплакивают свою участь, но в душе готовы к ней. Бояться неизбежного глупо и смешно.
Он же стал воспринимать смерть лишь как вероятное. Это было куда страшнее.
Ты что, собираешься жить вечно? Он собирался.
Но за все нужно платить в этом мире.
Поэтому поближе к людям, поближе. И не нужно лишний раз нарываться, не стоит все время испытывать судьбу, она этого не любит. Ничего. Если по течению, иногда только подгребая, что б не вынесло на стремнину, стать неприметным, никому не нужным, сидеть тихо как мышь, то можно жить. И даже, улучив момент, стащить с хозяйского стола свой кусочек счастья. Ничего, что это чей-то объедок, мы не гордые.
Он вздохнул, наливая себе вторую стопку.
Помягче надо быть с собой, нежнее. Себя нужно любить, - сказал он вслух.
Вот он дышит, пьет водочку на обшарпанной кухне под аккомпанемент дождя. Что еще нужно? Власть, золото? Палаты, толпу наложниц, кучу прихлебателей, поющих тебе славу и выжидающих момента, чтобы всадить нож в спину?
Все – суета и томление духа.
Псу живому лучше, нежели мертвому льву.
А стоит ли эта овчинка выделки? Ведь что есть бессмертие в принципе? - подумал он философски. - Бессмертие это всего лишь непрерывность воспоминаний. И не нужно помнить все. Человек не может помнить все. Несколько размытых кадров, всплывающих в памяти – этого достаточно для осознания себя как личности, перемещающейся во времени.
Вот, скажем, наугад: что он делал ровно тысячу лет назад, в год от воплощения Господа нашего Иисуса Христа одна тысяча ноль ноль семь, в пятый индикт, в третьи августовские Иды? Пробел, пустота, словно и не было этого дня в его жизни. И таких дней набирается тьма и тьма. Если начать вспоминать, то окажется, что не так уж много мы помним, так, какие-то крохи да обрывки.
Интересно, есть ли в этом мире еще такие как я? – подумал он, подперев рукой голову и глядя в окно. - Или вот вопрос. Почему я ни разу не перешел в тело женщины?
Черт знает, какие мысли лезут в голову.
Он встряхнул головой и потянулся за бутылкой.
Да, не все оказалось таким сладким.
Жить-то хорошо, но вот входить в новую жизнь каждый раз было трудно, а то и мучительно. Переходя в новое тело, он часто ничего не знал о его владельце, иногда даже имени и положения. Случалось, везло, новое тело оказывалось принадлежащим пришлому и одинокому. Но когда у того была родня, нужно было побыстрее уходить в места, где тебя не знали, бросать нажитое и обжитое, начинать все с начала, иначе приходилось покорно изображать убогого, потерявшего память, забывшего родных и свое ремесло, которое кормило его, запоминать и учить то, чего не было. Его это раздражало и утомляло. Слезы, сочувствующие, а иногда и подозрительные и раздраженные взгляды, кому нужна обуза? Врачи, священники.
А эти разговоры во сне? Поначалу-то ничего, но чем больше менял он тела, а с ними и страны и языки, тем все больше это становилось проблемой. Да и то сказать – с чего это человек во сне говорит на непонятном языке? В военное время могли и за лазутчика принять. А как поступают с лазутчиками во все времена и народы известно. Да и в мирное время хорошего было мало, уж не одержим ли бедолага бесами? А ну, где тут наша святая, естественно, инквизиция?
Но как-то обходилось, везло. Наверное его ангел-хранитель приложил крыло.
Хотя казусы случались.
Он тихонько захихикал, вспоминая, как лет сорок назад, в предыдущей жизни, еле отбился от ученых. Те во что бы то ни стало, желали выяснить, почему конюх тридцати с лишним лет, из глухой ярославской деревни, с трудом окончивший четыре класса и не бывавший нигде далее райцентра, после непонятной потери памяти вдруг во сне заговорил на старо-французском и латыни.
А при Елизавете… или еще раньше, при Алексее Тишайшем?…Ну, не важно. В общем, когда юродивые были в почете, новая родня, заприметив за ним подобное, стала активно раскручивать его как провидца и божьего человека. Видно решила, что с паршивой, то есть больной овцы, хоть шерсти клок.
Пришлось срочно смываться. Линять. Делать ноги. Рвать когти.
Первая стадия опьянения. Болтливость и игривость. До последней, пожалуй, не дотяну, не хватит, - с сожалением подумал он, глядя на значительно понизившийся в бутылке уровень водки.
Хорошее дело монастырь. Особенно - обет пожизненного молчания. Никто ничего не спрашивает. А в келье ночью ты один. А монастырская трапеза? И не только трапеза. Монахи умели сладко пожить.
Да и вообще, раньше было легче. Ушел подальше, назвался любым именем, и живи, налаживай свое существование, как сумеешь, как повезет. Попроще были люди, не было всех этих паспортов и прописок. А сейчас?
Он вылил остатки водки в стопку, подержал бутылку, наблюдая, как последние капли стекают по горлышку. Выпил залпом, докурил сигарету, встал, не глядя, щелчком отправил окурок в открытую форточку, и побрел в комнату. Сквозняк подхватил окурок, занес его обратно в помещение и швырнул точнехонько в мусорное ведро, стоящее у окна.
Вчера, когда он возвращался с работы, нетрезвый сосед курил у мусоропровода.
Увидев его, он выпятил чахлую грудь и вызовом сказал: - Все козлы!
Он не стал возражать соседу. Отчасти оттого, что не хотел связываться с пьяным, отчасти оттого, что в принципе был согласен с этим определением.
Что позволено мне, то не позволено быку. Подпись – Юпитер. Каждый из нас Юпитер, все остальные быки. Или козлы. Принадлежащие к стаду, одним словом.
Уж ты-то козел точно! – с раздражением сказала мужу вышедшая на лестничную площадку соседка и с шумом опорожнила ведро в мусоропровод.
Сосед задумался, и пьяно мотнул головой: - И я тоже.
М-да…
Он плотно прикрыл за собой дверь в комнату. Подремать, что ли, или в магазин сходить? Дождь. Может, после обеда распогодится. Он со вздохом опустился в кресло. Старый стал, ленивый стал… Его вдруг поразила эта фраза, всплывшая в памяти. Старый стал? Его нынешнему телу было тридцать восемь лет, вполне молодое и крепкое тело. А до этого были и более молодые, даже юные. Но уже много циклов, независимо от физического состояния тела, он воспринимает себя не иначе, как стариком, растерявшим за долгое существование вкус и интерес к жизни. Это что же выходит? Он, его Я, то, что принято называть душой, стареет само по себе, независимо от тела?
В старые времена все знали – тело не что иное, как бренное вместилище бессмертной души. А бессмертной ли? Если ей свойственно стареть…
Чудные мысли приходят порой в голову после возлияния, - расслабленно подумал он, погружаясь в дрему в своем старом верном кресле, в своей старой тихой берлоге, в своем убежище, в своей раковине.
Богом позабыт этот край, где лишь листва мёртвая шуршит…
На кухне, попавший в мусорное ведро окурок, делал свое дело. Сначала начал тлеть целлофан от позавчерашней колбасы, потом скомканная бумага. Сначала дымок, потом показался огонь. Язык пламени подобрался к краю свисающей старенькой капроновой занавески, зацепился за нее, и быстро, быстро, как обезьяна, полез вверх.
Посольство было большим и неповоротливым. Впереди ехала дюжина гайдуков в шелковых шапках с алыми кистями, с нашитыми на груди серебряными монетами. Шестерки разномастных коней тащили большие подводы, груженные подарками Великому князю Борису Федоровичу, самодержцу всея Руси.
Сразу за ними в дорожных каретах ехали сиятельный князь-посол Михаил Черторыйский, воевода, лейб-медик и капеллан свиты. За ними сама официальная свита, отряд драгун в шесть десятков человек и подводы с посольским скарбом и утварью. Далее, в каретах и верхом шляхта, добровольцы, примкнувшие к посольству, что бы повидать Московию, всякие яснейшие и благородные паны в сопровождении верховых и пеших слуг. Благородные кони, дар Великому князю, а также восьмерка фрисландских коней, предназначенная для торжественного въезда в город, шли свободно, без груза. Их сопровождали конюхи на простых конях
Его хозяин, вельможный пан Котович, виленский каштелян, высовывает из окна легкой, в две лошади, кареты свою убеленную благородными сединами голову и пронзительно кричит ему голосом соседки: - Пожар! Горим!
Он распахнул дверь в прихожую. В лицо ударило жаром и тошнотворным едким дымом. Вся прихожая была объята пламенем. Горел линолеум на полу, сворачиваясь и сползая со стен, горели обои. Горела одежда на вешалке и старые журналы и коробки у стены.
Почему-то он совершенно не испугался, только подумал с досадой: - Опять! Ну что за невезуха…
Он торопливо захлопнул дверь, мучительно закашлялся от едкого дыма.
Хорошо, что он собственноручно уплотнил внутреннюю дверь, огораживаясь от всего мира, и в первую очередь от соседки, любящей устраивать скандалы мужу прямо на лестничной площадке.
Дверь пока держалась, почти не пропускала дым в комнату. Надолго ли?
Отдышавшись, он вспомнил про окно.
Дождь чуть-чуть поутих, но все еще моросил. Ни одного человека на улице, все сидят по домам. Огромная куча народу сидит по домам. Им нет дела до него. Он им не нужен. Это они нужны ему. Ну, хоть один, – подумал он, и удивился, как спокойно и даже лениво он это подумал, словно и не желал этого, словно эта мокрая безлюдная улица его вполне устраивала.
Потом внизу произошло движение. Какой-то мужчина выскочил из подъезда соседнего дома и зашлепал кроссовками по лужам. Сверху он оценивающе рассматривал своего потенциального реципиента. Молодой. Не иначе студент. Джинсы, курточка с неразборчивой отсюда надписью, бейсболка, на щеках тщательно холимая растительность а ля Че, наверняка страдающий от надуманных юношеских комплексов, и от этого наглый и колючий. Бережно несет красную розу - денег хватило только на одну - своей рыжей герлфренд.
Почему он решил, что она рыжая? А какая же еще? Хм…Хороший довод, логичный.
Сейчас его не станет, - подумал он, и внезапно почувствовал себя от этой мысли как-то неуютно и виновато.
Он даже пошарил глазами по улице – может есть кто другой?
Капризничаешь? – тут же брюзгливо отозвался кто-то внутри его. – А раньше радовался. Он, или другой - какая разница? Можно подумать, что от тебя что-то зависит.
Ладно, ладно, - пробормотал он и опустил веки, приготовился. Вот сейчас это случится, ну… И ничего не произошло.
Он удивленно открыл глаза. С какой-то обидой прислушался к себе. Эй, где ты там? Пора!
Но все оставалось без изменений.
Ноги стали ватными, пересохло во рту да тренькнуло сердце, как будто оборвалось что-то внутри. Ну вот… Неужели все? Но почему именно сейчас?
Не разверзлись небеса, не рухнул мир. Все так же студент семенил по лужам, удаляясь все дальше и дальше. Все так же летели с низких облаков мелкие водяные капли, а он словно застыл в каком-то ступоре. Мысли в голове кружились со скрипом, как изношенные жернова, скакали с одного на другое. Бросил, бросил его ангел-хранитель… И еще одна никчемная мысль упрямо крутилась в голове: – надо было пойти в магазин, надо было пойти в магазин, надо было…
Потом его немного отпустило. Он в растерянности окинул глазами комнату. Все? Это все? Странно, но он совсем не ощущал страха, только какое-то отупение.
Ему многократно приходилось видеть людей покорно и без сопротивления идущих на плаху, как бессловесный скот на бойню. Он никогда не мог понять их равнодушия, он всегда панически боялся смерти и страстно хотел жить, любой ценой, как угодно, но жить. Куда это подевалось?
Я хочу жить! – громко сказал он в пространство, вслушиваясь в звучание слов. Помолчав, еще раз повторил, тише и уже с вопросительной интонацией: - Я хочу жить?
Ничего не шевельнулось в нем, только заныло в груди, и на мгновение померещилось ему, что снова сидит он на своем стульчике, на пороге своего глинобитного дома с узкими окнами-бойницами, на обожженной солнцем кривой улочке, со своим больным коленом и больной грудью.
Только вместо острой зависти к скачущему по лужам путнику было что-то другое, малознакомое и неожиданное – маленькое и теплое, как котенок, чувство жалости. К этому, только начинающему жить студенту, к его рыжей герлфренд…А пуще всего к себе, который век тоскливо бредущему по этой земле. Сколько он их прожил, этих своих жизней, серых, одинаковых, пресных и приевшихся? Господи! Ведь и вспомнить-то практически нечего…Как он, оказывается, устал от них. Настолько, что уже просто не хочет начинать все с начала. Не хочет… Может это и есть третье условие его дара?
А ведь он всегда знал, что когда-то этот момент наступит - ничто не вечно под луной. Только гнал эту мысль, закрывал глаза, отворачивался от нее.
Все в этом мире, без исключения, движется по своему кругу; есть время, в которое оно начинается, срок, в течение которого оно возвышается, и предел, к которому оно приходит. У каждого свой срок, но он определен для всего. Может ли человеческая душа оставаться молодой и жадной до жизни бесконечно в этом вечно меняющемся мире? Нарушая ход вещей и задерживаясь в нем дольше положенного, она неизменно должна и сама прийти к своему пределу, истощиться, как масло в лампаде. Рано или поздно наступает момент, когда мигнет в последний раз огонек, и все, и нет больше.
Полторы тысячи лет, видно, достаточный срок.
Вот оно, время собирать камни…
Ну и пусть… Он даже почувствовал странное облегчение, словно кто-то принял за него трудное решение, на которое он все никак не мог решиться.
Он отрешенно провожал глазами подпрыгивающую фигурку, пока ее не заслонили кроны деревьев.
Что ж, беги, мальчик, лети к своей рыжеволосой белокожей богине. Спеши, жизнь так коротка…
Долгий путь пройден, за далеким облаком сяду отдохнуть…
Девятый этаж. Кто-то барабанит во входную дверь. Где-то, еще далеко, завывает пожарная машина.
Он перегнулся через мокрый подоконник. По ногам пополз холодок – он всегда боялся высоты. Далеко, далеко внизу был залитый дождем свинцовый асфальт, блестящие от воды крыши припаркованных у дома машин. Девятый этаж. До какого этажа достает пожарная лестница?
Стремительно летящая навстречу, прямо в лицо, земля. Разрушенное тело. Морг, холодные, оббитые оцинкованным железом столы с наваленными на них голыми телами, тусклый свет, поддатый санитар с прилипшей к губе папироской. И тошнотворный с непривычки запах. Карболка, или что там у них? В прошлом году он побывал в морге, когда умер сослуживец, и это произвело на него впечатление. Не вид неприкаянных мертвых тел так поразил его, к покойникам он относился без страха и с почтением, он много повидал в своих жизнях смертей - и от старости, и от болезней, и от оружия. Поразила его равнодушная, будничная, как на дровяном складе атмосфера заведения.
Почему человек не летает, как птица?
Он вспомнил о попугае, поднес к окну клетку с Кешей, открыл дверцу. Кеша, Кеша, гулять. Попугай выбрался из клетки, и стал, не спеша, прогуливаться по подоконнику, брезгливо поджимая лапки от залетающих брызг. Он никуда не хотел лететь. Лети, дурак. Кеша хороший, – неуверенно произнес попугай и принялся искать клювом у себя под крылом.
Ничего. Окно открыто, огонь заставит его вспомнить, что он птица, что он должен рассекать крыльями холодный упругий воздух, а не сидеть в уютной клетке, у кормушки и забавлять хозяина.
А я? Что должен я?
Он сел на подоконник, рядом с попугаем. На спину упало несколько холодных капель.
Только теперь ему стало страшно. Сладкий ужас, зародившийся где-то в ослабевших ногах, поднимался к сердцу, перехватывал дыхание. Но не перед огнем.
Что же ждет его теперь там? И ждет ли?
Его первое тело, когда-то, давным-давно, было предано огню, согласно вере и обычаю, пусть и последнее… Цикл должен замкнуться правильно. Выдержу ли?
Сирена выла пронзительно и противно – пожарная машина уже въезжала во двор.
Но и дверь прогорала. Пластик коробился, выгибался. Темное пятно, причудливо меняя свою форму, расползалось во все стороны. Желтый туман наполнял комнату. В горле першило. В центре пятна возникла черная точка, из нее пыхнула струйка дыма, и первый робкий язычок пламени пополз по двери.
Маленькая огненная улитка.
Тихо, тихо ползет улитка…
Голосование:
Суммарный балл: 50
Проголосовало пользователей: 5
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 5
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
Вниз ↓
|
Оставлен:
ТАЛАНТЛИВО. СЮЖЕТ, СЛОГ - ПРЕКРАСНЫ. я уже вроде читал у вас эту работу.
|
Goodwin50
|
|
Оставлен:
Да, была, потом убрал, а тут конкурс подвернулся. Но хочу сказать, проза на сайте - неблагодарное дело, мало кто читает, я и сам с экрана читать не люблю...
|
volot18
|
|
Оставлен:
Да, что только не навертят нейроны мозга. Так навертел! Читается см интересом, написано мастерски!
|
|
|
Оставлен:
Сильно, но конец немного разочаровал. Может, пожарных в сюжет стоило включить? Или человека в жёлтом комбинезоне, который ремонтировал фонтан?:)
|
|
|
Оставлен:
Так ведь конца-то и нет, может успеют спасти, может в пожарника переместится, я специально однозначного ответа не дал...
|
volot18
|
|
Оставлен:
Интересная работа, достойная претендовать на победителя этого конкурса.
|
Kobelev59
|
|
Оставлен:
Da, dejstvitel'no sil'nejshaja rabota.. Zamechatel'naja "koncovka", dajuschaja volju fantazii.....
|
|
|
Оставлен:
Да, Вы правы, я и попытался представить, как себя бедет вести человек в подобной ситуации, и мне кажется, большинство так себя и будут вести, ситеть тихо в угла, кабы чего не случилось...
|
volot18
|
|
Оставлен:
Очень интересные мысли и сопостовления прочитал я здесь.....В этом рассказе все интересно от начала до конца!!!
|
|
|
Оставлен:
Интересный сюжет, прочитать бы повесть побольше, с описанием его приключений в прошлых жизнях!
|
|
|
Оставлен:
Прочитал с большим интересом. Здорово!!! Желаю победы в конкурсе!
|
ev679540
|
|
Оставлен:
Спасибо, действительно, тема смерти волнует человечество больше всего...
|
volot18
|
|
Оставлен:
Безусловно очень талантливо и с вхождением в образ написан рассказ.Только вот время прочитать его выдалось в конце дня!Сайт очень динамичный и читают еденицы.Я даже не знаю,что предложить.Давать анонс "ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ РАССКАЗ С ЭЛЕМЕНТАМИ МИСТИКИ,НО НЕИМОВЕРНО РЕАЛЬНЫЙ!"Мне очень понравилась Ваша проза!
|
mikys53129
|
|
Оставлен:
да, проза на сайте - неблагодарное дело, мало кто читает, я и сам не люблю читать с экрана. Спасибо за отзыв...
|
volot18
|
|
Оставлен:
"В старые времена все знали – тело не что иное, как бренное вместилище бессмертной души. А бессмертной ли? Если ей свойственно стареть…"
пондравилось особенно ага :))))) |
|
|
Оставлен:
ЮрьВладимирыч, переведи
чё-то не догал (не выспался, наверное... только что с собственного акустического концерта из Киришей приехал) ага :)))))))) |
|
|
Оставлен:
Демон, на то ты и Демон...
Это я не выспался, когда отвечал... |
volot18
|
|
Оставлен:
Аня, Вы правы... Это сложный, и я бы сказал, неразшреимый вопрос. Как в таком случае поступить? Я сам не зная, как бы постил я...
Если бы случилось.... |
volot18
|
|
Оставлен:
Путешественник во временах . В следующей жизни переселится в писателя ,вышедшего прогулять собаку,и подробно всё опишет ....
|
|
|
Оставлен:
насчет монитора - согласен, сам не люблю с экрана читать. Спасибо...
|
volot18
|
|
Оставлен:
слог, сюжет. все великолепно, очень достойная работа, за которую просто нужно голосовать.10+1000000000000000000000000000 заходите в гости на страничку, посмотреть мои конкурсные работы. буду рада.
|
Babochka29
|
|
Оставлен:
спасибо, я просто пытался представить, как будет себя вести человек в подобной ситуации...
|
volot18
|
|
Оставлен:
вот...поведение зависит от характера, интересов и т.п. Тот вариант, что я предложил, вовсе не обязательный...
|
volot18
|
|
Оставлен:
кстати, Ваши коментарии подсказали мне новую концовку рассказа, может быть я его попозже переделаю. А суть такова: герой не смог перейти в студента, потому что студент тоже "бессертный", такой же как он, один из избранных. А мой герой перейдет, например, в пожарного, поднимающегося к нему по лестнице. Да и вообще, в повесть можно развить рассказ...
|
volot18
|
|
Оставлен:
раньше был просто рассказ. Потом убрал. Потом конкурс объявили - выложил снова...
|
volot18
|
|
Оставлен:
спасибо. День сурка смотрел раз пять (не подряд, конечно), тоже нравится...
|
volot18
|
|
Оставлен:
Прочла с большим интересом! Хорошо написано!
Желаю успеха в конкурсе!  |
Geba22
|
|
Оставлен:
Мда... Тема смерти, наверно единственная трогающая всех приблизительно одинаково...
|
|
|
Оставлен:
Рассказ отличный!Сильная вещь и философски глубокая!Всех благ!С солнечным лучиком,
|
|
|
Оставлен:
спасибо :))), Анна, но именно растерянность, квартира горит, и человек не знает что делать. Окинул глазами, а чем? Окинул ушами? задницей? (извините). Спасибо за отзыв :)))
|
volot18
|
|
Оставлен:
может быть не глазами, а взглядом, соглашусь... Что касается растерянности, то на работе горел парогенератор, что чревато взрывом, и минуты две-три была растерянность, пока не сообразил, что делать...Анна, простите, Вы читали рассказ? Он длинный, значит все остальное хорошо? :)))
|
volot18
|
|
Оставлен:
В моих интнресах - что бы Вы, и все остальные критиковали. Но, извините, Ваше и мое мнение может расходиться. В данном случае окинул глазами написано умышленно. Что касается лишнего, не спорю, есть, но мало (поверьте, я многократно кроил и переделывал тест). Кстати, сейчас я задумал совсем другую концовку, не верное, попробую переписать.
С уважением |
volot18
|
|
Оставлен:
Вот видите, Юрий, наш разговор(двух сознательных людей) всё-таки не был пустословием.
Успехов Вам. |
|
|
Оставлен:
Да,серьёзная вещь,тянет на роман,интересно написано,Я думаю у Вас есть бкдущее в плане художественно философской темы.Успеха!
|
|
|
Оставлен:
очень может быть, дело не КАК, дело - что человеку такому делать?
|
volot18
|
|
Оставлен:
Заинтриговало! Особенно "японские хоку" (которые "хокку" и никакими иными кроме японских быть не могут) и сплин, как "снижение побуждений"
|
|
|
Оставлен:
согласен практически по всем пунктам, хотя я люблю стабильность (привычка свыше нам дана), но в быту, это облегчает жизнь, а в смысле интеллектуальном - да, всегда ищешь новизны, скука - это одно из самых страшных для меня состояний...
|
volot18
|
Вверх ↑
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
 Трибуна сайта
Трибуна сайта Наш рупор
Наш рупор Радио & Чат
Радио & Чат











 Скажите, Volot, всё же это очень грустно - иметь такое чудо и по-прежнему оставаться неприкаянным. Всё равно, что имея золотую посуду собирать объедки по помойкам.
Скажите, Volot, всё же это очень грустно - иметь такое чудо и по-прежнему оставаться неприкаянным. Всё равно, что имея золотую посуду собирать объедки по помойкам. 






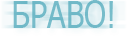








 Категории
Категории Работы на продажу
Работы на продажу