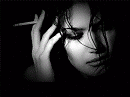-- : --
Зарегистрировано — 123 417Зрителей: 66 504
Авторов: 56 913
On-line — 19 565Зрителей: 3849
Авторов: 15716
Загружено работ — 2 122 868
«Неизвестный Гений»
Немилостивый на кровопролитие
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |

Стук… стук…
Тяжек перестук копыт о толстые доски полоцких мостовых. Черны копыта без подков, черны кони без седла, – только гривы бьются по ветру. Нет ни поводьев, ни узды – черным коням не нужна сбруя, они покорны седокам и без нее. Бешеное пламя бьется в зрачках, пена пузырится на губах, злое фырканье заставляет содрогнуться и спрятаться получше, а пуще того – бежать куда глаза глядят. Страшен вид черных коней, а еще страшнее всадники на них: глаза что уголья, густая волосня торчит жесткими клочьями, крючковатые когти венчают каждый палец. Но некому увидеть их и ужаснуться – никто в здравом уме не кажет и носу на полоцкие улицы. Ни щелочки света не пробивается сквозь сомкнутые ставни; не слышно ни гуслей, ни дробного топотка припозднившихся гуляк, ни жаркого любовного шепота, – вымер древний Полоцк, затих, сжался под одеялами, заперся на все замки. Кто победнее – кочергой подпер дверь, кто смог – тяжелые железные засовы спешно купил. Но даже на хладное железо невелика надежда. Как невелика она и на гостеприимно распахнутые бани, где накрыты столы…
Что стряслось, чем прогневали полоцкие жители неупокоенных навий – Бог весть. Поп православный приходит и бает – это, дескать, оттого, что доселе не вырублены священные рощи и не брошены в печь дедовские идолы; волхв приходит и грозит еще пущими карами тем, кто позабыл древнюю веру и носит знак Христа на груди. Старухи молодежь клянут за то, что Навий день плохо отмечает, покойников плохо поминает, а молодые на стариков косятся – небось, они и наслали за непослушание!
А тем временем все больше становилось в Полоцке людей с навьей меткой – следом на теле или же на лице, серым и будто бы мертвым, быстро расползавшимся по всему телу. Каждый, кто получал такую метку, был уже не жилец, и зря кадил в церкви ладаном поп, зря варили свои зелья Ягины бабы: не проходило и седмицы, как меченый умолкал навсегда. Получить такую метку проще простого: достаточно малейшего соприкосновения с черным всадником, одного волоска, упавшего на плечо или мановения колючего хвоста, задевшего по руке, – и вместо рубахи придется шить саван. Как ни прятались добрые горожане, как ни запирались на тяжкие засовы, как ни молились и не вешали по всем притолокам и ставням старинные обереги вкупе с христианскими крестами, – ничего не спасало. Обрядовая пища у бань оказывалась съедена черными конями – всадники к ней не притрагивались…
И все чаще раздавались шепотки: непроста все это, ой, неспроста! Не сумели верными своему князю быть – вот и кара за то пала на весь полоцкий люд…
Урожденный князь Полоцкий, Всеслав Брячиславич, ведун и чародей, вот уж четвертый год как лишен престола. Двухродные братья – Ярославичи, родная кровь, да чужие души, обманом завлекли его, будто на переговоры, на кресте клялись обиды не чинить, да обычай крестного целования порушили и в полон взяли. Переменчива ты, воинская удача; как ни силен, ни отважен был князь Всеслав-Чародей и его старшие сыновья, а победное ликование не раз сменялось болью поражения. Но пленить князя оказалось возможным только обманом и хитростью.
То-то и терпит древний Полоцк бедствие, то-то и восстали нечистые навьи против живых…
В самом-то Полоцке, вишь ты, с тех пор, как князя законного не стало, и без всяких навий неспокойно. Ярославичи хоть Всеслава и одолели, а меж самими согласья не было и нет. Споры да раздоры, а люду полоцкому – разоренье. Нет мира в полоцкой земле, нет благоденствия. Русич на русича, брат на брата идет войной, даже самые бедные бедняки обзавелись не мечом, так хоть каким оружием, вместо зипунов тегеляи носят – все безопаснее. Да, видать, без навьего нашествия не задумались бы, что так негоже.
А всего хуже то, что навьи не всех, кого отметили, губят. Бывало, и щадят. Да только от пощады такой еще горше, чем от смерти честной. Коль возьмет бедолагу кончина, так отпоют его честь по чести, справят тризну и чтят наравне с прочими ушедшими. А коли остается меченый в живых – пиши пропало. Пропадает румянец со скул, сам человек как восковой становится – ровно двухдневный покойник, пальцы холодеют и перестают слушаться, голос глохнет и теряет звучность, а губы синеют. У иных и ногти вылезать начинают, да без крови – точно как у мертвеца. И в глазах на дне такая мерзлая пустота, что, кажется, еще немного посмотри – и выбегут из той пустоты щупальца да затянут на веки вечные. Правда, и недолго-то в глаза меченым не всякий смотреть отваживался. Да это если знать, что он меченый, а если не знать – выглядит человек почти как прежний. Подойди к нему, поклонись, заговори…
Убьет.
Меченый – навий раб, на печке не сидит, в лес не бежит, в болоте не топится, как лихоманью болотной околдованный, жить среди людей продолжает, но цели, желания у него не людские отныне, а навьи. А что навьям надо? – смерти, чтобы всех взяла. Для того, отняв душу, даруют они рабам своим силу немереную, да свирепость неутолимую, да храбрость звериную. Лезет навий раб на рогатину, на меч, ничего не боясь, с голыми руками – и убивает. Потому что не в силах человеческая душа вынести бой с таким противником.
Со страху да с голодухи многие полочане и без всякой метки стали выглядеть – краше в гроб кладут. И теперь уж никому веры не было. Мало ли – бледный и осунувшийся сосед твой, которого всю жизнь, почитай, знал, вчера всю свою семью перебил да крови их нахлебался; а второй сосед тоже бледный и тоже осунувшийся – спроста ли? А ну как тоже меченый?
А надежа-государь, молодой князь Ярополк Изяславич, отцовыми и дядьевыми дружинами у Всеслава Брячиславича Полоцк отвоевавший, в терем свой забился и носу оттуда не кажет. Оно бы и понять его – страшно, холодно, того и гляди, чудища на черных скакунах и днем появятся, даже солнце ясное померкло с тех пор, как навьи в Полоцке объявились. Да ведь князь простому смерду и даже думному боярину не чета. От Бога власть его и от заветов праотеческих, венец княжий его от нечисти оберегает – негоже труса праздновать!
Стук… Стук… Стук…
Не смолкает перестук черных копыт, не останавливаются в вечном поиске навьи. Не пробивается ни лучика света из закрытых наглухо ставен, не скрипит подпертая хладным железом и омытая святой водой дверь, не звучат людские голоса в домах.
Смерть и отчаяние витают над Полоцком.
Занимается заря над Голотическом. Тихо в Голотическе и спокойно, да только затишье это – как то, что в небе перед большой бурей бывает. Люд посадский, шорники да кожевники, гончары и златокузнецы, просыпается да, помолясь и хлеба преломив, спешит в труды окунуться, пока беды не случилось; люд ратный же новые латы и оружие опробует да кремль деревянный укрепляет – чтобы встретить беду грудью, ничего не боясь…
Все то видит вещий Всеслав, князь-изгнанник. Не замечает он ни простоты льняной рубахи и серебряных обручьев, ни потертости ножен – благо меч в них сокрыт дивной работы, булатный, из тех, что на торгу стоят золота вдвое против своего веса, и никто не жалуется на дороговизну. Не замечает тесноты малого боярского терема, в котором вместе с семью княжичами ютится с тех пор, как покинул стольный Киев, да войско его – малое, с бору по сосенке – было разбито Ярополком. А вот что вокруг творится, чем люди живут, чем дышат, о чем мир с ним поутру говорит – замечает до последней росинки, до последнего шепота в людской.
Давыд, Глеб, Борис, Роман, Святослав, Ростислав, Рогволод… Славные сыновья, на загляденье, и на охоте, и на ристалище, и в делах государственных знают толк, и в учении искушены, а главное – унаследовали отцову особую силу. Давыд и Глеб – статные мужи, силой и ратным искусством уже почти не уступающие отцу, отведавшие вместе с ним горечи киевского плена; Ростислав же и Рогволод – вовсе мальчишки. Особенно Рогволод. Уберечь бы его, пока не вошел в полную мужскую силу.
Но вот незадача – подсказывают отцовское сердце да чутье зверя, неспокойно ворочающегося в душе, что не время нынче беречься. На кон поболее, чем жизни, поставлено.
Князь отхлебнул квасу из резного деревянного ковша, прислушался.
Жуткие да странные вести приходили из его родового гнезда – Полоцка. Вселав, не зря прозванный Чародеем, нимало не сомневался в их правдивости, только дивился и горевал. Отроду такого не было, чтобы навьи живых одолевали да в свои темные чертоги влекли!
А как их победить и обратно во мрак загнать – того Всеслав не ведал.
Прожив на свете полсотни годов, он понял многое. Познал и победы, и поражения. Увидел, что силой одного не переломить силу многих, что чародейством не одолеть хорошо обученную дружину, а одним, даже самым острым и заговоренным мечом, не спасти целое княжество. Не верил уже ни в родственную любовь, ни в святость клятвы, данной на кресте. И на помощь союзников не надеялся.
Верил лишь своему разуму и надеялся на собственную удачу, зная, что без разума удача не спасет.
Но сейчас его разум терялся. На что положиться? На чародейские ли силы, всей мощи которых и сам Всеслав не знал? На дружину ли верную да на сыновей, умеющих меч в руке держать? А может быть, и вовсе ничего не предпринимать – выжидать, пока Полоцк сам в руки спелым яблоком упадет?
Яблоком, истерзанным гибелью на черных конях…
– Нет, – вслух произнес князь, сжав огромный тяжелый кулак, – хватил им по стене, бородой кудрявой тряхнул. – Не бывать тому! Мой град, мне его и выручать!
– А как его выручить, отче? – послышалось от дверей.
Роман. Губы Всеслава, в последнее время все больше сжатые и окованные в глубокие горькие складки, невольно дрогнули в улыбке.
Молодой, горячий. Таким и сам Всеслав в юности был.
– Обмозговать все надо, сын, – сказал спокойно, будто и не было тяжких раздумий. – С бухты-барахты соваться нельзя, а и медлить нечего, выручать некого станет.
– Да что тут мозговать, отче? – пылко воскликнул Роман. – Али мечей у нас нет булатных, али дружина верная за нами не пойдет, али горожане нам ворота не откроют? А тот, что князем себя зовет, – пусть только посмеет что супротив твоей воли молвить!
– Навьи не из тех врагов, чтобы одними мечами их одолеть, – напомнил Всеслав.
– Так у нас и мечи не одни, – Роман прищурился хитро.
На поясе у него, как и у всех его братьев, и у самого Всеслава, висел еще один нож. Особый. Из камня, но такого тонкого и остро отточенного, что не всякая сталь с ним сравнится. И на рукояти – Перунов знак.
Всеслав и без него уже понимал, что это последнее средство – единственное, которое может стать действенным. Но и опрометчиво кидаться в битву не хотел.
– Головы сложить – дело нехитрое, – бросил хмуро. – Зови старших, совет рядить будем.
Нахлынули воспоминания. Словно наяву, послышался стук топоров, в ноздри ударил запах свежей древесины – Всеслав прежде любил этот запах, но только не теперь, когда свежим деревом пахла неволя и тьма. Один за другим ложились вокруг преданного и плененного князя бревна, отрезая от жизни, от веры, от надежды, и так же огораживали бревна старших его сыновей.
Тридцать долгих месяцев провели они в порубе. Провели, чтобы выйти оттуда прямиком на киевский престол…
Верно ли поступил князь Всеслав, что, оставив войско свое, обернулся и ушел на волчьих лапах в родной Полоцк? Может, и мнили его ратники предателем, а вороги – трусом. А может, и нет. Слепой случай да невольная милость киевлян вознесли Всеслава на престол, не воля Божья; долго ли было ждать, что другой случай приведет Всеслава обратно в поруб, а то и на поток и разграбление? Бог ему другое судил – Полоцк отвоевать да у навий отбить.
Послышались шаги. Нет, не сыновья. Один кто-то шел – торопился.
Всеслав расправил широченные плечи, откинул седовато-русые кудри со лба. Высокий, но кряжистый, он не казался массивным, но внушал невольное почтение величавой статью. Почтение – и сыновнюю любовь дружинников и бояр, которым платил отеческой привязанностью.
Молодой гридень вбежал, поклонился. Князю бросились в глаза его бледность – до синевы, до серых кругов под мертвыми глазами да лиловых губ. Рука, приложенная к груди, казалась восковой.
– Что ты, Онфим? – спросил Всеслав, тревожась. – Что за вести принес?
Онфима он давеча посылал в Полоцк – разведать, что там происходит, и ждал его возвращения, как не всякая молодая жена ждет мужа из похода.
– Хорошо все в Полоцке, княже, – глухо произнес Онфим. – Все ладно, а что врут про тьму да упырей, так то враки досужие.
Всеслав облегченно вздохнул – ну вот, и воевать Полоцк не надо, – и вдруг что-то кольнуло под сердцем.
Онфим, парень молодой, одних лет со Святославом, и статью на него похожий – такой же рослый, крепкий, но легкий на ногу и верткий, так же гордо и почти призывно вскидывающий светловолосую голову – если что и любил, так это смех и веселье. И уж о том, что в Полоцке, где мать да братья-сестренки с зазнобушкой остались, все хорошо да ладно, не выговаривал бы, едва языком ворочая да вперив потухший взгляд куда-то в угол, а пел бы да кричал, так что борода золотилась-топорщилась от радости.
– Почто ж такой померклый ты, Онфиме? – тихо, боясь поверить самому себе, спросил князь.
А Зверь в глубине души ворохнулся, щетиня шерсть на загривке, и негромко, опасливо зарычал…
– Устал, ясный княже, – Онфим опустил голову, – три ночи без сна – все повеление твое исполнял, искал, есть ли в Полоцке что неладное, да не нашел.
Вот ему верить – хотелось. Хотелось проснуться, как от дурного сна, и к ужину встретить отдохнувшего и веселого, близкого, родного Онфимку, которого мальцом на коленях нянчил, а любил едва ли не паче сыновей родных. Да Зверь в душе не утихал – рычал и рычал.
– Ступай, Онфиме, отдохни да выспись, – сказал мягко, – после поговорим.
Любил князь Всеслав отвернуться к окну, вроде видел через слюдяные пластины что-то занятное, а затем резко обернуться к собеседнику – что-то глаза выдадут? Так он делал с теми, кому не доверял. Онфиму до сегодняшнего дня он бы и жизнь свою, и честь доверил не раздумывая. Но сегодня это доверие закончилось.
То и спасло.
Полыхнули гридневы очи двумя угольями, лицо засинело, изо рта желтые клыки выбежали, в руке ровно сам собой нож очутился – прыгнул Онфим на князя, как зверь дикий. Нож рубаху льняную пропорол…
А и остановился.
Вишь ты, рубаха та непростая была.
Не любила княгинюшка, верная Звенислава, когда муж ее любимый оборачивался. Оттого и расшивала сама, чернавкам не доверяя, все его рубахи священными знаками солнцеворота, триглава и лебедя. Никакая мара из Кощного мира, никакая нечисть, никакая злая мысль не могла коснуться того, кто в такой рубахе ходит. Однако и самому Всеславу не было воли оборачиваться – не пускали его княгинины обереги.
Смеялся Всеслав над Звениславой, глупой своей женишкой звал. Да и как не смеяться? Веровала Звенислава во Христа, молилась истово, а сама с рождения видела и навий, и прочих, да более того – приказывать им могла и силу их своей обращать. Но зря, видать, смеялся – любовь жены паче кольчуги оказалась.
Опомнился Всеслав. Понял – не Онфим более перед ним, не человек, нечисть черная. Схватил он гридня бывого, руки вывернул, об пол как швырнул – из пасти навьей темная пена и выплеснулась.
Сорвал с себя Всеслав рубаху, оборачиваться уж недосуг было – просто выпустил звереву силу, схватив и сжав синее мертвое горло, да зашептал заклятия, которым его Зверь учил под полной луной.
Содрогнулся Онфим под ним. И вдруг начал… изменяться. Не оборачиваться, как сам князь с сыновьями, а именно изменяться – ушли навьи клыки, ушла синева с лица, ушло мертвое сияние вертикальных зрачков. Стал Онфим – прежним Онфимом, ясноглазым да светлолицым. Только не было больше румянца на этом светлом лице, не было жизни в глазах. И вместо тепла молодого тела пахнуло на Всеслава коченелым холодом да едва уловимым запашком разложения.
Зверь во Всеславе шумно выдохнул и улегся: навья сила покидала мертвеца…
– Эх, Онфимушко, сынок, что ж ты не уберегся? – загоревал князь. – Знал бы, что так выйдет, сам бы пошел!
А сердце больно стучало: это я парня не уберег, я его послал в Полоцк, я ему даже оберега с собой не дал. Я в смерти его повинен. Да в какой! Нет горя в честной смерти воина, горе – быть навьей жертвой.
Вошли сыновья, кто-то спросил «Звал, отче?», но при виде погибшего Онфима всем стало не до того – сгрудились над мертвым, молчаливо, по-мужски, оплакивая товарища.
Всеслав резко встал – всякий раз после использования силы Зверя без подготовки силы его истощались, и ему следовало отдохнуть, оттого и присел на скамью. Ан рассиживаться было некогда.
– Рогволод, – велел, – поди да кликни мать, скажи – отец говорить с ней желает…
Ровно в детской игре, где из щепочек надо было собачку али человека выложить, – сложилось у Всеслава решение. Непростое решение, тяжко оно должно было даться всем, и паче всех – самому Всеславу. А иного верного не находилось.
Княгиня Звенислава, выслушав мужа, отпрянула.
– Нешто можно так? – горько выговорила.
– Да ведь ты, голубко, дивные узоры творила ровно играючи, отчего ж нельзя? – ласково произнес Всеслав.
Понимал он, ох, понимал, что она сказать хочет. Но притворился, что не понял.
Княгиня его тон не приняла.
– Господь заповедал не осквернять душу черным ведовством, – молвила сурово. – И не буду. И тебе, княже мой светлый, не советую.
– Отчего же черным, голубко? – Всеслав взял княгиню за плечи, всмотрелся в любимое лицо. Много воды утекло с тех пор, как обвели круг ракитового куста, а потом обвенчали их, в ту пору еще не ведавших ни седин, ни горя, ни изгнания. Он уже тогда был князем – молодым, да сильным, но к его имени еще никто не добавлял почтительное «вещий» или боязливое «чародей», а она – дочерью одного из думных бояр. Не слыла она красавицей, не дал отец за ней богатого приданого, а вишь, как оно получилось: увидал ее князь Всеслав – и сердце дрогнуло, как никогда больше не вздрагивало, да ночью при выходе полной Луны впервые затянул призывную песню Зверь…
Теперь-то у них – семеро сыновей, старшие из которых уже женаты, а прочие вошли в возраст мужания и умели держать в руках меч. Умудрены жизнью оба, и князь, и княгиня, морщины избороздили чело; легкое некогда тело Звениславы погрузнело, а коса обильно серебрится под утренним солнцем от седины. Да и у Всеслава седины – пол-бороды и пол-головы… А сердце как вздрагивало при входе княгини в опочивальню или в горницу, так и вздрагивает.
– Отчего черным? – повторил Всеслав, заглядывая в серые глаза княгини. – Светлое то ведовство, и богам, и твоему Христу угодное, потому как за правое дело стоим, за землю свою! Нешто не благое то дело – родные пенаты от нечисти оборонить? Людишек прикрыть, по мертвым достойно тризну справить, а навий – обратно в их Кощный мир, чтобы сами не колотились да нас не тревожили! Не видала ты разве Онфимку? Что, коли наших сыновей вот так же… в мертвецов немертвых оборотят? А коли всю Русь?
Закусила губу Звенислава.
– Женушка моя, рябинушка, лебедушка ясная, пойми одно: ты теперь нам щит и оборона, без твоей силы нам только головы сложить и остается, – Всеслав обнял ее и продолжал: – Нешто я враг Христовой вере? Не я ли Софиевский храм заложить велел, что и посейчас над Вышним городом царит? Коли Полоцк возьмем – велю еще церковь и монастырь заложить!
Звенислава молчала, грустно глядя мужу в грудь.
– Если и грех то – так мой это грех, не твой, – прошептал Всеслав. – Я за тебя в ад пойду, как при жизни в огонь и в воду.
– Заради сыновей полоцких, – тихо проговорила Звенислава, – и заради тебя, княже милый, сделаю. Вели шелку цветного прислать побыстрее, а лучин побольше нащепить, чтобы я и ночью могла…
Отстранился Всеслав.
Отстранился, чтобы поклониться Звениславе в ноги.
Шелка у Звениславы в ее горнице и так были – она же и села за пяльцы, не медля нимало, а к ней мало-помалу потянулась князева дружина: несли сорочки. Побежала игла с золотым ушком, повела за собой нитку черную – а вослед ей другая игла повела нитку красную, жизнь вослед смерти, стежок за стежком…
Всеслав же кликнул молодого копьеношу и велел ему в церковь идти, святой воды достать.
А уж кольчуги пластинчатые у княжеских дружинников и так были починены да начищены.
Сам же Всеслав отложил и кольчугу, и меч, и щит, и рубаху, Звениславой вышитую. Не нужны они были ему в предстоящей сече, а нужны были силы неотмирные, Зверь да воля Божья. Теперь оставалось лишь дождаться полнолуния – да молиться, чтобы Звенислава успела знаки-обереги на сорочках вышить.
И ночью, щурясь, выглядывать сквозь слюдяные пластинки окна в темное небо, где ночь от ночи рос серпик месяца…
Стук… Стук… Стук…
Тяжки черные копыта, бьющие, ровно в гроб, в полоцкие мостовые; страшен оскал черных коней – никогда из черных пастей не вырвется ржание, и зубы в тех пастях, бают, мертвые, как бы сгнившие.
Да стоит ли верить в те байки? Кто лицом к лицу столкнулся с черным всадником – долго не проживет. И сил на байки у него уж не останется.
Страх витает над Полоцком. Уже не навий на черных конях – друг друга люди боятся. Лавки позакрылись, чтобы ненароком тьму в гости не приманить. Ремесленники, у кого мастерская не прямо в дому, все дела позабросили, есть нечего – а работать идти боятся. Харчевни на засовы заперты стоят – а ну как уже бывало, что вперся всадник на черном коне прямо в харчевню, да сидел, ждал тихохонько, зубы мертвые щерил, пока конь его человечью пищу жрал? Люди, кто в харчевне был, мигом разбежались, а иные под лавки попрятались. Но ни бегство, ни укрытие никого не спасло – все скоро перемерли, а иные и того хуже: обратились.
Ходят полочане, друг другу в глаза заглядывают: хорошие ли глаза, человечьи ли? Али странные, как у козы или совы, с вертикальными зрачками, в которых адский пламень пылает? К лицам присматриваются: живые лица ли, теплые ли? Али синие да неподвижные, как у гробового жителя?
Дня не проходит, чтобы кого не побили на городских улицах: заметили синюшное безжизненное лицо да остановившийся взгляд, да изжелта-восковые руки – и ну колотить, зипун на голову накинув! По крикам только и определяли, то ли это поселянин с голоду да от страха постоянного такой, то ли раб навий: раб молчит, а когда и говорит, то глухо и медленно, будто нехотя, обычный же человек будет кричать да клясться, что живой он.
Брат сестру боится, жена – мужа, чадо – родителей, боярин – холопов своих. Даже вор на промысел свой окаянный выйти не решается: кто знает, золотишко ли с шелками в том запертом доме, или мертвецы, которые – стоит только повернуться спиной – вскочат да набросятся, щеря желтые гнилые клыки?
И только в церквях люд толпится: молятся непрестанно, крестятся, а кто и просто в храм святой забежал в последней надежде спастись.
Попы всенощную служат.
А над Полоцком восходит полная луна, и здания да кусты отбрасывают четкие черные тени…
Юный церковный служка, пробегая от колодца к церкви, на миг остановился – промешкал.
Стук… Стук… Выскочил из-за угла черный конь со всадником. Служка так и застыл: знай молился про себя, чтобы не заметил его навий всадник да конь его… А за всадником бегут-поспешают еще трое. С виду вроде люди, да какой же человек в здравом уме будет за навьями носиться?
Обмер служка. У всадника с конем тени-то и нет! Да ежели разобраться, какая тень у выходца из Кощного мира?
Зато у троих его прислужников – сразу по две тени. Одна человеческая, обычная, какая у всякого человека бывает. А вторая – дивно изломанная, и страшно стало бедному служке даже думать, какая тварь может такую тень отбрасывать.
Перекрестился служка и – бегом в церковь от греха подальше…
А меж тем стены полоцкие обступили другие люди.
Многие из них Полоцк знали как свои пять пальцев. Родились здесь, выросли, мальцами резвились, подросли – копьеношами пошли в княжескую дружину. Князю Всеславу на верность присягнули. Многие из тех, что постарше, еще до Киева знали Всеслава и не отступились, когда в поруб его посадили.
Вместе с ними на белом коне мчалась княгиня Звенислава. Коленями в мужских портах коня сжимая, чтобы не упасть, одной рукой узду придерживая, второй она последние стежки клала на сорочку, зажатую в зубах. Неровные стежки удавались, не чета тем, что на княжьих сорочках были. Да ведь не для красоты и вышивка!
И не от красоты ее сила зависела – от сердца, что по-матерински вложила Звенислава в каждый стежок.
С восторгом ее дружинники чествовали. Княгиня была не из тех, что в теремах от жизни хоронятся. Знавала она вкус походной каши да мяса, что весь день под седлом просаливалось; из самострела не одного ворога застрелила и меткостью славилась. А уж с конем умела дружбу завести такую, что все диву давались. И как ей удалось доброту свою да нежность сохранить – того и сама не знала.
Тихо шла княжеская дружина. Копыта конские тряпками обмотали, чтобы не так грохотали.
Остановился Всеслав, рукой махнул: стой, рать доблестная.
– Здесь, – молвил, – расходятся наши пути. Ты, Нежата, дружину поведешь. А у меня с сыновьями другая дорога.
Нежата – опытный, испытанный в боях воевода, дружине отец названый, а князю Всеславу брат молочный, – только кивнул.
– Да смотри, княгинюшку мне сбереги!
И снова кивнул Нежата.
В это время Звенислава закончила вышивку. Взлетела белой лебедью последняя сорочка – протянул руку один из дружинников, последний, у кого зачарованной сорочки еще не было, да взял ее из воздуха.
Всеслав же призвал сыновей.
– Рогволод, – сказал строго, – геройничать не спеши, твоя доля еще не раз тебя призовет на рать. Сейчас мне от тебя иная служба нужна. Обернись, да в город-то проберись, а там обернись заново и врата открой. Другого от тебя не прошу и не велю. Увижу, что в драку полез, выпорю!
– Отче, – заспорил было Рогволод, – да как же это? Что я, отсиживаться должен, когда все сражаются?
– Дуралей, – вздохнул за его спиной Борис.
– Такая служба поважнее ратной будет, – оборвал его Всеслав.
Выдохнул Рогволод. Тянуло его в битву, как всякого мальчишку, выросшего при дружине, – не мыслил он жизни иной, как в ратных трудах да в ратной славе. Но отцу перечить не стал, – не из страха, просто знал: Всеславу виднее.
Сбросил он порты да сапоги.
В первый попавшийся пень нож воткнул.
Сосредоточился.
А потом – голое юношеское тело перекувырнулось через пень с ножом, и вот уже стоит по ту сторону пня бусый волк-переярок с человеческими синими глазами.
Надел ему Всеслав на шею нож на шнурке. Шепнул древнее заклятие на удачу, а Звенислава украдкой перекрестила – хоть и понимала, что не нужно это сейчас.
Еще миг – и бусый переярок растворился в тенях под полоцкими стенами…
Служку же церковного снова к колодцу отправили. Много в эту ночь святой воды понадобилось: ненадежным она была оберегом, но все-таки хоть немного навий отпугивала. Крестясь и щурясь от страха, подросток набирал воду. Внезапно мимо метнулось что-то – служка в ужасе отпрянул, но то была всего лишь собака.
Собак навьи не боялись, но и не трогали. А сами собаки от навий шарахались и скулили – даже самые сильные и отважные псы, которые в одиночку супротив медведя выходили. Не охранит собака от навьи, ее удел – человечьи труды и защита от живых. Вот кабы кошка! Кошки навий чуют, шипят и нападать на них не боятся, хоть и справиться редко когда умеют. Да только у кого в Полоцке нынче кошку найдут? Только у самых богатых, в боярских да княжеских теремах, как редкостную диковинку…
Собака потрусила рядом со служкой, тот присмотрелся и похолодел: рядом с ним цокала когтями по каменным плитам двора не собака, а волк!
Служка даже остановился, затаив дыхание.
Волк же тем временем огляделся, подскочил к первому попавшемуся пеньку, воткнул в него зубами болтавшийся на груди нож, вывернув голову, вытащил ее из петли шнурка…
Перед служкой стоял голый парень одних лет с ним, только совсем иной стати: крепкий да жилистый, с сильными мышцами и широкими не по годам плечами. Гордый взгляд, непокорные светлые кудри, стать воина – даром что еще из возраста мальчишьего не вышел.
– Т-с-сс! – голый приложил палец к губам.
– Ты… ты кто? – дрожащими губами выговорил служка, лихорадочно приглядываясь. – Оборотень! Свят-свят-свят!
– Дурья башка, – шикнул на него парень. – Княжич я законный, Всеславич! Сам отец меня сюда послал. Дай порты какие да проваливай, коли не хочешь, чтобы дальше вас нечисть пожирала!
– Тень, – невпопад брякнул служка. – У тебя тень.
– Конечно, – удивился Рогволод. – Нешто так бывает, чтобы в лунную ночь да и без тени?
– А у навий их нет, – поспешил поделиться служка. – А у приспешников ихних, наоборот, есть, да какие! По две их. Людская и чертова!
– Это ты дело сказал, – хмуро бросил Роговолод. – Порты несешь али как?
– Несу, несу, – служка торопливо скрылся в чулане. Как ни спешил он, Рогволод успел продрогнуть и услышать перестук навьих копыт, про себя порадовавшись, что на освященные места навьи не заходили.
Обычных порток и рубахи и служки, конечно, не нашлось – вынес он Рогволоду какой-то старый подрясник, но и то сгодилось. Перекрестившись, Рогволод успел поклониться служке – как отец заповедал, за каждое доброе дело, даже малое, искренне поклониться учил, – и побежал к городским воротам.
Как ни мало времени прошло с тех пор, как увидели первого черного всадника посреди ночных улиц, но запустение коснулось уже и ворот, и стен, как если бы люди вовсе покинули эти места. Рогволод только вздохнул, покосясь на рассохшиеся доски ворот. Вон и выломанная поперечина, под которой он пролез в волчьем облике… Нешто при отце бы такое было, про себя подумал Рогволод. Уж тот бы навел порядок – муха бы в ворота не пролетела без княжьей воли!
Тяжелый засов подавался нехотя, с оглушительным скрежетом. Рогволод с силой налег, пытаясь открыть. И вдруг тяжелый перестук копыт послышался в опасной близи.
Рогволод на миг остановился, осенил себя крестом, прошептал сначала «Отче наш», потом – заклятие, которому отец научил, потом – коротенькую, почти бессмысленную поговорку, которую подсказал его собственный Зверь. Наконец, припомнив отцовские уроки, представил себе, что в горсти у него соль или пшено, вложил в нее все пламя души – и швырнул широким взмахом руки вокруг себя, будто поле засевал!
Черные всадники вылетели на освещенное луной пространство.
Они молча сгрудились вокруг – с пяток волосатых тварей с горящими глазами, только кони пофыркивали. Нехорошее это было фырканье. Так надсадно булькают газы, вырываясь из трясины – или из отверстого рта покойника. Могильным холодом повеяло на Рогволода… Зверь в душе тревожно напрягся: навьи остановились на границе, которую очертил-засеял Рогволод, да силенок ему не хватало, чтобы защититься сколько-нибудь надежно!
И тут засов открылся.
Рогволод пошатнулся, оседая – страх и напряжение, да и двойное обращение, дали себя знать, и подхватила его, спешившись и подбежав к сыну, Звенислава. А мимо уже мчалось семеро матерых, свирепых волков и – в почтительном отдалении – дружина в рубашках с вышивкой-оберегом…
– Тень, – прошептал Рогволод. – Матушка, скажи им! Тени! У навий нет теней! А у тех, кто стал, как Онфим… их две! Людская… и чертова…
Звенислава перекрестила сыну лоб – и встала во весь рост, выкликая только что услышанное.
Мягко застучали по мостовой копыта дружинных богатырских коней, обернутые тряпьем. Теперь уж не было необходимости в тихой скачке, но и времени распутывать это тряпье тоже не было.
Огромный черный волк с сединой, переливавшейся по холке, первым напал на след навьи. Глупая тварь кинулась было на него, выставив когтистые руки, ощерилась – да волк, даже не рыкнув, бросился вперед, целя в горло. Черный конь взбрыкнул, пытаясь сбросить нового седока, но, пока волк не задушил навью, не отступился.
Уродливое волосатое тело задергалось, исходя зловонной черной кровью, и начало развеиваться липкими жирными хлопьями, а за ним начал распадаться, истлевая на глазах, и конь. Волк соскочил тогда с коня и оторопело миг или два наблюдал, как слезают клочья гнилой шкуры и стекает смрадная жижа по конским костям, и как эти кости ссыпаются на мостовую…
А потом развернулся – и умчался далее.
Шестеро молодых волков шли по примеру старого – каждый по следам того навья, которого учуял. Каждый безошибочно находил жертву. Каждый знал, куда целил, когда впивался в кожистое булькающее горло. И пусть острые навьи когти вспарывали волчьи шкуры, пусть злобно скалились желтые клыки – не было пощады от Всеслава и его сыновей никому.
Навьи быстро поняли, что они – жертвы, добыча, а не враги, и заторопились уходить, да не тут-то было.
Дружина же княжеская преследовала мертвецов, нечистыми чарами оживленных. Всяк помнил слова Звениславы: «По две тени у приспешников навьих! По две! Одна человеческая! Вторая – дьявольская!» Никто не надеялся, что тела несчастных удастся спасти, но всякий понимал, что спасает их души.
Рабы навьи, в отличие от самих навий, удирать не спешили. Не было у них страха смерти, не было и сознания – каждый из них походил на Петрушку в балагане, куклу, чужой рукой ведомую. Оттого и кидались – пешие на конных, безоружные на вооруженных и защищенных латами и шеломами. До того так же кидались – и побеждали.
Да дружина Всеслава была не чета их прежним противникам. Опытные это были воины, не один и не два боя с честью прошедшие. И главное – знали они, с кем их ратная доля свела, понимали все и крепко верили в силу княгини Звениславы…
Много наутро людишек отпевать-то придется, горько подумала Звенислава. Пошли им благодати, Господи, неповинны они. Полочане ведь они, почти семья – князю и княгине весь люд как дети родные.
Подхватила она сына, чтобы отвести подальше, завести в храм Божий – Софию, мужем ее построенную, и увидала, как один из дружинников добивает навьего раба. И показался княгине тот человек знакомым. Был то удалой боярин, витязь не из последних, все воеводой стать желал вместо Нежаты…
И тут припомнилось ей, что Онфим уж очень ратной славой своей хвастался.
Вона как, поняла Звенислава. Каждого из рабов своих навьи на чем-то, да поймали – на жажде славы, на жажде власти, кого-то, может, на жадности, а кого-то – на страстях любовных. Слабина, она в каждом есть, да не каждый ей волю дает – кто не дает, того навьи убили или же не тронули…
А из церковных дверей вырвался торжествующий крик юного служки:
– Всеслав! Вещий Всеслав вернулся! Князь нас спасет!
Пыль да грязь царили в горницах княжеского терема. Что чернавки в последнее время боялись даже по терему ходить, что людей набежало да натоптало – да и некогда князю о чистоте да красоте думать.
Заполошные уж очень дни выдались.
Князь Ярополк без спору Полоцк уступил да к отцу, к Изяславу, в Киев собрался. Всеслав его не держал, и сам обиды ему не чинил, и приближенным своим строго-настрого запретил.
Жалоб да челобитных накопилось – поболе, нежели грязи на узорных полах, и податели их, в отличие от молчаливой грязи, не молчали – всяк хотел скорейшего разрешения своего дела.
Разрушений в Полоцке оказалось чуть поменее, чем после вражеского набега, погибших – тоже, а уж ущерба казне сколько нанеслось – Всеслав даже за бороду себя дернул с досады, крякнув.
К вечеру он уже пошатывался от усталости. Звенислава велела протопить баньку – Всеслав только порадовался, что жена о нем позаботилась, баня его немного взбодрила. По совести, кабы не Звенислава, князь забывал бы и поесть, и переодеться.
Но в опочивальне Звенислава подступила к нему, строго глядя прямо в лицо.
– Спас ты Полоцк, княже мой светлый, – сказала сурово.
– Кабы не ты да не сыны наши, и не дружина… – начал было Всеслав.
– Погоди, – перебила Звенислава. – Ради Полоцка ты зверем обратился. Богопротивное то дело, оборачиваться. Так поклянись же, что не будет больше того отныне!
Всеслав опешил.
– Да ты что, белены объелась? – взъерепенился. – Как это – не будет больше? Нешто не понимаешь: сила это моя, такая же, как та, что в руках и в мече! Как я могу от нее отказаться? Может, мне и меч бросить, и руку себе отсечь?
– Коли в бою она тебе нужна, так не воюй больше, – отрезала Звенислава. – Тебя уж прозвали Немилостивым на кровопролитие, довольно с тебя!
– Нешто я сам выбираю, быть мне немилостивым али нет? – вздохнул Всеслав. – Слушай меня, Звенислава. Князь я и воин, в себе не властен – что ради Полоцка своего должен, то и сделаю. И коли надо будет воевать, так пойду воевать. И в волчьей шкуре, и в человечьей. Коли хочешь, – он приобнял жену за плечи, любовно глядя в ее серые глаза, – так поклянусь я тебе на кресте и на щите, что волком стану не ради славы или утех воинских, а только ради защиты земли Полоцкой!
Звенислава подумала.
Кивнула, принимая клятву.
– И за то вся Русь не перестанет славить тебя во веки веков, – торжественно произнесла она.
Тяжек перестук копыт о толстые доски полоцких мостовых. Черны копыта без подков, черны кони без седла, – только гривы бьются по ветру. Нет ни поводьев, ни узды – черным коням не нужна сбруя, они покорны седокам и без нее. Бешеное пламя бьется в зрачках, пена пузырится на губах, злое фырканье заставляет содрогнуться и спрятаться получше, а пуще того – бежать куда глаза глядят. Страшен вид черных коней, а еще страшнее всадники на них: глаза что уголья, густая волосня торчит жесткими клочьями, крючковатые когти венчают каждый палец. Но некому увидеть их и ужаснуться – никто в здравом уме не кажет и носу на полоцкие улицы. Ни щелочки света не пробивается сквозь сомкнутые ставни; не слышно ни гуслей, ни дробного топотка припозднившихся гуляк, ни жаркого любовного шепота, – вымер древний Полоцк, затих, сжался под одеялами, заперся на все замки. Кто победнее – кочергой подпер дверь, кто смог – тяжелые железные засовы спешно купил. Но даже на хладное железо невелика надежда. Как невелика она и на гостеприимно распахнутые бани, где накрыты столы…
Что стряслось, чем прогневали полоцкие жители неупокоенных навий – Бог весть. Поп православный приходит и бает – это, дескать, оттого, что доселе не вырублены священные рощи и не брошены в печь дедовские идолы; волхв приходит и грозит еще пущими карами тем, кто позабыл древнюю веру и носит знак Христа на груди. Старухи молодежь клянут за то, что Навий день плохо отмечает, покойников плохо поминает, а молодые на стариков косятся – небось, они и наслали за непослушание!
А тем временем все больше становилось в Полоцке людей с навьей меткой – следом на теле или же на лице, серым и будто бы мертвым, быстро расползавшимся по всему телу. Каждый, кто получал такую метку, был уже не жилец, и зря кадил в церкви ладаном поп, зря варили свои зелья Ягины бабы: не проходило и седмицы, как меченый умолкал навсегда. Получить такую метку проще простого: достаточно малейшего соприкосновения с черным всадником, одного волоска, упавшего на плечо или мановения колючего хвоста, задевшего по руке, – и вместо рубахи придется шить саван. Как ни прятались добрые горожане, как ни запирались на тяжкие засовы, как ни молились и не вешали по всем притолокам и ставням старинные обереги вкупе с христианскими крестами, – ничего не спасало. Обрядовая пища у бань оказывалась съедена черными конями – всадники к ней не притрагивались…
И все чаще раздавались шепотки: непроста все это, ой, неспроста! Не сумели верными своему князю быть – вот и кара за то пала на весь полоцкий люд…
Урожденный князь Полоцкий, Всеслав Брячиславич, ведун и чародей, вот уж четвертый год как лишен престола. Двухродные братья – Ярославичи, родная кровь, да чужие души, обманом завлекли его, будто на переговоры, на кресте клялись обиды не чинить, да обычай крестного целования порушили и в полон взяли. Переменчива ты, воинская удача; как ни силен, ни отважен был князь Всеслав-Чародей и его старшие сыновья, а победное ликование не раз сменялось болью поражения. Но пленить князя оказалось возможным только обманом и хитростью.
То-то и терпит древний Полоцк бедствие, то-то и восстали нечистые навьи против живых…
В самом-то Полоцке, вишь ты, с тех пор, как князя законного не стало, и без всяких навий неспокойно. Ярославичи хоть Всеслава и одолели, а меж самими согласья не было и нет. Споры да раздоры, а люду полоцкому – разоренье. Нет мира в полоцкой земле, нет благоденствия. Русич на русича, брат на брата идет войной, даже самые бедные бедняки обзавелись не мечом, так хоть каким оружием, вместо зипунов тегеляи носят – все безопаснее. Да, видать, без навьего нашествия не задумались бы, что так негоже.
А всего хуже то, что навьи не всех, кого отметили, губят. Бывало, и щадят. Да только от пощады такой еще горше, чем от смерти честной. Коль возьмет бедолагу кончина, так отпоют его честь по чести, справят тризну и чтят наравне с прочими ушедшими. А коли остается меченый в живых – пиши пропало. Пропадает румянец со скул, сам человек как восковой становится – ровно двухдневный покойник, пальцы холодеют и перестают слушаться, голос глохнет и теряет звучность, а губы синеют. У иных и ногти вылезать начинают, да без крови – точно как у мертвеца. И в глазах на дне такая мерзлая пустота, что, кажется, еще немного посмотри – и выбегут из той пустоты щупальца да затянут на веки вечные. Правда, и недолго-то в глаза меченым не всякий смотреть отваживался. Да это если знать, что он меченый, а если не знать – выглядит человек почти как прежний. Подойди к нему, поклонись, заговори…
Убьет.
Меченый – навий раб, на печке не сидит, в лес не бежит, в болоте не топится, как лихоманью болотной околдованный, жить среди людей продолжает, но цели, желания у него не людские отныне, а навьи. А что навьям надо? – смерти, чтобы всех взяла. Для того, отняв душу, даруют они рабам своим силу немереную, да свирепость неутолимую, да храбрость звериную. Лезет навий раб на рогатину, на меч, ничего не боясь, с голыми руками – и убивает. Потому что не в силах человеческая душа вынести бой с таким противником.
Со страху да с голодухи многие полочане и без всякой метки стали выглядеть – краше в гроб кладут. И теперь уж никому веры не было. Мало ли – бледный и осунувшийся сосед твой, которого всю жизнь, почитай, знал, вчера всю свою семью перебил да крови их нахлебался; а второй сосед тоже бледный и тоже осунувшийся – спроста ли? А ну как тоже меченый?
А надежа-государь, молодой князь Ярополк Изяславич, отцовыми и дядьевыми дружинами у Всеслава Брячиславича Полоцк отвоевавший, в терем свой забился и носу оттуда не кажет. Оно бы и понять его – страшно, холодно, того и гляди, чудища на черных скакунах и днем появятся, даже солнце ясное померкло с тех пор, как навьи в Полоцке объявились. Да ведь князь простому смерду и даже думному боярину не чета. От Бога власть его и от заветов праотеческих, венец княжий его от нечисти оберегает – негоже труса праздновать!
Стук… Стук… Стук…
Не смолкает перестук черных копыт, не останавливаются в вечном поиске навьи. Не пробивается ни лучика света из закрытых наглухо ставен, не скрипит подпертая хладным железом и омытая святой водой дверь, не звучат людские голоса в домах.
Смерть и отчаяние витают над Полоцком.
Занимается заря над Голотическом. Тихо в Голотическе и спокойно, да только затишье это – как то, что в небе перед большой бурей бывает. Люд посадский, шорники да кожевники, гончары и златокузнецы, просыпается да, помолясь и хлеба преломив, спешит в труды окунуться, пока беды не случилось; люд ратный же новые латы и оружие опробует да кремль деревянный укрепляет – чтобы встретить беду грудью, ничего не боясь…
Все то видит вещий Всеслав, князь-изгнанник. Не замечает он ни простоты льняной рубахи и серебряных обручьев, ни потертости ножен – благо меч в них сокрыт дивной работы, булатный, из тех, что на торгу стоят золота вдвое против своего веса, и никто не жалуется на дороговизну. Не замечает тесноты малого боярского терема, в котором вместе с семью княжичами ютится с тех пор, как покинул стольный Киев, да войско его – малое, с бору по сосенке – было разбито Ярополком. А вот что вокруг творится, чем люди живут, чем дышат, о чем мир с ним поутру говорит – замечает до последней росинки, до последнего шепота в людской.
Давыд, Глеб, Борис, Роман, Святослав, Ростислав, Рогволод… Славные сыновья, на загляденье, и на охоте, и на ристалище, и в делах государственных знают толк, и в учении искушены, а главное – унаследовали отцову особую силу. Давыд и Глеб – статные мужи, силой и ратным искусством уже почти не уступающие отцу, отведавшие вместе с ним горечи киевского плена; Ростислав же и Рогволод – вовсе мальчишки. Особенно Рогволод. Уберечь бы его, пока не вошел в полную мужскую силу.
Но вот незадача – подсказывают отцовское сердце да чутье зверя, неспокойно ворочающегося в душе, что не время нынче беречься. На кон поболее, чем жизни, поставлено.
Князь отхлебнул квасу из резного деревянного ковша, прислушался.
Жуткие да странные вести приходили из его родового гнезда – Полоцка. Вселав, не зря прозванный Чародеем, нимало не сомневался в их правдивости, только дивился и горевал. Отроду такого не было, чтобы навьи живых одолевали да в свои темные чертоги влекли!
А как их победить и обратно во мрак загнать – того Всеслав не ведал.
Прожив на свете полсотни годов, он понял многое. Познал и победы, и поражения. Увидел, что силой одного не переломить силу многих, что чародейством не одолеть хорошо обученную дружину, а одним, даже самым острым и заговоренным мечом, не спасти целое княжество. Не верил уже ни в родственную любовь, ни в святость клятвы, данной на кресте. И на помощь союзников не надеялся.
Верил лишь своему разуму и надеялся на собственную удачу, зная, что без разума удача не спасет.
Но сейчас его разум терялся. На что положиться? На чародейские ли силы, всей мощи которых и сам Всеслав не знал? На дружину ли верную да на сыновей, умеющих меч в руке держать? А может быть, и вовсе ничего не предпринимать – выжидать, пока Полоцк сам в руки спелым яблоком упадет?
Яблоком, истерзанным гибелью на черных конях…
– Нет, – вслух произнес князь, сжав огромный тяжелый кулак, – хватил им по стене, бородой кудрявой тряхнул. – Не бывать тому! Мой град, мне его и выручать!
– А как его выручить, отче? – послышалось от дверей.
Роман. Губы Всеслава, в последнее время все больше сжатые и окованные в глубокие горькие складки, невольно дрогнули в улыбке.
Молодой, горячий. Таким и сам Всеслав в юности был.
– Обмозговать все надо, сын, – сказал спокойно, будто и не было тяжких раздумий. – С бухты-барахты соваться нельзя, а и медлить нечего, выручать некого станет.
– Да что тут мозговать, отче? – пылко воскликнул Роман. – Али мечей у нас нет булатных, али дружина верная за нами не пойдет, али горожане нам ворота не откроют? А тот, что князем себя зовет, – пусть только посмеет что супротив твоей воли молвить!
– Навьи не из тех врагов, чтобы одними мечами их одолеть, – напомнил Всеслав.
– Так у нас и мечи не одни, – Роман прищурился хитро.
На поясе у него, как и у всех его братьев, и у самого Всеслава, висел еще один нож. Особый. Из камня, но такого тонкого и остро отточенного, что не всякая сталь с ним сравнится. И на рукояти – Перунов знак.
Всеслав и без него уже понимал, что это последнее средство – единственное, которое может стать действенным. Но и опрометчиво кидаться в битву не хотел.
– Головы сложить – дело нехитрое, – бросил хмуро. – Зови старших, совет рядить будем.
Нахлынули воспоминания. Словно наяву, послышался стук топоров, в ноздри ударил запах свежей древесины – Всеслав прежде любил этот запах, но только не теперь, когда свежим деревом пахла неволя и тьма. Один за другим ложились вокруг преданного и плененного князя бревна, отрезая от жизни, от веры, от надежды, и так же огораживали бревна старших его сыновей.
Тридцать долгих месяцев провели они в порубе. Провели, чтобы выйти оттуда прямиком на киевский престол…
Верно ли поступил князь Всеслав, что, оставив войско свое, обернулся и ушел на волчьих лапах в родной Полоцк? Может, и мнили его ратники предателем, а вороги – трусом. А может, и нет. Слепой случай да невольная милость киевлян вознесли Всеслава на престол, не воля Божья; долго ли было ждать, что другой случай приведет Всеслава обратно в поруб, а то и на поток и разграбление? Бог ему другое судил – Полоцк отвоевать да у навий отбить.
Послышались шаги. Нет, не сыновья. Один кто-то шел – торопился.
Всеслав расправил широченные плечи, откинул седовато-русые кудри со лба. Высокий, но кряжистый, он не казался массивным, но внушал невольное почтение величавой статью. Почтение – и сыновнюю любовь дружинников и бояр, которым платил отеческой привязанностью.
Молодой гридень вбежал, поклонился. Князю бросились в глаза его бледность – до синевы, до серых кругов под мертвыми глазами да лиловых губ. Рука, приложенная к груди, казалась восковой.
– Что ты, Онфим? – спросил Всеслав, тревожась. – Что за вести принес?
Онфима он давеча посылал в Полоцк – разведать, что там происходит, и ждал его возвращения, как не всякая молодая жена ждет мужа из похода.
– Хорошо все в Полоцке, княже, – глухо произнес Онфим. – Все ладно, а что врут про тьму да упырей, так то враки досужие.
Всеслав облегченно вздохнул – ну вот, и воевать Полоцк не надо, – и вдруг что-то кольнуло под сердцем.
Онфим, парень молодой, одних лет со Святославом, и статью на него похожий – такой же рослый, крепкий, но легкий на ногу и верткий, так же гордо и почти призывно вскидывающий светловолосую голову – если что и любил, так это смех и веселье. И уж о том, что в Полоцке, где мать да братья-сестренки с зазнобушкой остались, все хорошо да ладно, не выговаривал бы, едва языком ворочая да вперив потухший взгляд куда-то в угол, а пел бы да кричал, так что борода золотилась-топорщилась от радости.
– Почто ж такой померклый ты, Онфиме? – тихо, боясь поверить самому себе, спросил князь.
А Зверь в глубине души ворохнулся, щетиня шерсть на загривке, и негромко, опасливо зарычал…
– Устал, ясный княже, – Онфим опустил голову, – три ночи без сна – все повеление твое исполнял, искал, есть ли в Полоцке что неладное, да не нашел.
Вот ему верить – хотелось. Хотелось проснуться, как от дурного сна, и к ужину встретить отдохнувшего и веселого, близкого, родного Онфимку, которого мальцом на коленях нянчил, а любил едва ли не паче сыновей родных. Да Зверь в душе не утихал – рычал и рычал.
– Ступай, Онфиме, отдохни да выспись, – сказал мягко, – после поговорим.
Любил князь Всеслав отвернуться к окну, вроде видел через слюдяные пластины что-то занятное, а затем резко обернуться к собеседнику – что-то глаза выдадут? Так он делал с теми, кому не доверял. Онфиму до сегодняшнего дня он бы и жизнь свою, и честь доверил не раздумывая. Но сегодня это доверие закончилось.
То и спасло.
Полыхнули гридневы очи двумя угольями, лицо засинело, изо рта желтые клыки выбежали, в руке ровно сам собой нож очутился – прыгнул Онфим на князя, как зверь дикий. Нож рубаху льняную пропорол…
А и остановился.
Вишь ты, рубаха та непростая была.
Не любила княгинюшка, верная Звенислава, когда муж ее любимый оборачивался. Оттого и расшивала сама, чернавкам не доверяя, все его рубахи священными знаками солнцеворота, триглава и лебедя. Никакая мара из Кощного мира, никакая нечисть, никакая злая мысль не могла коснуться того, кто в такой рубахе ходит. Однако и самому Всеславу не было воли оборачиваться – не пускали его княгинины обереги.
Смеялся Всеслав над Звениславой, глупой своей женишкой звал. Да и как не смеяться? Веровала Звенислава во Христа, молилась истово, а сама с рождения видела и навий, и прочих, да более того – приказывать им могла и силу их своей обращать. Но зря, видать, смеялся – любовь жены паче кольчуги оказалась.
Опомнился Всеслав. Понял – не Онфим более перед ним, не человек, нечисть черная. Схватил он гридня бывого, руки вывернул, об пол как швырнул – из пасти навьей темная пена и выплеснулась.
Сорвал с себя Всеслав рубаху, оборачиваться уж недосуг было – просто выпустил звереву силу, схватив и сжав синее мертвое горло, да зашептал заклятия, которым его Зверь учил под полной луной.
Содрогнулся Онфим под ним. И вдруг начал… изменяться. Не оборачиваться, как сам князь с сыновьями, а именно изменяться – ушли навьи клыки, ушла синева с лица, ушло мертвое сияние вертикальных зрачков. Стал Онфим – прежним Онфимом, ясноглазым да светлолицым. Только не было больше румянца на этом светлом лице, не было жизни в глазах. И вместо тепла молодого тела пахнуло на Всеслава коченелым холодом да едва уловимым запашком разложения.
Зверь во Всеславе шумно выдохнул и улегся: навья сила покидала мертвеца…
– Эх, Онфимушко, сынок, что ж ты не уберегся? – загоревал князь. – Знал бы, что так выйдет, сам бы пошел!
А сердце больно стучало: это я парня не уберег, я его послал в Полоцк, я ему даже оберега с собой не дал. Я в смерти его повинен. Да в какой! Нет горя в честной смерти воина, горе – быть навьей жертвой.
Вошли сыновья, кто-то спросил «Звал, отче?», но при виде погибшего Онфима всем стало не до того – сгрудились над мертвым, молчаливо, по-мужски, оплакивая товарища.
Всеслав резко встал – всякий раз после использования силы Зверя без подготовки силы его истощались, и ему следовало отдохнуть, оттого и присел на скамью. Ан рассиживаться было некогда.
– Рогволод, – велел, – поди да кликни мать, скажи – отец говорить с ней желает…
Ровно в детской игре, где из щепочек надо было собачку али человека выложить, – сложилось у Всеслава решение. Непростое решение, тяжко оно должно было даться всем, и паче всех – самому Всеславу. А иного верного не находилось.
Княгиня Звенислава, выслушав мужа, отпрянула.
– Нешто можно так? – горько выговорила.
– Да ведь ты, голубко, дивные узоры творила ровно играючи, отчего ж нельзя? – ласково произнес Всеслав.
Понимал он, ох, понимал, что она сказать хочет. Но притворился, что не понял.
Княгиня его тон не приняла.
– Господь заповедал не осквернять душу черным ведовством, – молвила сурово. – И не буду. И тебе, княже мой светлый, не советую.
– Отчего же черным, голубко? – Всеслав взял княгиню за плечи, всмотрелся в любимое лицо. Много воды утекло с тех пор, как обвели круг ракитового куста, а потом обвенчали их, в ту пору еще не ведавших ни седин, ни горя, ни изгнания. Он уже тогда был князем – молодым, да сильным, но к его имени еще никто не добавлял почтительное «вещий» или боязливое «чародей», а она – дочерью одного из думных бояр. Не слыла она красавицей, не дал отец за ней богатого приданого, а вишь, как оно получилось: увидал ее князь Всеслав – и сердце дрогнуло, как никогда больше не вздрагивало, да ночью при выходе полной Луны впервые затянул призывную песню Зверь…
Теперь-то у них – семеро сыновей, старшие из которых уже женаты, а прочие вошли в возраст мужания и умели держать в руках меч. Умудрены жизнью оба, и князь, и княгиня, морщины избороздили чело; легкое некогда тело Звениславы погрузнело, а коса обильно серебрится под утренним солнцем от седины. Да и у Всеслава седины – пол-бороды и пол-головы… А сердце как вздрагивало при входе княгини в опочивальню или в горницу, так и вздрагивает.
– Отчего черным? – повторил Всеслав, заглядывая в серые глаза княгини. – Светлое то ведовство, и богам, и твоему Христу угодное, потому как за правое дело стоим, за землю свою! Нешто не благое то дело – родные пенаты от нечисти оборонить? Людишек прикрыть, по мертвым достойно тризну справить, а навий – обратно в их Кощный мир, чтобы сами не колотились да нас не тревожили! Не видала ты разве Онфимку? Что, коли наших сыновей вот так же… в мертвецов немертвых оборотят? А коли всю Русь?
Закусила губу Звенислава.
– Женушка моя, рябинушка, лебедушка ясная, пойми одно: ты теперь нам щит и оборона, без твоей силы нам только головы сложить и остается, – Всеслав обнял ее и продолжал: – Нешто я враг Христовой вере? Не я ли Софиевский храм заложить велел, что и посейчас над Вышним городом царит? Коли Полоцк возьмем – велю еще церковь и монастырь заложить!
Звенислава молчала, грустно глядя мужу в грудь.
– Если и грех то – так мой это грех, не твой, – прошептал Всеслав. – Я за тебя в ад пойду, как при жизни в огонь и в воду.
– Заради сыновей полоцких, – тихо проговорила Звенислава, – и заради тебя, княже милый, сделаю. Вели шелку цветного прислать побыстрее, а лучин побольше нащепить, чтобы я и ночью могла…
Отстранился Всеслав.
Отстранился, чтобы поклониться Звениславе в ноги.
Шелка у Звениславы в ее горнице и так были – она же и села за пяльцы, не медля нимало, а к ней мало-помалу потянулась князева дружина: несли сорочки. Побежала игла с золотым ушком, повела за собой нитку черную – а вослед ей другая игла повела нитку красную, жизнь вослед смерти, стежок за стежком…
Всеслав же кликнул молодого копьеношу и велел ему в церковь идти, святой воды достать.
А уж кольчуги пластинчатые у княжеских дружинников и так были починены да начищены.
Сам же Всеслав отложил и кольчугу, и меч, и щит, и рубаху, Звениславой вышитую. Не нужны они были ему в предстоящей сече, а нужны были силы неотмирные, Зверь да воля Божья. Теперь оставалось лишь дождаться полнолуния – да молиться, чтобы Звенислава успела знаки-обереги на сорочках вышить.
И ночью, щурясь, выглядывать сквозь слюдяные пластинки окна в темное небо, где ночь от ночи рос серпик месяца…
Стук… Стук… Стук…
Тяжки черные копыта, бьющие, ровно в гроб, в полоцкие мостовые; страшен оскал черных коней – никогда из черных пастей не вырвется ржание, и зубы в тех пастях, бают, мертвые, как бы сгнившие.
Да стоит ли верить в те байки? Кто лицом к лицу столкнулся с черным всадником – долго не проживет. И сил на байки у него уж не останется.
Страх витает над Полоцком. Уже не навий на черных конях – друг друга люди боятся. Лавки позакрылись, чтобы ненароком тьму в гости не приманить. Ремесленники, у кого мастерская не прямо в дому, все дела позабросили, есть нечего – а работать идти боятся. Харчевни на засовы заперты стоят – а ну как уже бывало, что вперся всадник на черном коне прямо в харчевню, да сидел, ждал тихохонько, зубы мертвые щерил, пока конь его человечью пищу жрал? Люди, кто в харчевне был, мигом разбежались, а иные под лавки попрятались. Но ни бегство, ни укрытие никого не спасло – все скоро перемерли, а иные и того хуже: обратились.
Ходят полочане, друг другу в глаза заглядывают: хорошие ли глаза, человечьи ли? Али странные, как у козы или совы, с вертикальными зрачками, в которых адский пламень пылает? К лицам присматриваются: живые лица ли, теплые ли? Али синие да неподвижные, как у гробового жителя?
Дня не проходит, чтобы кого не побили на городских улицах: заметили синюшное безжизненное лицо да остановившийся взгляд, да изжелта-восковые руки – и ну колотить, зипун на голову накинув! По крикам только и определяли, то ли это поселянин с голоду да от страха постоянного такой, то ли раб навий: раб молчит, а когда и говорит, то глухо и медленно, будто нехотя, обычный же человек будет кричать да клясться, что живой он.
Брат сестру боится, жена – мужа, чадо – родителей, боярин – холопов своих. Даже вор на промысел свой окаянный выйти не решается: кто знает, золотишко ли с шелками в том запертом доме, или мертвецы, которые – стоит только повернуться спиной – вскочат да набросятся, щеря желтые гнилые клыки?
И только в церквях люд толпится: молятся непрестанно, крестятся, а кто и просто в храм святой забежал в последней надежде спастись.
Попы всенощную служат.
А над Полоцком восходит полная луна, и здания да кусты отбрасывают четкие черные тени…
Юный церковный служка, пробегая от колодца к церкви, на миг остановился – промешкал.
Стук… Стук… Выскочил из-за угла черный конь со всадником. Служка так и застыл: знай молился про себя, чтобы не заметил его навий всадник да конь его… А за всадником бегут-поспешают еще трое. С виду вроде люди, да какой же человек в здравом уме будет за навьями носиться?
Обмер служка. У всадника с конем тени-то и нет! Да ежели разобраться, какая тень у выходца из Кощного мира?
Зато у троих его прислужников – сразу по две тени. Одна человеческая, обычная, какая у всякого человека бывает. А вторая – дивно изломанная, и страшно стало бедному служке даже думать, какая тварь может такую тень отбрасывать.
Перекрестился служка и – бегом в церковь от греха подальше…
А меж тем стены полоцкие обступили другие люди.
Многие из них Полоцк знали как свои пять пальцев. Родились здесь, выросли, мальцами резвились, подросли – копьеношами пошли в княжескую дружину. Князю Всеславу на верность присягнули. Многие из тех, что постарше, еще до Киева знали Всеслава и не отступились, когда в поруб его посадили.
Вместе с ними на белом коне мчалась княгиня Звенислава. Коленями в мужских портах коня сжимая, чтобы не упасть, одной рукой узду придерживая, второй она последние стежки клала на сорочку, зажатую в зубах. Неровные стежки удавались, не чета тем, что на княжьих сорочках были. Да ведь не для красоты и вышивка!
И не от красоты ее сила зависела – от сердца, что по-матерински вложила Звенислава в каждый стежок.
С восторгом ее дружинники чествовали. Княгиня была не из тех, что в теремах от жизни хоронятся. Знавала она вкус походной каши да мяса, что весь день под седлом просаливалось; из самострела не одного ворога застрелила и меткостью славилась. А уж с конем умела дружбу завести такую, что все диву давались. И как ей удалось доброту свою да нежность сохранить – того и сама не знала.
Тихо шла княжеская дружина. Копыта конские тряпками обмотали, чтобы не так грохотали.
Остановился Всеслав, рукой махнул: стой, рать доблестная.
– Здесь, – молвил, – расходятся наши пути. Ты, Нежата, дружину поведешь. А у меня с сыновьями другая дорога.
Нежата – опытный, испытанный в боях воевода, дружине отец названый, а князю Всеславу брат молочный, – только кивнул.
– Да смотри, княгинюшку мне сбереги!
И снова кивнул Нежата.
В это время Звенислава закончила вышивку. Взлетела белой лебедью последняя сорочка – протянул руку один из дружинников, последний, у кого зачарованной сорочки еще не было, да взял ее из воздуха.
Всеслав же призвал сыновей.
– Рогволод, – сказал строго, – геройничать не спеши, твоя доля еще не раз тебя призовет на рать. Сейчас мне от тебя иная служба нужна. Обернись, да в город-то проберись, а там обернись заново и врата открой. Другого от тебя не прошу и не велю. Увижу, что в драку полез, выпорю!
– Отче, – заспорил было Рогволод, – да как же это? Что я, отсиживаться должен, когда все сражаются?
– Дуралей, – вздохнул за его спиной Борис.
– Такая служба поважнее ратной будет, – оборвал его Всеслав.
Выдохнул Рогволод. Тянуло его в битву, как всякого мальчишку, выросшего при дружине, – не мыслил он жизни иной, как в ратных трудах да в ратной славе. Но отцу перечить не стал, – не из страха, просто знал: Всеславу виднее.
Сбросил он порты да сапоги.
В первый попавшийся пень нож воткнул.
Сосредоточился.
А потом – голое юношеское тело перекувырнулось через пень с ножом, и вот уже стоит по ту сторону пня бусый волк-переярок с человеческими синими глазами.
Надел ему Всеслав на шею нож на шнурке. Шепнул древнее заклятие на удачу, а Звенислава украдкой перекрестила – хоть и понимала, что не нужно это сейчас.
Еще миг – и бусый переярок растворился в тенях под полоцкими стенами…
Служку же церковного снова к колодцу отправили. Много в эту ночь святой воды понадобилось: ненадежным она была оберегом, но все-таки хоть немного навий отпугивала. Крестясь и щурясь от страха, подросток набирал воду. Внезапно мимо метнулось что-то – служка в ужасе отпрянул, но то была всего лишь собака.
Собак навьи не боялись, но и не трогали. А сами собаки от навий шарахались и скулили – даже самые сильные и отважные псы, которые в одиночку супротив медведя выходили. Не охранит собака от навьи, ее удел – человечьи труды и защита от живых. Вот кабы кошка! Кошки навий чуют, шипят и нападать на них не боятся, хоть и справиться редко когда умеют. Да только у кого в Полоцке нынче кошку найдут? Только у самых богатых, в боярских да княжеских теремах, как редкостную диковинку…
Собака потрусила рядом со служкой, тот присмотрелся и похолодел: рядом с ним цокала когтями по каменным плитам двора не собака, а волк!
Служка даже остановился, затаив дыхание.
Волк же тем временем огляделся, подскочил к первому попавшемуся пеньку, воткнул в него зубами болтавшийся на груди нож, вывернув голову, вытащил ее из петли шнурка…
Перед служкой стоял голый парень одних лет с ним, только совсем иной стати: крепкий да жилистый, с сильными мышцами и широкими не по годам плечами. Гордый взгляд, непокорные светлые кудри, стать воина – даром что еще из возраста мальчишьего не вышел.
– Т-с-сс! – голый приложил палец к губам.
– Ты… ты кто? – дрожащими губами выговорил служка, лихорадочно приглядываясь. – Оборотень! Свят-свят-свят!
– Дурья башка, – шикнул на него парень. – Княжич я законный, Всеславич! Сам отец меня сюда послал. Дай порты какие да проваливай, коли не хочешь, чтобы дальше вас нечисть пожирала!
– Тень, – невпопад брякнул служка. – У тебя тень.
– Конечно, – удивился Рогволод. – Нешто так бывает, чтобы в лунную ночь да и без тени?
– А у навий их нет, – поспешил поделиться служка. – А у приспешников ихних, наоборот, есть, да какие! По две их. Людская и чертова!
– Это ты дело сказал, – хмуро бросил Роговолод. – Порты несешь али как?
– Несу, несу, – служка торопливо скрылся в чулане. Как ни спешил он, Рогволод успел продрогнуть и услышать перестук навьих копыт, про себя порадовавшись, что на освященные места навьи не заходили.
Обычных порток и рубахи и служки, конечно, не нашлось – вынес он Рогволоду какой-то старый подрясник, но и то сгодилось. Перекрестившись, Рогволод успел поклониться служке – как отец заповедал, за каждое доброе дело, даже малое, искренне поклониться учил, – и побежал к городским воротам.
Как ни мало времени прошло с тех пор, как увидели первого черного всадника посреди ночных улиц, но запустение коснулось уже и ворот, и стен, как если бы люди вовсе покинули эти места. Рогволод только вздохнул, покосясь на рассохшиеся доски ворот. Вон и выломанная поперечина, под которой он пролез в волчьем облике… Нешто при отце бы такое было, про себя подумал Рогволод. Уж тот бы навел порядок – муха бы в ворота не пролетела без княжьей воли!
Тяжелый засов подавался нехотя, с оглушительным скрежетом. Рогволод с силой налег, пытаясь открыть. И вдруг тяжелый перестук копыт послышался в опасной близи.
Рогволод на миг остановился, осенил себя крестом, прошептал сначала «Отче наш», потом – заклятие, которому отец научил, потом – коротенькую, почти бессмысленную поговорку, которую подсказал его собственный Зверь. Наконец, припомнив отцовские уроки, представил себе, что в горсти у него соль или пшено, вложил в нее все пламя души – и швырнул широким взмахом руки вокруг себя, будто поле засевал!
Черные всадники вылетели на освещенное луной пространство.
Они молча сгрудились вокруг – с пяток волосатых тварей с горящими глазами, только кони пофыркивали. Нехорошее это было фырканье. Так надсадно булькают газы, вырываясь из трясины – или из отверстого рта покойника. Могильным холодом повеяло на Рогволода… Зверь в душе тревожно напрягся: навьи остановились на границе, которую очертил-засеял Рогволод, да силенок ему не хватало, чтобы защититься сколько-нибудь надежно!
И тут засов открылся.
Рогволод пошатнулся, оседая – страх и напряжение, да и двойное обращение, дали себя знать, и подхватила его, спешившись и подбежав к сыну, Звенислава. А мимо уже мчалось семеро матерых, свирепых волков и – в почтительном отдалении – дружина в рубашках с вышивкой-оберегом…
– Тень, – прошептал Рогволод. – Матушка, скажи им! Тени! У навий нет теней! А у тех, кто стал, как Онфим… их две! Людская… и чертова…
Звенислава перекрестила сыну лоб – и встала во весь рост, выкликая только что услышанное.
Мягко застучали по мостовой копыта дружинных богатырских коней, обернутые тряпьем. Теперь уж не было необходимости в тихой скачке, но и времени распутывать это тряпье тоже не было.
Огромный черный волк с сединой, переливавшейся по холке, первым напал на след навьи. Глупая тварь кинулась было на него, выставив когтистые руки, ощерилась – да волк, даже не рыкнув, бросился вперед, целя в горло. Черный конь взбрыкнул, пытаясь сбросить нового седока, но, пока волк не задушил навью, не отступился.
Уродливое волосатое тело задергалось, исходя зловонной черной кровью, и начало развеиваться липкими жирными хлопьями, а за ним начал распадаться, истлевая на глазах, и конь. Волк соскочил тогда с коня и оторопело миг или два наблюдал, как слезают клочья гнилой шкуры и стекает смрадная жижа по конским костям, и как эти кости ссыпаются на мостовую…
А потом развернулся – и умчался далее.
Шестеро молодых волков шли по примеру старого – каждый по следам того навья, которого учуял. Каждый безошибочно находил жертву. Каждый знал, куда целил, когда впивался в кожистое булькающее горло. И пусть острые навьи когти вспарывали волчьи шкуры, пусть злобно скалились желтые клыки – не было пощады от Всеслава и его сыновей никому.
Навьи быстро поняли, что они – жертвы, добыча, а не враги, и заторопились уходить, да не тут-то было.
Дружина же княжеская преследовала мертвецов, нечистыми чарами оживленных. Всяк помнил слова Звениславы: «По две тени у приспешников навьих! По две! Одна человеческая! Вторая – дьявольская!» Никто не надеялся, что тела несчастных удастся спасти, но всякий понимал, что спасает их души.
Рабы навьи, в отличие от самих навий, удирать не спешили. Не было у них страха смерти, не было и сознания – каждый из них походил на Петрушку в балагане, куклу, чужой рукой ведомую. Оттого и кидались – пешие на конных, безоружные на вооруженных и защищенных латами и шеломами. До того так же кидались – и побеждали.
Да дружина Всеслава была не чета их прежним противникам. Опытные это были воины, не один и не два боя с честью прошедшие. И главное – знали они, с кем их ратная доля свела, понимали все и крепко верили в силу княгини Звениславы…
Много наутро людишек отпевать-то придется, горько подумала Звенислава. Пошли им благодати, Господи, неповинны они. Полочане ведь они, почти семья – князю и княгине весь люд как дети родные.
Подхватила она сына, чтобы отвести подальше, завести в храм Божий – Софию, мужем ее построенную, и увидала, как один из дружинников добивает навьего раба. И показался княгине тот человек знакомым. Был то удалой боярин, витязь не из последних, все воеводой стать желал вместо Нежаты…
И тут припомнилось ей, что Онфим уж очень ратной славой своей хвастался.
Вона как, поняла Звенислава. Каждого из рабов своих навьи на чем-то, да поймали – на жажде славы, на жажде власти, кого-то, может, на жадности, а кого-то – на страстях любовных. Слабина, она в каждом есть, да не каждый ей волю дает – кто не дает, того навьи убили или же не тронули…
А из церковных дверей вырвался торжествующий крик юного служки:
– Всеслав! Вещий Всеслав вернулся! Князь нас спасет!
Пыль да грязь царили в горницах княжеского терема. Что чернавки в последнее время боялись даже по терему ходить, что людей набежало да натоптало – да и некогда князю о чистоте да красоте думать.
Заполошные уж очень дни выдались.
Князь Ярополк без спору Полоцк уступил да к отцу, к Изяславу, в Киев собрался. Всеслав его не держал, и сам обиды ему не чинил, и приближенным своим строго-настрого запретил.
Жалоб да челобитных накопилось – поболе, нежели грязи на узорных полах, и податели их, в отличие от молчаливой грязи, не молчали – всяк хотел скорейшего разрешения своего дела.
Разрушений в Полоцке оказалось чуть поменее, чем после вражеского набега, погибших – тоже, а уж ущерба казне сколько нанеслось – Всеслав даже за бороду себя дернул с досады, крякнув.
К вечеру он уже пошатывался от усталости. Звенислава велела протопить баньку – Всеслав только порадовался, что жена о нем позаботилась, баня его немного взбодрила. По совести, кабы не Звенислава, князь забывал бы и поесть, и переодеться.
Но в опочивальне Звенислава подступила к нему, строго глядя прямо в лицо.
– Спас ты Полоцк, княже мой светлый, – сказала сурово.
– Кабы не ты да не сыны наши, и не дружина… – начал было Всеслав.
– Погоди, – перебила Звенислава. – Ради Полоцка ты зверем обратился. Богопротивное то дело, оборачиваться. Так поклянись же, что не будет больше того отныне!
Всеслав опешил.
– Да ты что, белены объелась? – взъерепенился. – Как это – не будет больше? Нешто не понимаешь: сила это моя, такая же, как та, что в руках и в мече! Как я могу от нее отказаться? Может, мне и меч бросить, и руку себе отсечь?
– Коли в бою она тебе нужна, так не воюй больше, – отрезала Звенислава. – Тебя уж прозвали Немилостивым на кровопролитие, довольно с тебя!
– Нешто я сам выбираю, быть мне немилостивым али нет? – вздохнул Всеслав. – Слушай меня, Звенислава. Князь я и воин, в себе не властен – что ради Полоцка своего должен, то и сделаю. И коли надо будет воевать, так пойду воевать. И в волчьей шкуре, и в человечьей. Коли хочешь, – он приобнял жену за плечи, любовно глядя в ее серые глаза, – так поклянусь я тебе на кресте и на щите, что волком стану не ради славы или утех воинских, а только ради защиты земли Полоцкой!
Звенислава подумала.
Кивнула, принимая клятву.
– И за то вся Русь не перестанет славить тебя во веки веков, – торжественно произнесла она.
Голосование:
Суммарный балл: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
Нет отзывов
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор