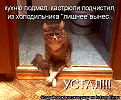-- : --
Зарегистрировано — 130 069Зрителей: 72 188
Авторов: 57 881
On-line — 16 761Зрителей: 3336
Авторов: 13425
Загружено работ — 2 224 509
«Неизвестный Гений»
3. Соколиный полет "пешки" (повесть-хроника)
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |

продолжение
Начало
1 Соколиный полет «пешки» (повесть-хроника)
2 Соколиный полет «пешки» (повесть-хроника)
_________________________
13. Пот Мамая. Заходы по «кругам ада».
***
Разные в полку люди были, разные случаи. Иногда вроде вместе летают. Вместе живут, в одной землянке. А потом смотришь, на следующий аэродром перебазировались, они уже по разным землянкам поселились. А летать продолжают вместе. Иногда и в одном экипаже.
Вообще, отношения были дружеские. Старались, чтобы не получилось, что чего-то не так скажешь – обиделся. Но случалось такое. Вроде нормально было, потом глядишь - какая-то кошка уже пробежала между ними.
Были те, с кем отношения дружеские, а были – разговариваешь, если нужно, а так - особенно и не общаешься.
Иногда в бою что-то произойдет, те, кто там был, видели и знают – им не надо объяснять. Кто почему-то струсил, себя решил поберечь, а другого сбили или убило. А те, кто на земле, и не знают, почему вдруг так стало. Были такие случаи. Перестают друг с другом разговаривать. По разным причинам.
Было из-за девчонок, которые в батальоне обслуживания или медсанчасти, хотя это редко. Если она и тому, и другому глазки строит.
Причем, видят такое – там, замполит или другие кто, из командиров,- эту девчонку куда-то в другое место переведут. Чтоб не соперничали. Другую возьмут.
***
Такие напряжения хуже всего, когда между летчиками происходили.
Если между летчиком и штурманом или стрелком-радистом в одном экипаже – что-то сказали один другому, то это - одно. Поменяли, из одного в другой экипаж. Не всем это нравилось, но приказали – все. Хотя, когда одним экипажем летаешь – это лучше всего. Если и штурман толковый и радист, оба умеют прицельно стрелять в воздухе – это одна жизнеспособность самолета.
Если опытного стрелка-радиста забрали, перевели в другой экипаж, а молодой стрелок-радист попадает в экипаж – сразу уже по-другому и чувствуешь себя, и летать уже должен. Пока этот стрелок научиться хотя бы просто в нужную сторону стрелять.
Стрелки-радисты сами придумывали для себя разные тренировки. В бочке вырежут одну сторону, на веревках привяжут с двух сторон. Пулемет туда же к бочке прикрепят. Несколько дергают с разных сторон веревки, а тот, что в бочке сидит, должен по мишени попасть. Уже полетавший, опытный стрелок по такой цели не один раз попадает, а молодой - пока научиться.
***
А когда между летчиками нет этой боевой дружбы, но они рядом в бою летят - самое страшное, что может быть. Если во время боя нарушается взаимодействие между самолетами, сразу свои «искры» начинают и на земле проскакивать.
Одного, допустим, атакует «мессер», он пытается уйти в глубь строя, как бы спрятаться в середину. Если нормальные отношения и летчики хорошие, то тот, который рядом летит, отходит немного в сторону. Если его в этот момент не атакуют тоже, он может, как бы немного, выйти из строя, чтобы у соседнего появилось место, куда спрятаться. Такая возможность – многое решала.
***
В бою это все происходит на небольших расстояниях. Там буквально несколько метров все решали. Один на пару метров посторонился, другой ушел на эти метры вглубь строя - все: немцу уже не достать, он уже не сможет успешно атаковать, чтобы попасть по мотору. Они в основном именно по моторам целились: для правого ведомого - по правому мотору, для левого ведомого – по левому.
Если такое взаимодействие существовало, немецкий истребитель быстро уходил с позиции близкой для атаки. По нему наши же стреляют – не с одного только самолета, группа стреляет,- немец юлит между трассами и ловит момент. Когда его самолет и самолет противника совпадут в таком положении, что он сможет провести атаку.
Опытные летчики на бомбардировщике видят и следят за тем, насколько близок истребитель к этому месту. Близок, чтобы занять позицию для атаки. Истребитель летит рядом, чуть сверху. Чтобы атаковать и словить в прицел, он вниз должен самолет направить. Пушки и пулеметы и у немцев, и у наших самолетов жестко были закреплены. Там чего-то пытались сделать, чтоб можно было саму пушку довернуть, но так это ни на наших, ни на немецких самолетах и не стало работать.
***
Как только истребитель начинает уже приближаться к такому моменту, если сделать маневр - уйти в сторону или вперед, для истребителя сразу все меняется. Достаточно даже на метр-полтора так сдвинутся, что он уже не сможет атаковать.
Ему опять время нужно - тоже отманеврировать, опять приблизиться. Если он этого не сделает, а откроет огонь - попадет по плоскости крыла, но уже не по мотору. А это ничего не давало - механики только ворчать будут, им дырки заделывать надо.
А если при этом тот, кто рядом летит, тоже умеет и видеть обстановку в воздухе, и совершать такие передвижения самолета в строю, в такой момент еще уступает тебе место, уходит - буквально на два метра в сторону, больше там и не надо - для истребителя ты уже можешь спрятаться, что называется, в середину.
Чаще всего, немец сразу уходил в таких случаях. Начинал делать другой заход, искать другой самолет. Со злости, что не может никак достать, если и даст, то короткую очередь. Чаще и не стреляли, боекомплект берегли.
***
Когда соседний самолет атакуют, ты так же отходишь в сторону.
Если такое взаимодействие есть во всей группе между летчиками - это значительно уменьшало опасность быть сбитым истребителями. А еще если стрелки-радисты опытные и штурманы, которые уже, как говорится, снайперски огонь ведут - группа летит без потерь. Истребители пытаются атаковать - у них ничего не получается. Какой-нибудь рискнет, чтобы сверху зайти, его подожгут тут же - остальные уже не рискуют.
***
Когда же один хочет спрятаться, а другой его не пускает, летит на своем месте в строю, хотя его и не атакуют, – это уже плохо. А то еще - видит, что тот сокращает расстояние между крыльями - и сам туда же в середину заходит, мол: не подлазь ко мне, - после этого такие летчики уже и на земле друг с другом не хотят разговаривать.
Если такое замечали, то нормальные командиры старались, чтобы такие уже рядом не летали.
***
У меня за всю войну ни с кем таких отношений не было. Даже если кто-то мне не позволил спрятаться, а через некоторое время сам начинал прятаться - иногда это во время одного боя происходило - если я мог отодвинуться, всегда так делал. Иногда на земле потом чего-то поговорим между собой, а, обычно, и слов никаких не надо.
Все и так понятно. Боевой товарищ рядом летит или боевой друг. Так оно выясняется там, в воздухе, во время боя. Как любят писать, рядом чувствуешь крыло боевого друга или рядом летит не друг. Хотя, вроде бы, все летим в одном строю. Все боевые товарищи.
***
Другие разные причины были, что-то происходит в экипаже во время боя, и меняются отношения.
С тем же Мамаем, насколько, казалось бы, был спокойный и со всеми в нормальных отношениях человек. А было один раз, когда полетели почти всем полком на задание. Таким, как тогда, я Мамая больше никогда не видел.
***
Как раз тогда погиб командир полка. И назначили нового, как всегда в таких случаях, сначала как бы на время. Из нашего же полка.
Я когда в полк попал, этот летчик уже замкомеском был. Уже в звании не таком как мы, до войны еще служил. Летал на задание вместе со всеми. Вроде ничего так. Так замкомеском и летал.
А тут у нас погибли как раз – один за другим - несколько экипажей. И комполка, и еще из командиров эскадрильи.
Его и поставили командиром полка. А если командир – он должен вести, если весь полк летит или такая группа самолетов, когда большая часть полка летит.
***
Тут это задание – двумя девятками нанести удар. Какие-то звенья не из нашего полка были, от соседей. Поднялись в воздух, построились и полетели. Зенитки над целью, куда летели бомбить, били сильно. Стянули уже к тому времени немцы. Создали заградительный огонь в несколько эшелонов. Мы уже туда летали, знали это.
Ведет нас. Две девятки. Это не звено за звеном тогда летели. Другой порядок – звено возле звена, другие за ними. Чтоб над целью зайти сразу всей группой и сбросить бомбы. Без пикирования.
Если лететь звено за звеном то те, которые идут в конце – их всех перестреляют. По первым высоту определят, первые два звена, может, и успеют сбросить бомбы, а остальные уже могут не долететь до цели. Поэтому разные построения использовали, хитрили, чтобы немцев обмануть. Когда получалось, а когда хуже было.
А тут еще зенитки в несколько эшелонов стоят. Первые пристреляются, а тем, что ближе к цели, сообщают, на какой мы высоте летим. В таких случаях много зависело от умения именно ведущего. С каким маневром он сумеет, обходя огонь зениток, вывести всех на боевой курс, на нужную высоту.
В такие моменты идет игра с немцами на время – кто быстрее. Мы - успеть сбросить бомбы до третьего залпа зениток, а они - успеть сделать хотя бы третий залп до сбрасывания бомб.
В первый период войны по одиночному самолету не очень из всех зениток стреляли. А когда уже Украину освобождали и дальше – и по одной «пешке» били, снарядов не жалели.
***
Брать «вилку» – это у зенитчиков был такой прием угадывания высоты полета самолета.
На какой мы высоте летим. Первый залп, допустим, - взрыв сверху, над нами. Второй залп – взрывы снизу. Или наоборот. Снизу наблюдает и корректирует задаваемую высоту для взрыва снарядов зенитки.
Пока они так первые два выстрела стреляют, и обычно не все зенитки бьют - высоту определяют, то еще есть время успеть долететь и сбросить на цель бомбы. Хотя немцы тоже, если позволяло количество зениток, старались несколькими зенитками выстрелить сразу на разных высотах, чтобы с первых выстрелов определить заданный эшелон нашего полета. А потом по всем расчетам сообщают – и уже все стреляют. Но это все равно время – пока выстрелили, пока передали данные, пока их другим сообщат..
Живой остался или нет – этими секундами и определялось.
Как ведущий группу заведет, насколько точно на цель выведет, не в нарушение условий выполнения задания. А иначе – он отвечает, начинает на второй круг заводить. И все это с бомбами. И все за ним идут – команды не было сбрасывать – все за командиром идут..
***
Заходим двумя девятками на цель. То ли они еще добавили зениток, не знаю. Первый этот рубеж зениток, как и раньше, вроде, стрелял. А когда ближе к цели - с земли как полыхнет – сплошной огонь, который прямо на нас вылетает. Оно ж еще и те зенитки, которые сзади оказались, тоже продолжают бить.
И ведущий самолет, до цели не долетев, бомбы не сбросив, пошел на боевой разворот. И мы все за ним следом – уходим от цели.
***
Делаем круг – это ж все вместе, с бомбами - и опять заходим. На эту же цель, на той же высоте. Зенитки уже на первом рубеже стреляют прицельно. Опять не долетаем до цели, ведущий отворачивает, все за ним следом – пошли опять на разворот.
Бомбы не сбросили. В эфире ругань стоит – кто-то матерится, кто-то проклинает. И радисты, и штурманы, и летчики – уже ничего не поймешь. Где голос командира полка, где твоего командира эскадрильи.
Чтобы именно в нашем строю так ругались и кричали ни до этого, ни после – никогда не слышал за все время войны. Были случаи, когда в эфире кроме мата ничего не расслышишь. Особенно если попадали, что в этой же зоне «илюши» рядом работали – тогда все. Один мат-перемат стоял в эфире.
Там, где работали штурмовики, на «Ил-2» которые летали, - это сплошная ругань была. Тогда лучше было выключить внешнюю связь. Она уже ничем не помогала, а, скорее, наоборот.
У нас тоже было, во время боя кто-то выругается, другой, но такого не было, как это было у штурмовиков.
А тут что только не кричали, а кто-то даже: «да, сбейте его, кто впереди летит».
***
Мы ж летели таким строем, что некоторые самолеты в середине него летели. Так, что со всех сторон самолеты – и впереди, и сзади, и по бокам. Одно дело по прямой так лететь, а другое дело поворачивать. Да еще с бомбами. Не все летчики, которые считались уже опытными, давно летали - могли правильно сделать боевой поворот, если оказывались вот так в середине группы.
Когда уже большими группами стали летать, это проявилось, как с той же «вертушкой». Казалось бы, что тут такого особенно сложного, когда летишь так в середине и надо делать боевой разворот. Когда смотришь вправо – контроль по плоскостям – ты левый ведомый. Когда смотришь налево – ты правый ведомый. При этом все действия с управлением самолета – регулировка ручек газа, положение штурвалом, ну, все – совершено одинаковые. Казалось бы. А были такие, если он с краю летит - не важно где: слева, справа – все нормально разворачивается. Как только попал в середину – его начинает куда-то вести. А остальные, кто за ним летят, ориентируется по нему. Он уходит в сторону – и некоторая часть группы за ним.
После разворота уже две группы летят. А если несколько таких летчиков попало в середину - группа распадается после боевого разворота.
Строй же держится боевой – расстояние между самолетами небольшое должно сохраняться. А если такое происходит, да истребители противника на отходе атакуют – сразу неразбериха такая получается.
И были такие летчики - и в нашем полку, – которые так и не смогли до конца войны научиться делать боевой разворот, находясь в середине. Хотя летали с 41-го года или 42-го.
***
Тут у нас группа вместе держится, строй пока сохраняется. Но «мессеры», «фоккеры», пока мы тут кружили – еще налетели. И тоже атакуют, когда мы из-под огня зениток выходим.
Понимают, что у нас какая-то неразбериха происходит. Несколько кругов сделали, а бомбы не сбрасываем.
***
Делаем третий заход.
А мое звено, я тогда уже командиром звена летал, летело крайним справа. Я начинаю уже сам соображать, что делать. Ругаются между собой, а никто ничего толком не командует. Все летят, как и летели. И все понимают, что уже летим на верную смерть. Что-то надо делать, немцы ж видят, что мы кружимся, а бомбы не сбрасываем.
Или высоту менять, или бросать бомбы уже куда придется, и лететь домой. Да хотя бы увел дальше в глубь немецкой территории, потом как бы на обратном курсе домой провел бы над целью. Бомбы сбросили и пошли домой.
Нет, крутится тут же, на одной высоте. Все поэтому и ругаются. Я в эфир не ругался, и без меня там хватало, но про себя тоже чертыхался во всю.
Кроме зениток да истребителей – на этих поворотах сами один другого угробить можем ежеминутно. Тем более, все взвинченные.
И что тут сделаешь? Командир ведет. Видно, он отчего-то растерялся, испугался, а летит-то ведущим группы.
***
За мной следом еще одно звено летело. Если мы бы летели последним звеном, я бы, наверное, уже на третьем заходе так сделал.
Понимаю, что надо не отворачивать вместе со всеми, если опять начнет уходить с боевого курса, а протянуть еще буквально минуту-полторы и сбросить бомбы на цель.
Потому что ведущий начинает отворачивать тогда, когда до цели – ну, совсем рядом. Еще чуть-чуть протяни и все. Ты над целью. Какую-то еще минуту и сбросил бомбы, все остальные за тобой кинули – развернулись и ушли из-под огня этого.
А так, в этот огонь уже третий раз заходим и неизвестно еще – последний ли.
***
И опять то же самое. Остается какая-то минута до выхода на цель, он отворачивает, все вместе за ним. Может, не минута потому, что он тоже по-разному делал. В какой-то раз ближе были, а то еще раньше начал отворачивать.
До этого уже ругались и матерились в эфире, а тут совсем уже – и не поймешь, кто и что кричит.
И такую мать твою, и убью, и.. – отдельные слова какие-то только понимаешь. Это ж восемнадцать экипажей по три человека. И кричат не только летчики, пока можно было еще разобрать голоса. Уже и стрелки-радисты начали кричать.
Водит на верную смерть. Вообще, это страшная ситуация в бою.
***
А что тут кричать, ругаться. Делать чего-то надо. А уже никто ж команды никакой не может и подать, если б и хотел – никто уже не услышит.
Действительно, не выдерживают у тебя нервы, когда снизу зенитки таким залпом бьют, сбрось уже эти бомбы, не дотянув до цели. Да уводи всех отсюда. Другие за командиром сразу тоже сбросят. Тут и командовать не надо – только увидели, что от самолета командира отделились бомбы, все сразу, долетев до этого же места, бросают. Даже если и не слышали никакой команды. Не в каждом бою и услышишь эту команду.
Нет, сам с бомбами уходит на разворот, и другие за ним, не сбросив.
Разворачиваемся опять - уже на четвертый заход.
Нет, думаю, так дальше вместе со всеми – нема дурних, як кажуть в нашому селі.
Если б еще можно было поговорить с тем командиром звена, которое за нами летел.
Но командир звена там, вроде, летчик опытный. Мы знали, кто, на что способен и как быстро соображает. Думаю, даже если он не за мной, а за остальными начнет отворачивать от цели, самолеты станут легче – сможем нагнать и стать в строй. А если не на свое место, если не поймет, что мы сделали звеном, и потянется занимать наше место - тогда сзади уже пристроимся. А, может, за нами пойдет со своим звеном и тоже сбросит бомбы.
***
Пока разворачивались на четвертый заход, мне штурман по плечу хлопает, смотри, мол, до чего уже закипело.
А самолет, где Мамай летел штурманом, левее и впереди был. Смотрю, на развороте, когда самолет ведущего виден - как бы навстречу летит,- из верхнего люка Мамай вылез, где-то по пояс. И, видно, что-то там кричит, руками размахивает, а в правой руке пистолетом грозит командиру.
Это ж пролез к радисту, этот лючок был на месте радиста. Туда пролезть тоже не так просто было от штурмана. Наверное, парашют свой сбросил. Тоже еще, когда под огнем зениток так летаешь, взять и снять свой парашют.
Вылез в этот лючок – почти по пояс сверху торчал. Так вылезть, когда самолет летит – скорость-то не маленькая, больше 400 км – это не просто силу надо иметь. Чтобы держаться, да еще руками размахивать – это уже ярость должна быть. Но и сила, конечно.
А самолет под наклоном как раз так. Его торчащего сверху хорошо видно было. Размахивает руками, видно, что рот раскрывается – кричит что-то. Пистолет показывает.
Убью, мол.
***
Убьешь тут его. Если сами живые прилетим. Оно у самого все кипит, что, кажется, и сам готов был бы убить, если б прямо в эту минуту была такая возможность. И так, наверное, у всех было.
Это ж командир полка ведет всю группу. Пусть еще не утвердили, но все равно. Все понимают, что после этого будут разбираться на земле, кто и что делал в этом бою. За проявленную трусость в бою, за панику наказать могли, вплоть до расстрела.
Да еще свой вопрос, командира накажут или тех, кто перестал его слушать, перестал лететь за ним. Оно, действительно, для его же ведомых, тоже командиры эскадрилий, что делать. Взять, самому сбить ведущего и занять его место, что ли?
Если бы ведущего группы убило, кто-то из его ведомых принял на себя командование и все бы закончилось – отбомбились бы. А так все за ним летят и делают, что он делает.
***
Я своим ведомым постарался показать, что будем сбрасывать сами бомбы. Чтобы они за мной следили и за мной повторяли.
Сказать им, что задумал – нельзя. Попытался, но вся эта связь внешняя, между самолетами, криками забита. Еще подумал, ребята опытные, в любом случае привыкли за командиром идти. Даже если не поняли, все равно должны будут пойти за мной.
Штурману по внутренней самолетной связи прокричал, чтобы был готов сбрасывать бомбы и сам прицеливался - в любом случае пойдем на цель.
Когда бомбят такой группой, то прицеливание всей группы и точность бомбометание зависит главным образом от штурмана в самолете ведущего. Как они с командиром завели всю группу, с какого места сами сбросили бомбы – все остальные дотягивают до этого места и бросают. Другие штурманы в таких случаях сами уже почти и не прицеливались.
***
Четвертый раз заходим, голоса как бы приутихли. Все готовятся бомбы сбрасывать. Я в этот момент для своего звена постарался по связи передать, чтобы делали все за мной. Вроде, услышали, поняли. Один даже ответил, второй – я не понял. Сообразит, думаю.
Снова снизу как полыхнет, смотрю - ведущий опять с боевого курса в сторону уходит.
Я продолжаю лететь боевым курсом, уже не отворачиваю со всеми.
Стрелку кричу: где наше звено?
– Наши - за нами летят,- отвечает: «А задние – нет».
Звено, что за нами летело – пошло на разворот за всеми.
Не знаю, минуту или чуть больше выдержал курс – понятно, что страшно, со всех сторон снаряды рвутся, и рядом то слева, то справа, то одновременно почти. Немцы к этой высоте уже пристрелялись, времени у них было – куда там. Хотя они тоже огонь переносили, вслед за группой – это тоже сказалось.
В такие моменты все сжимается – у каждого. Зубы сцепливаешь от страха – а куда деваться, задание надо выполнить. Собьют, убьют – тут ничего не сделаешь. Но не по десять раз крутиться в одном и том же зенитном огне.
С первого раза выдержал курс на нужной высоте, довел до заданного места нанесения удара – и все.
У немцев снаряды не закончатся, меньше огонь не будет.
***
Долетели звеном до места сбрасывания над целью, бомбы сбросили. Ведомые за мной сбросили. Резким разворотом, самолеты уже не такие тяжелые, ушли всем звеном догонять строй.
Которые за нами летели, командир звена сообразил, что мы задумали и делаем, наше место не стал занимать со своим звеном. Догнали группу, прямо на свое место становится не стали, а метров на 50 выше, но над своим местом.
Чтобы уже можно было и маневрировать как-то, и высота, чтобы не совсем та, по которой бьют уже все зенитки.
Но, одновременно, строй мы не покинули. Когда будут выяснять, кто и что творил в этом бою – объясню, почему со своим звеном отбомбился самостоятельно. Но строй не покинули, продолжали летать со всеми вместе.
***
Если бы поставили мое звено слева в строю лететь – такой бы возможности не было. Левый боевой начинает делать ведущий – и уже всем, кто слева летит, прямо некуда лететь. Только если его расстрелять из пушек и сбить.
***
Крики продолжаются, тут же все заходят на пятый заход. Мое звено вместе со всеми. Но мы уже без бомб летим – а это уже своя разница. Уже легче.
То звено, что за нами летело, на пятом заходе то же самое повторило. Командир звена, как и я, довел своих до цели, сбросил бомбы, и тоже - на нашей высоте за нами же пристроился. Летим уже двумя звеньями – повыше, но в строю.
А сколько так летать будем – никто ж не знает. Из других самолетов видели, что несколько звеньев самостоятельно отбомбились.
Тем, что слева летят – они бы и хотели, но не могут. Командир начинает отворачивать, им деваться некуда. Дальше, до цели, им не протянуть – перекрывает им курс, должны за ним повторять маневр.
***
Не помню, сколько раз еще так заходили. Но всего заходов семь или восемь, наверное, сделали.
Мы уже без бомб развороты делаем, это уже совсем другая маневренность. А остальные же с бомбами.
Другой бы стал на место ведущего. Там же летели и комэски. Это уже опытные летчики. Но попробуй там, в воздухе, взять на себя командование. Это все должны понять – и тот, который на месте командира летит. Перестроиться надо или... да, что там рассуждать. В воздухе отстранить от командования – такого не сделать.
Тем более галдеж в эфире продолжался. Никто никого и не слушает, и не слушается. Наверное, комески что-то пытались сделать, они ж рядом с ведущим летели.
***
Я уже лечу и смотрю, сколько в баках горючего осталось. Можно тут так долетаться, что и назад прилететь не останется. Уже начинаю думать, а что делать, когда дойдет до предела. И, наверно, не я один начал об этом думать.
У нас самолеты легче, расход топлива меньше, чем у тех, что с бомбами. Поэтому - то ли ждать, когда они начнут падать с сухими баками на землю, а потом уходить уже самому. А хватит ли самому вернуться, если ждать до такого момента. Начинаю уже прикидывать в уме, штурмана спросил, сколько минимум надо иметь горючего в баках, чтобы суметь долететь до своего аэродрома.
***
Такие расчеты – своя еще точность. Это ж не просто по прямой пролететь. Пойди - угадай, что еще произойдет, пока лететь будешь. Какие там «мессеры» появятся, и чего надо будет делать. Расход разный – если ты высоту набираешь, да несколько раз так приходится делать, или по прямой летишь.
Видно, и другие уже стали соображать, что можно так до сухих баков долетаться – и тогда что? Падать один за другим все вместе?
Похоже, уже летчики сами заставили замолчать штурманов, стрелков, чтобы хоть между собой можно было договориться. Голоса комесков уже можно было услышать.
***
Не знаю, на каком это уже заходе, седьмой или девятый. Может, кто-то пригрозил ведущему, что сам собьет из пушек, он же начинает поворачивать и как раз под прицел попадает.
Как-то дотянули, над целью там уже было бомбометание сделано или насколько там близко от нее, не знаю. Ведущий сбросил бомбы и остальные за ним кинули.
Развернулись – домой. Летят – все молчат. То разговоры обычно какие-то, если истребители на отходе не атакуют. А тут никто ни звука не подает. Настроение у всех, чувствуется, - только б долететь, приземлиться.
***
Удивительно, но никого так и не сбили. Поэтому, наверное, так оно и закончилось для этого, кто командиром был. Не разжаловали, только с командира полка убрали.
Тоже, по-своему, удивительный случай - что при таком обстреле и столько раз заходили, а потерь не было.
***
Когда мы прилетели, зарулили на стоянку. Я такого никогда не видел. Мамай тогда запомнился, и не только мне.
Это холодно еще было. Погода зимняя – одежда тоже зимняя. На высоте еще холоднее – одеваешь на себя все, что только можешь.
Моторы заглушил, а из кабины как-то вылезать и сил нет, и не хочется. Сидел мокрый весь – и спина, и задница, как говорится. Оно на каждом задании так, после выполнения бомбометания, если воздушный бой был, - мокрый весь. Когда уже через линию фронта перелетаешь, как бы приходишь в себя. А тут сил нет вылезти из кабины.
Так сидя в своей кабине и наблюдал за этим.
***
Мамай вылез из самолета. А их самолет недалеко на стоянке был. И как-то так грузно спрыгнул из своего люка вниз. И так медленно разогнулся, несколько шагов сделал, отошел от самолета. Как-то все его движения такие медленные были.
Начал раздеваться. Куртку расстегивает. Еле тянет замок, один рукав стянул, второй – снял, на снег положил. Все так медленно, нет сил как бы совсем.
Свитер снимает и начинает его отжимать – а со свитера, как вода прямо ручьями, – пот течет. Свитер положил. Потом гимнастерку снял – и опять отжимает, а с нее тоже течет. Вроде, как только постирал и выжимает. Гимнастерку положил.
Нательник теплый снял – тоже с него течет. Второй нательник – опять отжимает.
***
И как-то так медленно все это делает. Не спеша или сил нет. Мороз же.
Мамай голый по пояс стоит и еще по одному раз все свои вещи опять отжимает. Оно опять течет с этих вещей. Уже не так, но все равно.
Кто из самолета еще, как я, на это смотрел, кто уже вылезли. Стояли, наблюдали, что он делает. И ждут, что дальше будет – потому что многие видели, как он в воздухе пистолетом размахивал в сторону командирского самолета.
Мамай отжал так всю свою амуницию. Штаны и нательные он не стал снимать, хотя оно такое же мокрое все было. В таких случаях и спина, и задница – все мокрое.
Так же неспешно одел все на себя – и пошел, никому ничего не сказав, с аэродрома.
Тот, который командиром летал, так из своего самолета не вылез. Не знаю, к нему там кто-то пошел или нет. Что там с ним и как. Вместе с другими, я со своим экипажем ушли со стоянки, вслед за Мамаем.
***
Этот вылет многим запомнился.
И Мамай, по пояс голый, на снегу, выжимающий пот со всех своих вещей.
Командира этого отстранили от командования. Но из полка так и не перевели в какой-нибудь другой полк. Он так и летал до конца войны, но ведущим его уже никогда не ставили. Замкомеском оставили, звание у него такое было.
А первое время, несколько месяцев, наверное, после этого, - как только на задание лететь, он по несколько раз бегал в кусты.
Уже на стоянку идем взлетать, а он все отбегает. Медвежья болезнь. Какой-то понос, он там, вроде, и в медсанчасть бегал. Его даже не всегда и ставили на выполнение заданий. Как запасного на земле оставляли, если у кого-то самолет откажет при взлете. Так до конца войны и летал, можно сказать.
***
Что называется, усрался. «Желтая кровь», как началась литься тогда в бою, так и не останавливалась. Хотя, чтобы над ним там подсмеивались или издевались потом – как-то не замечал.
Может, первое время, после этого вылета. Какое-то время было такое к нему отношение. Когда он – как только услышит, что должен лететь на задание, - сразу в кусты. Иногда, уже команда по самолетам – а он в кусты бежит. Между собой переглянутся хлопцы, кто-то улыбнется, кто-то гримасу какую-то изобразит.
Такие у человека нервы, не выдерживает, не может и все. Что тут сделаешь – такой организм. Пока летал со всеми в группе, не ведущим, - как бы нормально было.
Что значит - командир в бою.
Другой был командиром: ведет, за ним все идут, и он со всеми - и уже не так страшно. А как только сам оказался на месте командира – нервы не выдержали, и все тут.
Каждый, кто сам в том огне бывал, когда зенитки бьют, знает, как очко там сжимается… И не один раз. Поэтому над кем-то другим смеяться - особенно не станет.
Не у него одного, как тогда выражались, случались ранения, когда выступала кровь эта желтая. На фронте не редко такое и с другими случалось – «желтая кровь» вытекала..
.…………….
14. Командир в бою
От командира группы много зависело, как он группу ведет, как заводит на цель, маневрирует или нет. Были такие – всех за собой как баранов ведет прямо на взрывы от зениток..
Или другое – под углом поставит всех, чтобы уменьшить площадь попадания для зениток, опять же высота уже разная – и с такого положения и бомбы скидывают. Куда они так уже попадают – никто не знает. Были и такие. Особенно уже ближе к концу войны.
***
Яша Белявин был у нас такой . Мы его Яшей звали, а как-то уже после войны только узнал, что у него не такое имя. И с высоты не той сбросит, не снижаясь до заданной. Еще чего-то схитрит, чтобы под огонь зениток не залазить.
И как-то проходило это. Даже Героем стал. Он комеском стал ближе к концу войны, как и Новиков .
Особенно мне запомнилось, когда летали бомбить уже Берлин и Зееловские высоты. Конечно, тогда не то, что с земли стреляют, а казалось просто - вся земля огнем полыхает.
Немецких истребителей уже не так много было, а снизу такое вздымалось.. Казалось, чувствуешь даже жар этот от земли идущий.
***
В какой-то из вылетов меня поставили почему-то в эскадрилью Белявина – самолет, что ли, чей-то забарахлил. А мы уже туда летали все, на эти Зееловские высоты, не один раз. И их эскадрилья, и наша.
Причем, идем к самолетам, а Яша на меня все поглядывает. Он чуть впереди шел. Один раз оглянулся на меня, другой. Поглядывает, вроде сказать что-то хочет, но молчит. Я тоже молчу. Мы с ним давно уже были знакомы. В одном полку почти с самого начала. И летали вместе не раз. То он ведущим группы, а было так, что я ведущий, а он в группе летит. По-разному было.
Да, мы с ним и в таких как бы приятельских отношениях были.
А тут оглядывается, вроде чего-то сказать хочет, но так и не стал ничего говорить.
Потом уже, когда прилетели, понял, что видно раздумывал, сказать мне, предупредить, как они бомбят. Так и не сказал.
***
А они между собой уже, похоже, давно сговорились. Натренировались так делать. Начинаем подходить к цели, Яша всю свою эскадрилью веером таким ставит – да еще и каждый самолет под углом. На разворот как бы уходят и с этого положения делают сбрасывание бомб.
Не знаю... Это с учетом уже всего своего опыта к тому времени полученного, в разных ситуациях уже, казалось, - каких только не было. Я еле успел сообразить и за всеми это же сделать. Просто мог столкнуться с соседним самолетом, если бы не успел, - срубил бы меня.
Все так летят – те, что справа, выше по высоте, да еще правое крыло выше левого. Видно, что у них это отработано, не первый раз. И из этого положения бомбы бросают.
Мой штурман кричит: «Что делать?»
Он в таком положении уже никакой цели не видит. Так никто никогда не бомбил. Полное нарушение требований по бомбометанию.
Штурман не имел право сбрасывать бомбы, если цель не в прицеле оказывалась. Надо было делать другой заход.
А тут, вижу, другого захода не будет. Специально так делают. Штурман тоже увидел, как все дружно таким веером стали, еще ж и с разворотом получается.
***
Не сбросишь бомбы, а они все сбросили – что потом делать? На второй заход самому идти? Группа тебя не будет ждать. Или с бомбами назад лететь? А потом что – с бомбами уже не сядешь. Их надо будет куда-то сбросить. Прилететь и на свой аэродром кинуть, что ли.
Ситуация такая. Времени нет рассуждать, это ж все секунды. Надо понять, что происходит, и принять решение, что самому делать.
Прилети я назад с бомбами – хотя тоже еще свой вопрос: они все уже без груза летят, а мне за ними как угнаться. Они ж не будут на моей скорости лететь.
Тут правило всегда одно было: семеро одного не ждут.
А прилети я так – будет свое разбирательство. Почему так случилось, по каким причинам. Даже если уйти на второй заход – потом все равно группу уже не догнал бы, скорее всего. А когда такое происходит – опять начинают выяснять, что и почему.
Рассказать, как Яша со всей своей эскадрильей бросает бомбы – будет свое дело. За невыполнение боевой задачи, да еще коллективное.. Вообще, и под трибунал, как командира, могли, да и обязаны были отдать. Сделай так, бомбы не сбрось со всеми – доложи потом, не знаю, что этому Яше было бы. Хотя он тогда уже Героя получил, комэск.
***
Но мне самому это нужно, что ли – вроде как донес на него, да и не только на него? Вся эскадрилья так бомбит и, похоже, уже не один раз. Тут можно раздуть такое.. А все будет из-за того, что я не стал бы со всеми бомбить в нарушение.. Сам потом сбросил бы на цель как положено, или уже куда-то в другое место отбомбился.
Все эти рассуждения тогда не такие были, но в голове как бы промелькнули такие варианты. Времени нет обдумывать, а надо понять, что делать. Как правильно в такой неправильной ситуации поступить.
- Бросай за всеми! – а у самого все внутри колотится. Тут еще от этих виражей не отошел, когда чуть не срубили меня – и тут же еще ребусы такие. Как правильно поступить. Боевое задание. Его выполнение нарушают. Но это ж все свои ребята. Все эти летчики – мы уже давно вместе и живем, и летаем. И разное было.
Они тебя «под монастырь» подводят – то и ты их, что ли?
Чуть позже других, туда же за всеми – непонятно куда, бросили.
Хотя бы предупредил, то же друг еще.
Прилетели, сели. Назад идем.
Яша так на меня с улыбкой смотрит: «Ну, как тебе, понравилось?»
Я уже к тому времени, пока долетели, успокоился. Пожал так плечами: «Зачем так делать?». Отвечает, вроде того: «Я своих ребят берегу».
А те, которые после такой бомбежки там по земле потом будут наступать – это уже не свои? Они могут гибнуть..
***
А для контроля выполнения заданий были свои устройства записи. В самолетах ставили – записывали, на какой высоте сбросили бомбы. Фотосъемка делалась. Своя служба была – контролировала и должна была сообщать, какое было задание, и как его выполнили.
Был такой контроль.
- А с этим контролем как? – спрашиваю.
Улыбается: «Я там с девчонками договорюсь..».
Что ему тут скажешь?
***
И другая противоположность. Тот же Новиков – ну, просто, как колун был. Если Новикова ставили командиром группы - уже все невеселые шли на задание. Хмурятся, каких-то шуточек, разговоров не услышишь.
Знали, что с ним лететь – это гибель. Он если стал на курс, истребители атакуют, зенитка - не зенитка, снаряды хоть под крыльями уже начинают рваться – даже немного в сторону от заданного курса не отвернет. Так всех и ведет за собой, не шелохнется. Вроде как утюг по доске всех ведет.
Тоже надо было нервы иметь, чтобы вот так и самому лететь. Ну, и другие уже за ним – куда деваться. Но не любили, когда Новикова ведущим ставили.
Каждый по-своему ловчил и старался, чтобы и задание выполнить, как требуется, и живыми остаться.
***
Ближе к концу войны мне уже приходилось не один раз летать и командиром групп. Разные группы по количеству и по составу. Хотя был только командиром звена. Те же Новиков или Белявин, будучи уже комэсками, оказывались в этих же группах, летали как ведомые.
Когда летишь командиром группы – совсем уже по-другому приходиться и думать, и лететь. Тогда уже нужно было соображать, насколько все остальные, летящие за тобой, способны повторить тот маневр, который ты будешь совершать.
У каждого летчика своя манера вырабатывалась. На ту же цель завести группу, чтобы обойти зенитный огонь, уменьшить по возможности опасность. Разные варианты всегда существовали, как завести можно группу. Чтобы точно вывести на заданную высоту и точку сброса бомб.
Когда уже пришлось командиром летать, сразу по-другому начинаешь и думать, и соображать. Уже не только за себя отвечаешь. И тоже сразу определялось, кто и на что способен.
***
15. Место в строю. Урок судьбы.
***
(Степной фронт, август 1943 г., бои за освобождение Харькова)
***
Из доклада на встрече однополчан в г. Умани в мае 1977 г. «Боевой путь 82-го гвардейского бомбардировочного авиационного, орденов Суворова и Кутузова, Берлинского полка»
«13.08.43 прорван внешний оборонительный рубеж Харькова, находящийся в 8-14 км, а 23.08.43 освобожден сам Харьков.
Отступая, враг оказывал упорное сопротивление, создавал оборонительные рубежи на реках Мерефа, Мжа, Ворскла, превращал города Валки, Красноград, Полтаву и др. в опорные пункты. Тяжелые бои шли за Мерефу и Люботин. Началась жестокая битва за Украину на земле и в воздухе. Масса зенитной артиллерии, снова большими группами ходят «мессеры» и «фоккеры».
Полк нес потери.
От прямого попадания зенитного снаряда взорвался самолет экипажа Боброва, вечером 22 августа сбиты самолеты Горелова и Москвина.
Для подавления сопротивления немцев в населенном пункте Буды – юго-западнее Харькова – вечером 23.08.1943 полк повел к-р АП майор Пчелкин (всего 12 самолетов)».
***
Тоже было дело, случай такой. Многим запомнился.
Мы ж по-разному летали. Одним звеном. Несколько звеньев из одной эскадрильи, а бывало и с разных. То с разных полков одну группу делают – девятку или больше. Разные варианты построения: змейка звеньев, девятки в клину или колонна девяток. На каком именно месте в строю оказываешься – никогда никто не может сказать.
Куда командир ставит – там и летишь. Как поставили – так и летаешь, как в своем звене, так и в других случаях. То самолет у кого-то неисправен, тебя с другим звеном на задание отправляют.
***
Но как-то так сложилось, что достаточно долго в своем звене летали так, что я – был правый ведомый, а – Бобров левый. Вообще-то долго так летали. Не помню сколько – но несколько месяцев, может и побольше. Если летим всем своим звеном – так было.
И вот в какой-то момент начал Бобров волынку тянуть – почему он все время слева летает в звене, а я справа.
И тоже это долго длилось. Потому что он не каждый день об этом разговор заводил. Один раз сказал, после того, как с задания прилетели, - настреляли зенитки. Командир эскадрильи как бы отмахнулся - перестань.
Какое-то время прошло – он при каком-то разговоре опять: почему это Чорный все время правым ведомым летает, берегут его, что ли. Опять вроде промолчали. Между собой переглянулись.
И так не один раз в разных ситуациях было. И при командире эскадрильи, и при других бывало, как мне рассказывали другие летчики.
Недоволен он своим местом в строю – что мое место лучше, чем его.
***
Там был, конечно, такой момент. При бомбометании с горизонтального положения, когда бомбы сбросили и боевой разворот делается – тот, который слева летит, он из всего звена оказывается дольше всех под зенитным огнем - и на той же почти высоте и ближе к той зоне, с которой сбрасывание производилось.
Слева летящий самолет должен был, как бы, на одном месте прокрутиться на 180 градусов. Это не танк - на месте не повернуть, но это для левого ведомого – главная задача. Максимально оставаться как бы на одном месте. Чтобы и все остальные развернулись как можно быстрее по своим радиусам. Там еще и скорость выравнивается, каждым по-своему. Чтоб не разлетелись в разные стороны. Отрабатывалось до автоматизма уже.
А туда ж, где левый ведомый и крутится, как раз к этому моменту все зенитки и нацелены стрелять. То есть пока идет разворот, он как бы дольше всех из звена остается в той зоне, куда это все стреляет. Это для всех так было, кто летал левым ведомым в звене. Если строй по звеньям. А если другое построение, то для тех, кто в строю слева летел, они тоже над целью как бы и разворачиваются.
Ведущий летит чуть выше, правый ведомый уходит еще выше – каждый на своей высоте и с разными радиусами разворота. Чтобы все три самолета, сохраняя строй, одновременно через левое крыло сделали боевой разворот. Боевой разворот – это на 180 градусов повернуть и всегда только через левое крыло. И выйти опять на прямую, сохраняя дистанцию между собой.
Когда летишь по прямой в строю – очень близко летели. Слева или справа летишь – разницы там практически никакой. Расстояние между самолетами всегда одно и тоже, небольшое, несколько метров между плоскостями. Но при боевом развороте расстояние между самолетами увеличивается. Но тоже разница там небольшая – это ж не на полкилометра разлетаемся. И даже не на сто метров. Несколько десятков метров правый ведомый все же выше летел.
При боевом развороте, если летчики опытные, когда самолеты опять выходят на прямой курс, расстояние получается такое, как и до этого летели. Потому что рядом так и летят все время. Это молодые разлетаются – потом не соберешь их.
Хотя кучность огня – оно, конечно, каждый метр лишний – как бы играет свою роль. Есть разница, между тем, который справа летит, в него уже не таким пучком осколки летят с этой высоты взрыва снарядов, как для того, который слева. Он уже от них вроде вверх убежал.
***
К тому времени, когда это произошло – в полку одни опытные летчики остались. К периоду окончания боев на Курской дуге в полку половина летного состава была. Такие потери были, и пополнений уже никаких не было.
А все эти разговоры происходили в течении нескольких месяцев. Месяца полтора, может.
Этот Бобров, нет-нет, да и заводил такой разговор. И при мне, а когда и без меня. Когда первый раз он такое сказал, я на него посмотрел – чего ты говоришь, к чему это. А он свое продолжал.
И так оно долго тянулось. Я молчал, ничего не отвечал, вроде и не слышу, и меня не касается.
***
В тот день, когда и произошел этот случай, один раз уже слетали на задание, и второй раз надо лететь. Опять девяткой, звеньями. Идем уже к самолетам все вместе. Командир как раз нашей эскадрильи, Голицин, – ведущий группы был. Еще как бы уточняет задание, что-то говорил.
А этот Бобров снова свое начал – что опять ему слева лететь. И чего-то командир так в его сторону резко повернулся, глянул так.. Запомнился мне этот взгляд, как-то так недобрым взглядом посмотрел на Боброва. Прошел еще несколько шагов и говорит: «Хорошо, Чорный – летишь левым ведомым, а ты – правым. Понятно?»
Понятно.
«Есть» - ответил. Глянул на Боброва – он как бы делает вид, что не замечает моего взгляда.
А все это сказано было буквально уже по самолетам расходиться. Мы так всей группой шли. Все экипажи идут вместе. Не все, но многие слышали и разговор, и команду эту.
Взлетели, построились в группу по звеньям – полетели.
***
Подходим к линии фронта. Ведущий поднял группу на высоту, на которой планировали переходить передовую. И где-то еще над линией фронта – в самолет Боброва прямое попадание снаряда. Причем не то, что пробил насквозь – а именно разорвался внутри самолета, где-то почти по середине.
Он же летел справа от меня – рядом. На расстоянии не больше двадцати метров каких-то. Два крыла по восемь где-то метров и три метра – обычная дистанция между плоскостями.. Да там и трех метров не было, уже перед линией фронта всегда метра по полтора начинали держать расстояние в строю.
От хвоста впереди летящего самолета и между крыльями соседних самолетов - расстояние всегда почти одно и тоже. Не больше трех метров. Если летчики опытные, то уже подлетая к линии фронта строй так сжимается и уже дистанция между самолетами может становиться только меньше. Самолет водит туда-сюда, но одна и та же дистанция удерживается в пределах полуметра.
Если летчик не опытный еще, то первое время он, конечно, не способен такую дистанцию держать, вываливается из строя.
***
Тут этот взрыв – это ж мгновение. Неожиданность полная, никаких перед этим других взрывов не было. Как это обычно, когда зенитки пристреливаются, рядом взрываются снаряды.
Тут же в один миг взрыв и самолет Боброва на три или четыре куска сразу разлетелся, и вниз все это полетело. Крыло одно отдельно, передняя часть с другим крылом, хвостовая часть и еще что-то. Или это кто-то из экипажа выпал сразу.
Там тяжело разобрать. Оно бахнуло совсем рядом – звук оглушающий, краем глаза я даже увидел в разломе самолета огонь – где-то между местом штурмана и стрелка-радиста. От испуга аж пригнулся, свой самолет воздушной волной подбросило, его удержать надо.
А обломки самолета – они сразу вниз падать начинают. Сколько сумел рассмотреть, что на три части такие разлетелся самолет. С обломками весь экипаж так и упал. Сразу их всех поубивало или как.. Ни один парашют так и не раскрылся.
Это ж рядом со мной – справа от меня все случилось. Крыло в крыло летели.
Как нас осколками не зацепило – тоже еще удивительно. И тех, кто впереди летели и сзади.
Наше звено как раз посередине летело. За нами еще звено летело, они тоже все видели.
***
У самого такое состояние от того, что произошло, - передать трудно. Одно - оглушило, снаряд рядом взорвался. Хотя в шлемофоне наушники закрывали уши, но все равно. Снаряд этот, не знаю, из зенитки ли выстрелили. Похоже, что это был артиллерийский снаряд. Мы летели на большой высоте, зенитка туда не достала бы. Хотя кто там знает, что там был за снаряд.
От взрыва рядом артиллерийского снаряда – контузия бывает. А тут взорвался на расстоянии не больше двадцати метров. С одной стороны - такое состояние.
А с другой - там я должен был лететь. Мы с этим Бобровым вот так - крыло в крыло сколько пролетали. Если бы нас не поменяли местами, я летел бы точно на том же месте.
Теперь я на его месте лечу. А его, на моем, уже нет – со всем экипажем.
***
В эфире молчание, никто ни одного слова не произносит. Я, как бы прихожу в себя, и начинаю осмысливать произошедшее, и что происходит.
***
Обычно, если кого-то собьют или что-то такое происходило в воздухе – то перекидываются словами между самолетами. Хотя такие разговоры запрещались. Но в такие моменты всегда начинались разговоры. Там летчик скажет, там стрелок. Кто что видел, чего заметил. А тут никто ни слова. И мои тоже – ни штурман, ни радист ничего не говорят.
***
Иногда летим – а рядом истребители бой ведут или другие бомбардировщики, те же «Илы» работают, их атакуют. Тоже начинают обмениваться мнением. Если самих еще не атакуют. Когда начинают атаковать истребители, тогда уже не до разговоров становится. Хотя тоже свои выкрики начинаются.
А если со своими что-то случилось – то обязательно кто-то что-то скажет, другой ему ответит.
Иногда даже командир, когда начинают все сразу галдеть, то прикрикнет, даст команду прекратить посторонние разговоры в эфире.
***
А тут молчание в эфире.
До меня начинает доходить, что такая ситуация, что я могу тут попасть в какое-то дурное положение среди своих товарищей.. Все это по-разному может повернуться. Как я тут буду себя вести, как другие все это восприняли.
Я со всеми ребятами в полку был в нормальных отношениях. С летчиками в первую очередь, но не только. С летным составом. И с техниками, хотя техники они как бы отдельно от нас были, у них больше как бы свой коллектив.
Были как друзья с кем-то, с другими в приятельских отношениях. Но не было таких, чтобы я с кем-то не разговаривал. Как было у других - кошка какая-то пробежит между ними.
А тут начинаю понимать, что все, что произошло, еще свой вопрос, как оно скажется на отношении других ко мне.
На фронте тоже разные взаимоотношения были. Погибнет экипаж, кто-то так скажет, как вроде обрадовался, что кого-то убило. Что ему более теплое место в землянке теперь досталось или что-то такое. Иногда никто и не скажет ничего. А смотришь – уже от такого как-то сторонятся. Не все, но уже косо поглядывают. Или другое что-то. Разные ситуации возникали, кто, как сделает, что скажет – и меняются отношения.
***
Летим дальше, а до меня вся эта ситуация тоже не сразу доходить начала. Чувствую по этому молчанию в эфире, что какое-то общее настроение такое, что никто как бы и слово сказать не спешит.
Это пока мы еще в воздухе, а когда прилетим, что будет. Начинает у меня это все в голове закручиваться, начинает доходить, в какую я ситуацию попал. И чего теперь делать. Как себя повести, чтобы не восприняли за какого-то там, не знаю кого.. В чем моя тут вина, есть ли вина. Начинаю вспоминать, кто и что говорил, когда Бобров заводил разговор о том, чтобы его поставили летать правым ведомым.
***
Такие прямые попадания – редкость была, очень редко такое происходило.
Да еще прямо посередине самолета снаряд взорвался - тут уже никаких сомнений, кто бы там не летел. Оно если бы подбили, загорелся, то еще выпрыгнули бы.
Да если б даже не выпрыгнули, все равно это не так воспринялось, как такое прямое попадание со взрывом.
И никого больше ж не задели осколки – хотя, казалось бы, зона поражения. И мой самолет, и командир нашего звена, и который за нами летел. Для командира третьего звена еще меньше расстояние было с самолетом Боброва. Да и для других.
Эти осколки от снаряда самолет не мог в себе задержать. Такие осколки насквозь прошивают. А на таком расстоянии и броня не поможет, это ж не танк – пробьет тоже.
***
Когда прозвучала команда: перестроится, - тоже такой момент.
Это ж не то, что персонально прозвучало – «Черному занять в строю место Боброва», а тому-то то-то. В воздухе команды звучат такие – что уже все знают, кому и куда передвигаться надо будет. Персонально называть никого не надо.
Какое-то время прошло, пока командир произнес: «Заполнить пустое место».
Такие слова команды не один раз звучали. Взлетели, у кого-то неисправность с моторами, или еще что-то с самолетом, возвращается. А группа летит дальше. Сбили кого-то, то же самое.
Но тут какой-то другой смысл в этих словах. Может, еще и то, как эта команда была сказана. Как мне услышалось. Во всяком случае, как мне запомнилось. Не знаю, как для других. Я никого потом не расспрашивал и со мной никто не затевал на эту тему разговора.
***
Для того же командира – это ж он дал команду поменяться местами.
А теперь произнес слова новой команды. У него, видно, тоже свои чувства какие-то и он понимал, что этой командой он меня опять на мое старое место отправляет.
Тут тоже – для того же командира – он мог и не подавать этой команды. Видно, поэтому и не сразу сказал, наверно, раздумывал тоже. Что другие о нем подумают и скажут.
Летные уставы вроде бы диктуют, но командир мог и не подать этой команды. Я бы так и летел левым ведомым. Хотя если летит группа, а в середине строя образовывается пустое место, то положено перестроиться. Если время позволяет. Когда уже близко к цели, тут кого-то сбивают, перестраиваться некогда. На боевом курсе уже так и летят. Потом при отходе подается команда. И тоже, если истребители атакуют, то не до этого. Командир определяет и решает в зависимости от обстановки в воздухе.
***
Тут до цели далеко, никто не атакует, но он не сразу приказал. Да еще у этой команды такие слова для именно такой ситуации.. Наверно, командир тоже несколько раз про себя их повторил, пока раздумывал, говорить их в эфире или нет. Это ж уже все услышат, кто в воздухе.
Тон голоса, когда он подавал эту команду, как мне тогда показалось самому, какие-то интонации – свое ударение он сделал, когда произнес в эфире:
- Занять пустое место.
С какой-то своей как бы злостью это произнес, или не знаю, недовольством. На меня вроде ему нечего было злиться.
***
Как положено, перестроились, чтобы место занять. Свой порядок был. Справа или слева сбили. Если слева потеряли самолет, то из звена, летящего сзади, – левый ведомый догоняет и дополняет звено.
Если справа сбили, тот, который летел слева уходит на место правого ведомого. А из заднего звена уже левый ведомый догоняет и пристраивается.
Чтобы в последнем звене, остался правый ведомый, а не левый.
***
По-видимому, это и было причиной, почему Бобров задумался о своем месте в строю, был недоволен и завел этот разговор.
Тактически так лучше для сохранения боевой мощи группы, для уменьшения возможности попаданий от зениток противника. Тогда уже замыкающее звено как бы не полное летит. Иногда, если большая группа, то пустое место в середине остается, чтобы от истребителей сзади все-таки три самолета отбивались.
В каждом случае командир решает и подает команду – по его команде это совершается. Или не дает команды – так и летят.
***
Команду услышал: перестроиться, - ушел на место правого ведомого.
Из заднего звена левый ведомый догнал, подошел, крылом в крыло опять стали.
Я опять – правым ведомым лечу.
***
В такие моменты каждое слово, часто и обычное, а звучит по-другому.
Звенит другим смыслом.
Оно все это и не долго вроде бы. Какие-то минуты прошли. Но за эти минуты свои моменты как бы доходят.
Пока летели так, я несколько раз на место правого ведомого взгляд бросаю. Это ж как привычка уже. По плоскостям следить за дистанцией. А тут.. Вот было рядом крыло – по нему равнялся и прижимался только что. А теперь там пусто.
А как бы уже непроизвольно все время бросаешь взгляд, чтобы видеть крыло другого. В воздухе все время голова крутится во все стороны. Все время так летаешь – уже привычка.
А тут уже и не надо контролировать, а все равно край глаза пытается найти справа другое крыло.
***
Пока летел до команды, тоже самому думалось – что теперь должен опять туда как бы стать. Согласно принятому порядку.
Если б это от меня зависело, скажем, было б так установлено, что летчик сам, без команды ведущего группы, может занять пустое место в строю для сохранения боевого порядка или остаться на месте – я б не стал, наверное, перестраиваться.
Тут же – мое дело слушать приказ командира. Приказ прозвучал – я выполнил.
Уже по привычке начал левым глазом ловить крыло другого самолета. А справа уже нечего контролировать.
Пустое место в строю заполнили.
***
Отбомбились. Зенитки как всегда обстреляли, но ни в кого не попали.
Летим все назад. Чего-то там уже, после бомбежки, в эфире начали какие-то слова звучать. Как бомбы попали, такое. Но тоже – не как обычно.
А у меня все продолжает крутиться в голове. Кто, что говорил, когда. Кто-то из других летчиков что-то раньше на эту тему высказывался. Чтобы как-то понять, как себя вести.
Вообще эта команда в воздухе как бы и определила для меня – что мне делать. То, с какими интонациями она прозвучала. Приказ такой был.
***
Прилетели, зарулили. Из самолетов повылазили. Постояли немного, чтоб всем вместе идти к столовой, на обед.
Идем, а все молчат. Все это время, пока собирались и шли – опять молчат, как и тогда в воздухе.
Никто ничего не говорит, как обычно. Замечаю, что на меня с разных сторон ребята поглядывают. Не то, что рассматривают, а краем глаза так глянут. Многие слышали разговор и приказ поменяться местами перед вылетом. И видели, как произошло: сзади летящих самолетов – летчики, впереди – стрелки, штурманы.
Все понимают, что вот идет тот, который уже не должен был бы идти. Счастливчик, вроде. Им интересно, что у меня там, на лице – какая радость, мол, играет. Или что я начну говорить.
***
Я иду, тоже молчу. Вроде, это не я должен был погибнуть. Просто перед собой смотрю, чтобы не переглядываться ни с кем. Так произошло – что тут говорить?
Командир тоже идет, молчит. Хотя это он дал в последнюю минуту команду поменяться местами, буквально, перед тем как уже расходиться по самолетам.
Вот оно, как бы, так и прошло - никто ничего не стал говорить, обсуждать.
Никто в моем присутствии не высказывал какого-то сожаления или чего-то такое о том, что ребята погибли. И я тоже никому ничего не стал говорить.
Что тут говорить.
***
Но в нашем полку после этого всякие разговоры про то, что кому-то не нравится его место, то ли чтоб звено не летело замыкающим – прекратились.
До этого были такие случаи. Чтоб звенья менялись, которое последним лететь должно. Истребители всегда с хвоста атаковали, поэтому последнее звено больше всего под огнем оказывалось. Хотя тоже, где там опаснее место было – это все такое. Но так считалось, как и с тем же - левым ведомым летишь или правым.
Но после этого случая - уже до конца войны - никто не заводил подобных разговоров в нашем полку.
----------------------------------------------------------------------
16. Рожденный в «рубашке»
***
Коли один живий з усіх, хто клином йшли єдиним,
Коли летиш і падаєш на землю кличем соколиним.
***
Некоторое дополнение по данным эпизодам и приведенным раньше -
из воспоминаний Чорной (Кольцовой) Лидии Васильевне
***
Черная (Кольцова) Лидия Васильевна (15.05.1921 – 21.06.1992)
Чорна (Кольцова) Лідія Василівна.
Родилась в с. Беззаботовка, Александровского р-на, Донецкой области. Окончила педагогическое училище в 1939 г. Работала учителем начальных классов в школе с. Беззаботовка. Член КПСС с марта 1941 г.
Вольнонаемная, находилась в Советской Армии с 2.03.1942 г. по 15.12.1945 г., в составе 452 отдельного батальона аэродромного обслуживая 1-й гвардейской авиационной бомбардировочной дивизии (ГАБД), работала поваром в основном в столовой, которая обслуживала летный состав нескольких полков авиадивизии, включая 82-й ГБАП.
Награждена четырьмя боевыми наградами – медали: «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За взятие Берлина».
Всего была награждена 10 правительственными наградами.
Умерла 21.06.1992 г., похоронена на Байковом кладбище, г. Киев.
***
Живое тянется к живому,
Глаза в глаза смотреть должны..
Нам не придумать по иному -
Иначе мы не рождены.
***
Про Васю многие летчики - которые сами летали на задания - говорили как о том, который в «рубашке родился». Со стольких он заданий живой возвращался, когда все думали, что погибнет.
***
Несколько раз было так, что задание какое-то.. Посылают один экипаж – он погибает. Посылают другой – тоже. Несколько экипажей туда посылают, чтобы выполнить приказ - ребята погибают. А задание не выполнено, а задание-то нужно выполнить.
Черного посылают – если уже и он не выполнит, значит, никто уже не сможет. Поэтому про него так и говорили сами летчики, что он в «рубашке» родился.
Так по народному поверью считается, если ребенок рождается в «рубашке», когда пленка такая не разрывается при родах, - значит, счастливый, удачливый.
Причем было так, даже когда не могли выполнить приказ летчики из другого полка. Нашей же дивизии.
Я с ним тогда еще сама не была знакома, но от других слышала о нем такое. А кто из них Черный - даже и не знала.
***
Несколько раз было так, что его самолет один возвращался из всех самолетов, что летали на задание. В один из таких случаев, когда он один вернулся из всех, кто улетел, меня как раз к нему на аэродром послали.
Самолет был весь в дырках, как решето..
Ко мне тогда начальник столовой подошел, говорит: «Лида, давай, собери обед в котелки и отнеси на аэродром, надо одного летчика накормить».
А я: «Чего это еще, что сам прийти не может, что ли?». Потому что ребята из летного состава всегда в столовую сами приходили, и командиры полка, и кто в штабе. Если кого-то нет – то из других экипажей с собой заберут, чтобы передать, потом посуду принесут.
А мне начстоловой говорит, мол: давай, делай и не спорь. Надо. Тут такое дело - несчастье в полку. Погибли все, кто на задание летал, а один только экипаж вернулся. Штурман с радистом пришли, пообедали, а летчик там, возле самолета, сидит уже несколько часов.. На обед не пришел. Командир полка приказал Черному обед туда отнести. Ищи самолет, на хвосте которого шестерка нарисована – там его найдешь.
А я и не знала тогда, кто это. Фамилию слышала в каких-то разговорах. Как и о других летчиках – а в лицо их и не знала. Кто из них кто. Девчонки-официантки, которые на столы накрывали, убирали, - они еще знали, а мы их и не видели почти.
Собралась я и с этими котелками, первое в термосе, не самый большой, но тоже здоровый такой, чтоб горячим донести, для компота тоже – пошла на аэродромную стоянку.
Прихожу, нашла, а он сидит возле самолета. Спиной прислонился к шасси, сидит и плачет..
Я к нему – давай, я тебе есть принесла.. Молчит и плачет.. Я налила супу, ему протягиваю, а он меня как пошлет: иди отсюда …
Я стала в стороне со своими бебехами, а он сидит.. Коленки согнул, голову на руки положил.. Постояла, постояла, еще раз спросила: будешь есть или нет?.. Молчит и не смотрит. Оставила все возле самолета и пошла назад в столовую.
А самолет весь в дырках был. И крылья, и фюзеляж - везде. И некоторые большие были такие дырки……
***
Да, пришла тут «матчасть» с обедом… Девчонок всех из обслуживания, которые при штабе, санчасти были - мы тогда между собой «матчастью» называли.
***
Я несколько раз так - один возвращался на свой аэродром из всех, кто на задание летал. Хуже нет, когда вот так - один прилетаешь.
***
16.1. Один из пятерки
***
(Степной фронт, 23 августа 1943 г., день освобождения г. Харькова).
***
Из доклада на встрече однополчан в г.Умани в мае 1977 г. «Боевой путь 82-го гвардейского бомбардировочного авиационного, орденов Суворова и Кутузова, Берлинского полка»
«Для подавления сопротивления немцев в населенном пункте Буды - ю/з Харькова – вечером 23.08.1943 полк повел к-р АП майор Пчелкин (всего 12 самолетов).
Перед вылетом командир 1-й авиаэскадрильи (АЭ) Голицин сказал: «Нас осталось 5 экипажей, но это одни старики (Голицин, Новиков, Николаев, Черный, Костин), надо в бою стоять друг за друга, сражаться до последнего».
Боевое задание выполнили, но в тяжелом неравном бою погиб к-р полка майор Пчелкин, а из пятерки 1-й АЭ пришел домой один самолет».
***
Один раз вернулся не то, чтобы совсем один из всех полетевших на задание, а один из всей своей эскадрильи. Тогда как раз командир полка погиб, майор Пчелкин. В 43-м под Харьковом, в районе Березовки бомбили.
Тогда в полку и так потери были большие. Это ж как раз окончание боев на Курской дуге - операция по освобождению Харькова. В нашей эскадрилье только пять экипажей осталось. Как раз всей эскадрильей и полетели вместе с другими.
Всего группа в 12 самолетов. Командир полка – ведущий. А это чуть ли не весь полк и был.
До этого столько в полку потерь было, а в этот вылет - как-то так произошло, что почти всех сбили. А летчики все были уже опытные - к тому времени молодых летчиков ни одного не было в полку. Такие потери за это лето 43-го года были.
***
В полку тогда уже 3 эскадрильи было. Это в начале войны полк из двух эскадрилий состоял. А к тому времени уже по три эскадрильи стало.
В каждой эскадрильи – где-то по девять самолетов - 3-и звена. Звено управление еще - где командир полка. В полку должно было быть 30 самолетов в боевом расчете.
Перед началом и во время Курской дуги бои были такие, что потери были среди и опытных летчиков. А молодое пополнение, которым пытались все время доукомплектовать...
Приходит пополнение: летный состав, самолеты – вроде количество самолетов в эскадрильи как положено. На первом же задании – все пополнение погибло, сгорели. Хорошо, если один-два останется.
Так в следующий вылет их собьют. Два-три вылета и никого из пополнения не оставалось.
А в этот период обстановка на фронте такая была, что часто в день по три боевых вылета дела. По два вылета - утром и после обеда - это почти обязательно. Что летом, что зимой. Если погода только совсем не позволяла.
***
В эти месяцы 43-го года полк в полном составе так и не был почти никогда. Пополнение и новые самолеты не все сразу в один день прилетают. Пока следующие, 3-5 экипажей, через день-другой прилетят, первых уже нет - погибли. Опять полк не полностью укомплектован.
Не успевали ни фамилий запомнить, ни даже лиц. У молодых летчиков опыта нет, они толком и летать в строю не научились. А тут в пекло сразу. Где нужно успевать следить за всем, что вокруг твориться, и сверху и снизу. Голова все время крутится должна не просто на 360 градусов, как у той совы. Сразу в двух осях и на 360 градусов во все стороны должна крутится.
А летчики молодые - неопытные, они летят и все их внимание, чтобы в строю не столкнуться с рядом летящими своими же самолетами. Он и не видит больше ничего потому, что для него до этого просто лететь в строю было самое страшное. Тех навыков пилотирования, которые нужны, не имели. Все его внимание - на расстояние между самолетами. Боится столкнуться.
***
Такой летчик просто и не мог лететь, чтобы выдерживать ту дистанцию между самолетами, которая была принята для боевого порядка «пешек». Опытные летчики не больше трех метров между плоскостями самолетов и впереди летящим держали. Это еще когда к линии фронта подлетаем.
А когда истребители начинали атаковать, то еще плотнее сжимались. Иногда так атакуют, что смотришь - между крыльями с соседним самолетом меньше метра расстояние. Хотя там, на глаз, не очень определишь, конечно, - все-таки крыло почти восемь метров. Смотришь иногда - просвета уже не видно между плоскостями. И еще прижимаешься или рядом летящий жмется к тебе. Иногда не видишь, а просто уже из опыта чувствуешь, что там до сантиметров пятидесяти доходит, что называется, почти соприкасаешься. Но если рядом опытные, хорошие летчики летят - то ни один из них такого сближения не боится.
Идут вместе крыло в крыло потому, что знают и не сомневаются, что если даже снаряд взорвется рядом от зенитки - воздушная волна толкает же, даже если и осколки попадут - и тот и другой удержат самолет. Сумеют сманеврировать так, что самолет только слегка как бы качнется - не больше. Реакция, опыт управления - штурвал никто не дернет.
***
А молодые еще не освоились даже со страхом от близости, когда между самолетами 10 метров. Через это все летчики проходят - первые полеты в строю на расстоянии несколько десятков метров, а кажется, что вот сейчас и столкнешься с кем-то.
Это когда нас еще учили, которым - хотя тоже по сокращенной программе закончили училище - все равно, больше времени было отведено для обучения. Мы тоже так не летали в училище, как потом на фронте. На том расстоянии, на которой в действительности в боевых условиях летали в строю на «Пе-2», - в училище и не разрешалось даже летать. Чтобы почувствовать хотя бы, что это такое. Да даже в том же Резервном полку, куда попал после училища, и то так не летал. Не разрешали. Тоже, конечно, подготовка была...
***
Что тут говорить о тех молодых летчиках, которые уже во время войны поступали и заканчивали училище - и сразу попадали к нам как пополнение?
Это если просто лететь звеном - он и то еще не способен держаться на расстоянии даже пяти-трех метров. Шарахается в сторону от испуга. Любому летчику время надо, чтобы освоится, полетать надо определенное время. Еще когда нет никаких взрывов от зениток, тех же истребителей, он боится просто в строю лететь.
А тут в бой со всеми вместе - у него ни привычки, ни навыков пилотирования. Когда начинаются рваться снаряды от зенитки, а если еще и близко попадают - воздушной волной самолет толкает, его надо уметь удерживать. Неопытный летчик, когда еще без зениток, уже так штурвал дергает, что самолет из стороны в сторону кидает. То ли три, то ли пять метров - он еще этих расстояний не чувствует штурвалом.
И то же самое с «газом» - он не может двигать ручки «газа» так, чтобы на полметра-метр самолет мог подойти к впереди летящему, а потом опять отойти до трех где-то метров. Он думает, что только слегка передвинул «сектор газа», а его на несколько метров кидает сразу. Нет еще нужных навыков.
А когда рядом начинают взрываться снаряды, то с испугу он может такое учудить, что и сам не понимает, что делает.
***
«Пе-2» в управлении послушный был самолет. На малейшее движение штурвала «пешка» реагировала не хуже, чем у тех же «яков». Опытные летчики, даже если рядом взрывался снаряд и воздушной волной его толкало на соседний, - легко удерживал самолет на том же расстоянии. Чуть штурвал в нужную сторону достаточно повести - и все, никаких резких движений или штурвал куда-то в сторону тащить.
Буквально, миллиметры какие-то надо штурвалом повести, чтобы компенсировать такой воздушный удар. В такие моменты штурвал не за эту полубаранку сверху держишь, а под ней, причем тремя пальцами. Не в кулаке, а именно пальцами. Правая так на штурвале, а левая на рычагах газа. Их два рядом – для левого мотора и правого. Их тоже все время трогаешь, то оба одновременно надо, то по одному. Самолет слушался прекрасно.
***
Иногда смотришь, когда опытный летчик рядом летит, его качнуло в твою сторону, а он еще и дожимает в ту же сторону, еще ближе - потому что истребители атакуют. Что называется, чувствует и расстояние и самолет. А главное, обстановку вокруг себя видит и понимает. То, что его от взрыва кинуло на соседний самолет - это не страшно. Страшно и, действительно, опасно как раз уйти в другую сторону. «Мессеры» мгновенно атакуют и уже попасть у них - шансы увеличиваются сразу в несколько раз.
***
В этом и сказывался опыт.
Кроме того, что расстояние между самолетами в боевом порядке надо удерживать - когда зенитки стреляют, снаряды рвутся рядом - истребители немецкие тоже могли атаковать в этот момент. Хотя истребители в основном атаковали в воздухе так, чтобы самим не попасть под огонь своих же зениток. У них тоже была отработана своя тактика. Для них самое главное было не столько сбить кого-то из нас, как заставить нас сбросить бомбы, не дойдя до цели.
Когда зенитки начинали стрелять, то истребители отходили, а продолжали нас атаковать уже на отходе.
Но все равно при полете в строю, главным образом внимание ни за расстояниями по плоскостям и впереди летящим, да и не за зенитным огнем - а именно за тем, что истребители делают.
Это разница между опытным уже летчиком и молодым. Молодой пугается тех разрывов, которые еще и бояться нечего. И с испугу дергает штурвал. Да так еще дергает, что не только в сторону, а куда-то и вниз, а то и вверх уходит. С какой стороны, сверху или снизу этот взрыв произошел - он, ничего не соображая, от него штурвал и дергает в другую сторону.
***
Во время воздушного боя не за расстоянием между самолетами следить нужно было - для опытного летчика это как бы машинально происходит: постоянный контроль по плоскостям и хвосту ведущего. Вроде ты и не смотришь, а просто постоянно это видишь. Потому что это уже настолько отработанное движение головы и глаз. И за взрывами зенитки нечего особенно следить – мало что можешь сделать, если в группе летишь за командиром. Это уже командир лавирует, как обойти огонь зениток, его опыт и умение маневрировать, менять высоту, направление. Все остальные повторяют и идут плотным строем за ним.
Маневрировать от зенитного огня уже никто не может, кроме командира. Ты следишь за истребителями. Не только за тем, который тебя атакует, но и соседа твоего и других. Потому что один вроде атакует, а собьет другой.
***
В такие моменты своя техника пилотирования - для неопытного летчика она просто еще не доступна. С истребителями, чтобы не дать им прицельно атаковать - идет игра в перемещениях самолета на уровне метра-полтора, а то и меньше. Это свои мгновения игры в «волки-овцы», которые ты должен видеть и успеть сделать маневр.
Немец только вроде бы вышел на ту позицию, с которой еще чуть-чуть сманеврирует и может атаковать, а ты уводишь самолет в сторону хотя бы на метр, да даже на 50 сантиметров - как бы прячешься в глубину строя - ему уже надо еще маневрировать, чтобы опять выйти в нужную точку. С которой можно перевести самолет под нужным углом атаки и открыть огонь.
А возможности у него тоже не всегда есть продолжить - по нему же целятся и ведут огонь и стрелки, и штурманы из своих пулеметов. Причем не только с той «пешки», которую он атакует. А и с тех, которые впереди летят.
Иногда смотришь - и такое случалось в бою - кто-то начинает стрелять по истребителю даже из летящих сзади самолетов. Бывало, стрелки вылезали наружу - у них там вверху был лючок такой. Он откидывался и человека как бы прикрывался от воздушного потока. Пулемет туда вытащит и ведет огонь.
А немец между этими трассами маневрирует, подбираясь к нужной для атаки позиции. Он же на месте не стоит, не просто висит рядом с тобой, а болтается с крыла на крыло все время, лавирует. Чтобы в него тяжелее прицелиться было. И подбирается к нужной точке для атаки.
***
В этом и была в основном тактика воздушного боя группы бомбардировщиков с истребителями - такая себе игра «волки-овцы». У бомбардировщиков главная задача как можно плотнее лететь всей группой и вести плотный заградительный огонь. А истребители старались кого-то подбить из этой группы.
Вроде немец подобрался так, что сейчас ему можно будет начать атаку и открыть огонь - ты самолет увел, чаще всего, в сторону, в глубь строя, а то и к впереди летящему подходишь так, что винты сейчас хвост ему, того и гляди, отрубят - немцу надо уже опять дотянуть. Он начинает опять «газом» дотягивать - а ты опять переместился, но уже назад.
А немец же все время под огнем маневрирует - ему жить тоже хочется. Испугался летящей в него трассы - резко отклонился, значит, уже ушел со своего боевого курса. А то и сразу вираж сделал и ушел.
Пока он опять вернется. Да еще не известно, к тебе ли вернется или другого будет атаковать, а может и совсем улетит - горючее уже на исходе. По-разному в бою могло быть. Не угадаешь.
***
Ушел из-под атаки истребителя - опять на свое место стал, метров по полтора между самолетами. Во время воздушного боя это было обычное расстояние.
Если нормальные опытные летчики рядом летят и ситуация позволяет, когда ты начинаешь уходить из-под атаки, прячешься как бы в глубь строя, то летящий рядом тоже отходит в сторону. Дает тебе еще немного места.
Дает тебе возможность на время еще глубже спрятаться. Этого времени нужно буквально на полминуты. Как правило, не больше минуты, чтобы сорвалась эта опасность атаки..
Немца более прицельной очередью отпугнули за эти секунды. А то немец, если такое видит - а по нему же стреляют все время, - как правило, сам сразу уходил из-под огня. Поискать, может, другие не так умеют маневрировать, взаимодействовать. Чтобы там провести атаку.
Буквально за 20-40 секунд все это и меняется, если успеваешь сделать нужный маневр. Вот этот опыт у летчика, что он способен видеть, понимать происходящее и вовремя сделать такой маневр, - он во многом определял, целым останешься или собьют.
Редко когда это дольше тянется - бывали такие упертые, висит и продолжает маневрировать между трассами от наших пулеметов. Пока уже не пуганут его хорошо или не собьют, если удачно прицелиться получилось. В основном просто отпугивали немцев - попадали не так часто.
Хотя в бою чего только не было. Один только отскочил, а другой начинает атаковать тут же.
***
Если рядом хороший летчик, что называется, боевой друг, то так и летишь с ним. Его начинают атаковать, а тебя нет - сам уходишь в сторону на метр-полтора. Больше и не надо.
Было полтора метра, еще полтора ты ему уступил, сам из строя как бы вышел - он метра на два в середину зашел, на те же какие-то десятки секунд - и все. Атака сорвана. Все живы и целы. Даже если немец огонь откроет - по краю плоскости попадет - это не страшно. По мотору попасть уже у него не получиться так просто. Не говоря уж, чтобы и по мотору, и по летчику попасть одной очередью. Он тогда должен вылезть, чтобы сверху над «пешкой» находиться - почти под прямой огонь из пулемета штурмана. На такой риск не часто кто шел из немцев, хотя и такие были.
***
Поэтому немцы в основном атаковали так, чтобы попасть по мотору - левому или правому. А чтобы сразу по летчику попасть, немецкие истребители не часто пытались атаковать. Хотя тоже бывало. Но это редко, особенно после того, как у штурманов пулеметы поменяли на более мощные.
Позицию для атаки на «пешку» всегда старались занимать одну - сзади, немного сверху и со стороны: слева или справа. Это было отработано и все знали - и немцы, и мы,- что тогда не так опасна прицельность огня для немецких истребителей.
Было такое, как бы «мертвая» зона, куда почти не могли вести огонь ни со стороны штурмана, ни стрелок. Хотя чего-то там мудрили и стрелки особенно, и штурманы, придумывали, чтобы увеличить угол обстрела. Или еще чего-то новое, для немцев неожиданное. Иногда что-то удавалось.
А немцы свое тоже придумывали
Но эта «непростреливаемая» зона из того самолета, который немец и атакует. А те, которые впереди летят - они и могли, и вели огонь тоже. Взаимодействие и помощь были отлажены. Стрелки, штурманы сами соображают, в зависимости от ситуации - огонь переносят с одно стороны на другую.
В воздушном бою именно они стреляют. Летчику стрелять почти и не нужно - редко когда кто-то выскочит под пушки впереди. Хотя прицел всегда включен был - мало ли что.
Летчики участвовали в воздушном бою с истребителями именно тем, что маневрируют, способны менять положение самолета в строю на уровне нескольких метров и на протяжении десятков секунд каких-то. А для этого нужно чувствовать, на сколько ручку «газа» переместить, штурвал повести. Для таких маневров нужен был опыт.
***
Если так плотно строем летят, отлажено такое взаимодействие, огонь группа тоже плотный ведет - немцам не очень легко было подобраться, чтобы провести успешную атаку. А если еще и группа большая.
Хотя даже девятка «пешек» это уже сильная общая огневая мощь была. «Девятка» способна была успешно обороняться, если все экипажи опытные. Не только летчики. Стрелки-радисты, которые уже умеют вести прицельный огонь, штурманы, у которых пулемет как раз посильнее был.
У стрелка радиста такой же мощный пулемет стоял для ведения огня в нижней полусфере. Так называемый пулемет Березина. А для ведения огня в верхней полусфере у стрелков стояли ШКАСы. Они их могли переставлять с борта на борт. На левую или правую сторону, в зависимости от того, где самолет летел в строю.
Но совместный огонь получался сильный - в этом смысле у «Пе-2» вооружение не плохое было.
Вначале войны, вооружение самолета хуже было. Тогда и потери как раз тоже из-за этого были такие, не только потому, что летчики, которых переучили со старых бомбардировщиков, не умели еще летать на таком самолете.
ШКАСы везде стояли. И оба курсовые, которые впереди у летчика были, и у штурмана, и у радиста. А когда поставили «пулемет Березина», немцы это сразу почувствовали. Как люковый пулемет радисту-стрелку - вниз и назад вести огонь, правый курсовой у летчика, и штурману - немцев быстро отучили так смело вести себя во время воздушного боя, подходить так близко.
Их тогда тоже посбивали не мало, пока они не поняли и не поменяли свою тактику. А расстояние увеличилось, уже другая прицельность – не так часто немцы стали попадать.
***
А если молодой летчик, он летит совсем на другом расстоянии от группы - где-то в стороне. Его уже и общий огонь не так защищает.
Не та уже плотность огня получается. Хотя все это понимают и стараются, насколько можно помочь выжить такому экипажу. Стараются пока могут.
А когда еще дальше шарахается с испугу от взрывов снарядов зениток, метров за десять-пятнадцать от строя летит - куда там помочь.
Поэтому именно неопытные летчики и погибали в первые же вылеты почти все. Такого в строю видно было сразу. Он летит где-то в стороне от всех. И немцы таких сразу определяли - у них летчики опытные были. Они сверху сначала, сзади заходят - все видят перед собой. Потом уже начинают разбиваться, чтобы с разных сторон атаковать.
В зависимости, сколько их, сколько наших истребителей прикрытия. Они сначала наших истребителей должны были увести, завязав воздушный бой. А потом оставшиеся - атакуют бомбардировщиков.
***
Опытного летчика сразу видно. Даже когда группа только собирается над аэродромом. По очереди взлетают и пристраиваются, в строй собираются.
Когда стали летать большими группами, наблюдал такое. Со своей дивизии в трех полках еще как-то знали друг друга, чаще вместе летали. А когда группу формируют из экипажей не только из разных полков, но и разных дивизий - и не знаешь, кто рядом летел. Не знаешь, кто рядом будет лететь и как он летает.
Но видно сразу - как самолет подходит, чтобы занять свое место. Рядом с тобой.
Хороший летчик, настолько уже отработано у него выравнивание скорости рычагами «газа», расстояние чувствует - он подходит так, что сразу становится крыло в крыло. Три метра между крыльями. Не дергается, как бы тычется, чтобы подойти - сразу одним движением становится рядом.
А выравнивает скорость так, что его в кабине даже качнет самого немного вперед. Такое впечатление, как на машине подъехал и затормозил рядом с тобой. Это считался определенным шиком. Если так умел уже делать.
Были и такие, которые, чтобы как бы для себя выяснить, кто с ним рядом будет лететь, насколько опытный, не на три метра становился, а около метра между крыльями. И на тебя смотрит – проверяет, как ты реагируешь. Иногда на него посмотришь, а то и делаешь вид, что не замечаешь, что он глядит.
Сам я так никогда не делал, чтобы проверить, с кем рядом будешь лететь, если с ним не знаком.
***
С этого свои отношение в воздухе устанавливаются. Потом в бою уже выясняется, что летчик ты, может, и хороший, а как человек... С говнецом, как говорится, или нормальный человек.
Товарищ просто или боевой друг, хотя, может, с ним никогда больше ты и не будешь вместе летать. На задание слетали вместе - и ты понимаешь, что это такой летчик, который как друг с тобой рядом летал. Помогал тебе выжить, а ты ему - между собой и словом не перекинулись, а тебе понятно, что это был для тебя боевой друг.
Если через какое-то время опять рядом окажешься - уже понятно, кто рядом с тобой.
***
В тот вылет - 23 августа, день освобождения Харькова - одни «старики» в полку остались.
А самолетов в полку 14 или 15 осталось. Это ж было окончание Курской битвы. За время боев на этой дуге полк понес большие потери. Не только наш полк, такое положение во всех полках было всего нашего корпуса. В действительности, это уже и не корпус по количеству самолетов, а дивизия была.
Это с учетом того, что нас пополняли в ходе боев не один раз. В резервных полках тогда почти никого не осталось – такие потери были, что всех на фронт отправили. Пополнению уже неоткуда было взяться.
Поэтому в полку остались все только опытные летчики - «старики», как тогда говорили.
В нашей эскадрильи – половина от положенного количества. Остались все, кто уже по году воевали, а то и больше.
Чупраков Коля, штурманом со мной тогда летал, после войны в статье для газеты тоже вспоминал этот эпизод . А стрелком-радистом был Коля Серебрянский.
***
В группе из 12-и самолетов - пять из нашей, 1-й эскадрильи: Голицин, комэск, – ведет, Новиков, Николаев, Костин и я.
Прикрытие слабое, пара истребителей только на нашу пятерку. И на тех, что впереди летели тоже только звено. Еще к цели не дошли, «мессеры» начали атаковать. И много их налетело.
Наших истребителей сразу сдуло. Они друг за другом начинают сразу гоняться – один немец один наш.. А тут по два «мессершмитта» на каждого из наших «яков» - сразу куда-то в сторону за собой потащили кувыркаться. И впереди звено – тоже закрутились в воздушном бое. «Коля-Петя, прикрой – атакую!..» - и понеслись, и там им уже ни до кого дела больше нет.
Воздушные дуэли, когда между истребителями начинаются – это уже все. Даже когда с нами «маленьких» больше летит.
«Маленькими» - так среди летчиков любые наши самолеты-истребители называли: и «яки», и те же «кобры» американские и другие. И сами летчики-истребители, которые на них же летали. Иногда было, где-то встретишься, спрашиваешь: «На каких самолетах летаешь?».
- На «маленьких», - почти все так из истребителей отвечали.
***
Наши ввязывались с немцами в воздушный бой - дальше мы летим уже сами.
Так часто было. Особенно в первые годы. Немцев всегда больше – одна группа с нашими истребителями начинают бой, а другая – атакует уже нас. Редко когда кто-то из наших «маленьких» опять вернется для прикрытия. Даже собьет немца, тут же следующий с ним начинает дуэль. Из воздушного боя истребителю – если уже влез туда – просто так не выйти.
***
Прикрытия нет – остальные все «мессеры» на нас. А мы еще с бомбами летим.
Немцы с разных сторон заходят. Своя у них тактика была. Чтоб и друг другу не мешать, не столкнуться, но и не давать вести прицельный огонь по какому-то одному из них. Заходят и с той и с другой стороны. Стрелки мечутся из стороны в сторону тоже.
Штурманы, пока есть время, – тоже отстреливаются, и них пулеметы хорошие стояли. Они в основном вели огонь в верхней полусфере. А когда надо бомбить, то они уже не могут. Им свою подготовку надо сделать перед сбрасыванием бомб, потом еще прицелиться должны, если с горизонтального положения бомбометание, когда уже на боевой курс становишься.
Наша эскадрилья замыкала строй, а я в последнем звене летел. Практически вся группа была впереди меня - мог все видеть.
«Мессеры» налетели с разных сторон и как-то у них быстро получилось. На удивление.
Костина и Николаева подбили. Потом разделываются с Голициным. А мы еще до цели не дошли, еще бомбы не сбросили.
Самолет командира полка Пчелкина, ведущего всей группы, тоже загорелся, резко начал падать - так и ушел в землю. Со всем экипажем. Еще кого-то впереди подбили, задымился, начал в сторону так уходить, бомбы тут же сбросил.
Строя уже как такового нет. Как бы две или даже три группки отдельные уже летят.
Сбросили бомбы, кто остался. Где-то дотянули близко до цели. Какое там уже прицеливание - в таких случаях, когда строй разваливается, да еще ведущего сбили - уже сбрасывают бомбы кто как может. Штурман именно ведущего группы в основном обеспечивает прицеливание в таких случаях.
После бомбометания и разворота - еще больше разошлись. Кто-то строй оставил - сам начал уходить прямо с боевого разворота. То ли мотор начал барахлить, то ли решил спасаться - там уже не поймешь.
На отходе опять «мессеры» продолжают атаковать. Новикова подбили, его самолет начал резко падать.
Слышу, мой стрелок-радист, Серебрянский, замолчал. Убит или заклинило пулемет, разная может быть причина.
Кричу: Стрелок, почему замолчал?.. чего там у тебя, Коля?
Молчит.
Штурман мне кричит: Стрелка ранило.
А, может, убило – там не поймешь сразу.. Он уткнется в своей «полусфере» и не шевелится, а живой или уже нет – иногда только на земле можно понять. Штурман со своего места еще может увидеть, что там с радистом..
***
Нашей эскадрильи уже нет.
Общего строя практически нет - группа развалилась. Несколько самолетов впереди еще летят, вроде, вместе. После боевого разворота - они как-то так в стороне, и не близко уже от меня. До них дотянутся - это время надо. Еще один - в другой стороне, но как бы ближе для меня.
Их догонять, чтобы пристроиться к ним.. А кого из них догонять? Когда сзади уже стрелка нет, а «мессеры» атакуют. Немцы ж видят, что перестал сзади стрелять – им уже никто не мешает атаковать.
Кто-то из передних как бы начал уходить в сторону, а двое еще вместе. Уже все - каждый начинает спасться, как может..
***
Свалил самолет в пикирование, у верхушек деревьев вышел - и пошел сначала на «бреющем» полете над лесом. Это когда над самыми верхушками деревьев летишь - а снизу по самолету, по центроплану эти верхушки постукивают. Сверху деревья не все одной высоты. Тоже свой рельеф есть – маневрируешь тоже, чтобы как можно ближе все время находиться к самым верхушкам. В таких случаях важно, чтобы ни винтами не зацепить по какой-нибудь из веток, ни в радиаторы не забились листья с ветками. Иначе вода закипит, моторы быстро перегреются, заклинить может. В тот же лес и упадешь.
На таком «бреющем» над лесом пролетел, лес закончился - еще ниже прижался, уже к земле до предела – что называется, на предельно малой высоте. Над линией фронта на «бреющем» – и к себе на аэродром.
***
За мной как-то никто из «мессеров» и не увязался. Может, горючее уже на исходе у них было. У истребителей баки не такие были как у «пешки», меньше времени в воздухе могли находиться.
При подходе к аэродрому – красную ракету выстрелили: раненый на борту. Сели, Серебрянского в госпиталь увезли, серьезное ранение получил.
Хороший такой парень был Коля Серебрянский. Нравился он мне очень - воспитанный, начитанный. Из Москвы родом был. И молодой еще, сразу после школы пошел на курсы стрелков-радистов.
Жалко было, когда он погиб. Позже уже, когда не со мной стал летать. После госпиталя вернулся, просился опять в мой экипаж. А у меня уже другой стрелок-радист. Я и не против был, чтобы Коля вернулся, даже просил командира, чтобы Серебрянского опять в свой экипаж взять. Но - нет, с другим пусть летает.
Он перед тем, как со мной, в экипаже Москвина летал, а с месяц-полтора до своего ранения со мной стал летать. Не знаю почему, что там было причиной. Командир полка приказал моего стрелка в экипаж Москвина отправить, а Серебрянского - в мой.
Москвин со своим экипажем как раз погиб за день до этого, а Серебрянского - ранило.
***
Так оно и получилось. 22-го августа погибли два экипажа: Горелова и Москвина - оба самолета с экипажами в землю ушли. А перед этим за несколько дней экипаж Боброва погиб от прямого попадания.
А мы 23-го полетели группой в 12 самолетов.
Тогда один из всех нашей эскадрильи и вернулся. Еще от того случая с прямым попаданием не пришел в себя, а тут уже другое.
Хотя из 12-и самолетов еще несколько прилетело. Кто чуть раньше меня сел, кто позже. Еще кто-то на вынужденную сел, потом вернулись.
Не все и погибли из тех, кого сбили. Кто-то дотянул до своих и выпрыгнул. Новиков так вернулся, еще кто-то. Другие к своим сумел пробраться – перейти линию фронта. Так Голицин через неделю где-то или больше вернулся.
***
16.2. Один из «девятки»
***
Своих друзей прекрасные черты - Сквозь лик войны
дано в миг разглядеть… Не раз глядеть иначе.
Когда один живой из всех, кто клином шли единым,
Когда летишь и падаешь на землю криком соколиным, -
Лицом войны к лицу друзей ты обращаешься и плачешь.
***
А другой раз – тогда вообще один вернулся из всех, кто полетел. Никто больше из девятки не прилетел.
Этот вылет вообще был непонятным. Так и осталось темным все это. Потом были слухи, что вроде какое-то предательство было, где-то в штабе, что сообщил кто-то немцам. Но так оно и осталось не ясным. Хотя не знаю, просто, что такое случайно произошло – может, конечно, и могло так все совпасть. Как другие рассуждали, которых там не было.
Но мне до сих пор не вериться, что так оно все произошло из-за случайного стечения обстоятельств.
Так - как оно все происходило.
Вот и тогда сразу и сейчас сидит в голове, что немцы именно нас ждали. Потому что их не два-три истребителя, как обычно они летали, а именно такое количество, вроде как специально собранная группа. Поскольку ждали именно девятку «пешек» и два звена истребителей прикрытия. Прикрытие сразу оттеснили от нас. Потому что все шесть наших «яков» сразу в карусели закрутились – на каждого по немцу было. А те «мессеры», что остались, тоже не один или два.
Когда девятка «пешек» идет, то совместная огневая мощь такая, что если немцев одна-две пары истребителей, то они и не пытались обычно атаковать. Хотя это от разного зависело – начинают атаковать или нет: откуда они летят, какой запас у них горючего и другие причины могли быть.
***
А тут чуть ли и на каждого из нас по паре «мессеров». На пары разбились и атаковали один за другим. Причем самолеты эти немецкие какие-то разрисованные были на всю длину. Чего там намалевано было – рассматривать некогда было, но не «бубны»-«трефы», как до этого встречались.
Это одно. А другое – как они находились в воздухе по отношению к нам в тот момент, когда мы встретились.
Они находились так, что им и маневра никакого практически не нужно было делать. Для того, чтобы начать атаковать. И по высоте и по расположению, направлению полета - просто лучшей позиции для атаки не придумаешь.
Выше нас как раз, идут не встречным курсом, а наискось, поперек как бы нашего курса. Не надо время ни набрать высоты для атаки, как обычно, ни облететь – немцы атаковали обычно, чтобы сверху и сзади зайти на «пешку». Снизу атаковать редко какой брался.
А тут еще они находились именно и со стороны солнца. Ну, просто идеальный вариант.
***
Буквально, чуть только довернули и пошли атаковать, что называется, минуты не было у нас, чтобы сообразить, чего делать. Мы только из облачности - а она такая, плотная была, темно там было - вылезли на солнце. Солнце прямо в глаза бьет, ослепило просто на какое-то мгновение – этих немцев не сразу и рассмотреть можно было. Они почти со стороны солнца как бы так летели.
Первая группа атаковала истребители наши – и увела их. А вторая группа прямо следом за первой – на нас.
***
И как оно все так сложилось.. Не могу поверить, что все это случайно. Тем же немцам, если бы так случайно встретились, тоже надо было время сообразить, между собой чего-то переговорить. Кто там одной группой «яки» наши атакует, а кто во второй группе – на нас.
Сколько осталось в памяти, даже никаких слов или команд на немецком не слышал в эфире. Может они на какой-то другой частоте, конечно, были. Хотя и до того и после, обычно – мы их слышим, они – нас. На одной волне все говорят. Поэтому такое впечатление, что они и ждали, и знали, сколько нас летит и на каком курсе и в какое время. Где мы линию фронта будем переходить, и на какой высоте.
***
Мы взлетели, причем все девять ушли нормально. Когда столько взлетает группа, часто у кого-то чего-то забарахлит. Пока запасной взлетит вдогонку – его подождать надо, круг - а то и несколько - над аэродромом делается.
А в этот раз все нормально. Причем над нашей территорией облачность. И большая такая, между нижней и верхней кромкой расстояние как раз захватывала выбранный эшелон пролета линии фронта.
В таких случаях всегда в облака уходили.
Ближе к линии фронта мы в туда в облака спрятались, на заданную высоту ушли, и как раз с земли не видно. Вроде повезло, удачно для нас получалось.
А дальше… Линию фронта только вот перелетели – облака, словно, как отрезал кто.
Прямо из облачности вылетаем – небо чистое, солнце сверкает и немцы – справа и выше как раз на той высоте, с какой им лучше всего и атаковать. Они вроде как вдоль линии облачности летели. Так под углом немного.. Специально будешь рассчитывать – лучше почти и не придумаешь.
***
Истребители всегда стараются командира сбить, ведущего группы. Не так просто это. Командира всегда защищают – это закон. Но если получается - тогда уже почти всегда весь строй развалится. Если летят ведомыми опытные и сильные летчики, которые и как командиры опытные, еще есть шанс. Или хотя бы один такой летит ведомым, но и то – все равно.
Хороший, сильный командир – это 50 процентов успеха в бою, если не больше. Если командира сбили, обстановка в группе сразу меняется. И настроение, и готовность выполнять команды другого. Немцам сразу настолько проще становится разбить на отдельные части группу. А потом, когда все по отдельности, им легче и атаковать, и прицельно вести огонь.
***
Тут же чуть не с первого захода подожгли самолет ведущего нашей девятки. Они парами заходили. Может, вторая пара зажгла. И, похоже, в летчика попали, потому что самолет сразу как-то клюнул вниз. Так еще любой летчик нормальный старается тянуть в строю, сколько может. Особенно если ведущий. А ведущим тоже не любого ставили.
А тут немцы парами друг за другом на нас. Одна пара отстреляла – попала, нет - уходят опять на набор высоты, а следующая пара атакует. Одни на передних в группе, а другие на задних. Оно почти как бы одновременно.
Видно, опытные все летчики у немцев подобраны были. И не просто опытные, а, что называется, чувствуют друг друга. Хорошо знают, какая пара как работает, то есть вместе не первый раз так летали.
Ведущий «мессер» из пары целит, чтобы самолет зажечь или летчика убить, а ведомый старается подавить огонь штурмана или стрелка-радиста. Штурман со своего места стреляет назад, верхнюю полусферу закрывает.
Стрелок сбоку стреляет, откуда атакуют. Стрелки-радисты переставляли свои пулеметы на левый борт, или с правой стороны вести огонь. Иногда могли этим же пулеметом и верхнюю полусферу полностью обстреливать - им надо было в верхний лючок тогда вылезть. Но так редко кто делал.
***
Экипаж начинает стрелять в того, кто по ним стреляет. А первый тогда не так боится подойти ближе, прицелиться. Они же не по прямой совсем заходят на цель, тоже маневрируют, крутятся в воздухе, чтобы в них не так легко попасть было. Висит над тобой сверху, со стороны так - левой или правой. И вроде, как танцует с крыла на крыло. От трасс, которые летят в него, уклоняется, виляет все время. Подбирает момент, когда ему можно под углом атаки изменить полет, огонь открыть, в прицел словив мотор. По моторам они главным образом целили. А если повезет, то попасть по летчику – это лучше всего
***
Наши - один за одним - начали вспыхивать как спички. Ну, буквально, за несколько минут, может, за пять минут – строя нет и все горят. Время в такие моменты совсем по-другому воспринимается – на часы не смотришь ведь.
Иногда такие минуты бывали – и не поймешь потом, сколько их было.. Пять или двадцать..
Я в третьем звене был, все это происходило, что называется, у меня на глазах. Кто начал бомбы сбрасывать – чтоб маневренность появилась. Несколько куполов парашютов в разных местах вроде заметил. И самому ж надо уворачиваться, закрутилось тут все со всех сторон.
Когда все загорели, сколько мог увидеть – может так показалось, в такие моменты всего не упомнишь – понял, что надо уже самому как-то спасаться. Когда строй развалился – все, тогда уже каждый спасается, как может. Да тут он и не развалился. Просто всех в этом строю и перебили.
Вроде кто-то впереди тоже сбросил бомбы и начал переводить самолет в пикирование. И я за ним. Бомбы сбросил – там уже не важно куда, спикировал. Под углом чуть ли не под 90 градусов.
В такие моменты от страха сам не соображаешь, что делаешь. Градусов 80, наверное, точно. Самолет легкий, без бомб.
***
Обычно, пикировали под углом в 60 градусов, иногда и круче получалось, градусов под 70. Это когда бомбометание с пикированием.
Бывало, пикируешь на цель согласно нужного угла атаки, а тут снаряд зенитки рядом как даст, или пулеметная очередь трассирующими – видно как она идет прямо туда, куда и ты летишь.
Штурвал тогда или на себя тянешь, или от себя. Когда от себя штурвал отжимаешь, только не перестараться было. Так тоже бывало.
Были случаи – так в землю за бомбами вслед и уходили.. Особенно, молодые летчики, которые приходили с подготовкой «взлет-посадка», опыта никакого..
Не в нашем, а в другом полку, но нашего же корпуса вообще был уникальный случай. С молодым, неопытным летчиком. После сбрасывания бомб, при выводе из пикирования бомба легла на плоскость крыла. Поднырнул под нее, а потом она и легла ему на крыло.
Как эта бомба не взорвалась. У него еще получилось ее сбросить и вывести самолет из пикирования – живыми остались. Хватило запаса по высоте, чтобы успеть.
***
Когда в момент захода на цель и прицеливания, при бомбометание с горизонтального положения, начинаешь маневрировать, штурман начинает там кричать. Штурман целится и корректирует, чтоб боевой курс выдержать, куда довернуть, самолет выровнять. Если только летчик начинал отклоняться, у штурмана цель сразу уходила из прицела. Иногда штурман кричит, а ты его не слушаешь – он уткнулся в прицел и ничего уже не видит. Что уже прямо по курсу снаряды начинают рваться.
При пикировании уже сам прицеливаешься.
Хотя, в любом случае, и при пикировании - чтобы попасть, надо выдержать курс.
В любом случае, штурмана слушаешь, пока слушается.. Он же не смотрит по сторонам, как от зенитки взрываются снаряды, как с земли трассы летят. С земли палят - из чего только могут. Иногда, штурман кричит: «уходит, уходит цель!» - а ты ему в ответ: «Бросай бомбы». А бывало и так, что приходилось и повторно на цель заходить. Задание надо выполнить, совсем мимо бомбы не станешь сбрасывать. За этим тоже следили и могли наказать.
***
Даже при горизонтальном полете, если выдержать курс и нормальному штурману дать возможность прицелиться, то точность попадания была неплохая.. А при пикировании, по дотам или в окопы по пулеметным «гнездам» – прицелились и прямо туда – плюс-минус метр, не больше разброс.
По тем же танкам попадали. Если правильно упреждение на скорость движения танка сделаешь – башни у танков отлетали. Не часто так получалось, но попадали.
«Пешка», в смысле точности бомбометания при пикировании, – сильный был самолет. Если и летчик, и штурман уже опытные, вместе уже хорошо слетались, притерлись, точность попадания хорошая была.
А если начинаешь маневрировать, то тогда уже не так точно.. Но – в пределах точности, как между собой в таких случаях оценивали..
Иногда спросишь штурмана: как бомбы легли? – если пришлось крутить.
- В пределах точности, командир.
Потому что штурман кричит: уходит цель, левее или правее… Иногда крикнешь в ответ: кидай - не командуй. А то и не отвечаешь, не до того.
***
Когда с горизонтального положения – то там хуже, конечно. Зенитки бьют, а тут надо боевой курс выдержать. В таких случаях по-разному было.
От командира много зависело, как он группу ведет в таком случае, как на цель заводит, маневрирует или никому не дает. Были такие – всех за собой как баранов ведет прямо на взрывы от зениток..
Или другое – под углом поставит всех, чтобы уменьшить площадь попадания, высота разная уже опять же – и с такого положения и бомбы скидывают. Куда они так уже попадают. Были и такие. Особенно уже ближе к концу войны.
***
А тут в пике свалил самолет. Когда без бомб, то и под 80 градусов можно. Особенно в такие моменты. От страха все настолько сжимается. Да когда другие, рядом с тобой летящие, погибают. Это если один-два из группы. А когда вот так – все и практически сразу. Потому что впечатление, что все это происходит в одно мгновение. Хотя оно, может, и минут десять этот бой длился.
За мной двое погнались, когда ушел в пикирование. Ни «мессеры», ни «фоккеры», да вообще, любые, и наши тоже, истребители под таким углом пикирования, как «пешка», не могли лететь. В штопор срывался самолет, становился неуправляемым.
Поэтому как бы на своем предельном углу пикирования сверху по курсу начали лететь, чтобы потом, когда из пике выходить будешь, сверху опять напасть. Но это мало кому удавалось, если опытный летчик на «пешке».
***
Разница в скорости еще. Они как бы вперед залетают, хоть и пытаются сбросить скорость. Но пикируют же тоже – скорость не очень уменьшишь. А курс выдерживают, по которому должен выскочить под них, если так прямо и лететь будешь.
Поэтому чаще всего мы не просто из пикирования выходили, а с разворотом, чтоб с этого курса уйти. Самые опытные немецкие летчики, поэтому, начинали доворачивать немного влево.. Потому что левый боевой разворот – это все так летали. И у нас, и у немцев – только в левую сторону боевой разворот.
И в училище так всех учили разворачиваться, и на тактических занятиях только такой вариант разворота рассматривался. А я себе как-то еще раньше сообразил, отчего только влево, почему тоже самое - вправо нельзя сделать.
***
Подумал, и как-то на «охоте», когда «мессер» погнался за мной – так от него ушел. Спикировал, он за мной летит и влево забирает, а я через правое крыло с разворотом. Он меня и потерял тут же.
Потом если один летал – всегда так уходил.
***
Даже без пикирования - тот же боевой разворот только через правое крыло. И сколько раз я так не делал, ни один немец за мной этого не повторял.
А если с пикированием, то они вообще теряли из виду. Потому что начинают сразу слева искать. По времени, вроде, должен уже выскочить под ними где-то. А тебя нет - они еще левее доворачивают. Не в землю же ты спрятался, должен вынырнуть, если не по прямому курсу, то левее. После пикирования скорость больше чем у них – должен их обогнать, то есть появиться под ними.
Они тогда сверху опять догонят и уже прижмут – не уйдешь. Только на «бреющем» тогда нужно уходить.
***
А «бреющий» полет – это своя опасность, свои там еще и варианты, и хитрости. Причем, это ж на предельно малой высоте нужно лететь, чтобы у них не было возможности атаковать. Если высота метров 50, а то и меньше даже, хороший истребитель может рискнуть и успеть сверху успешно атаковать. Под нужным углом вниз самолет поставить, и сам потом от земли увернуться.
***
А так вправо развернулся и ушел.. Я поэтому даже больше любил именно в одиночку летать, когда на «охоту» посылали потому, что если группой, то такое уже не сделаешь. Хотя большинство летчиков считали, что когда один на «пешке», то это гораздо опаснее летать, чем группой. Но были и такие, которые понимали, что одному даже лучше – когда ты сам себе командир. Для летчика, который уже имеет свой опыт и умение, свои отработанные приемы ведения боя, свой почерк, как любят говорить в таких случаях, когда никто не командует - лучше всего.
***
И от этих двоих я таким же приемом ушел. Из пикирования – с боевым разворотом через правое крыло. Они, видно, меня совсем из виду потеряли. Им сверху, когда ты над самой землей – разглядеть тяжело.
Так и вернулся один.
Зарулил на стоянку. Моторы выключил. Вылезли с ребятами. Стрелок-радист раненный, задело легко, а штурман – целый, нормально. Самолет весь в дырах. Фюзеляж, плоскости крыльев, и левая, и правая, где кабина летчика – все изрешечено. По дыркам видно, что насквозь пробивало и слева направо, и справа налево. Хотя сразу не рассматривал особенно. Просто глянул на весь самолет, на кабину свою.
Потом уже еще рассматривали, на следующий день. Видно, что не только одиночные попадания были, а просто очередями целыми были попадания. Сколько их таких очередей – чего уже там считать. Но не одна и не три. Некоторые от носа и почти до хвоста – дырки на одной линии. А некоторые снизу вверх. И так, и так попадали. То с одной стороны самолета входные, а с другой уже на вылет дырки. То наоборот.
Как ни в кого из нас не попала ни одна пуля – странно даже. Там же в пушках не пулеметные даже пули, почти снаряды уже.
Действительно, самолет был как дуршлаг вот этот, что на кухне используют..
Штурман и стрелок пошли вместе в медсанчасть. Вроде рана, что и в госпиталь не отправят, может быть, но – кто знает. Сразу после боя – раненый и не всегда соображает еще, больно или нет. Упадет по дороге.
***
Когда я вылез из самолета… Тут самого так настреляли, всего колотит… А как увидел на стоянке вещи разбросанные, ребята оставили.
Перед вылетом мы все вместе лежали на траве возле самолетов, пока ждали команды лететь, прямо на стоянке. Уже конец весны где-то был, все зелено, и солнце уже пригревало. Кто на какой-то куртке сидит, кто шинель взял и лег. Нас же много было – девять экипажей по три человека.
И кто во что горазд, как всегда в такие моменты… Кто там дремал, кто какие-то байки травил, кто какой-то соломинкой щекотал кого-то. Кто-то в чехарду, друг через друга прыгали, смеялись. Ну, дурачились, как дети. В таких случаях всегда так было, когда надо ждать приказа, погода хорошая. Возраст-то по 20 с небольшим лет у всех, а стрелки-радисты еще моложе были.
***
Вылез из самолета на стоянке. Увидел все эти вещи ребят, они их так и бросили, побежали по самолетам – вся эта картинка перед вылетом у меня в глазах встала: я их голоса, смех слышу еще, кажется…
Все это было каких-то минут сорок назад. Даже меньше. И все…
Только их вещи лежат.
Стоянка пустая, один мой самолет на стоянке..
Это ж все были друзья, товарищи, почти со всеми много месяцев и жили, и на задание летали вместе.
Что-то такое нахлынуло, даже объяснить тяжело. Обида, какая-то горечь такая… Внутри как-то аж запекло, сжало не сердце, а в середине где-то.
Говорят – на душе тяжело, а тут – не тяжело, а как именно душу запекло и, вроде, как кто-то сжал в кулак до боли. Не знаю, чего там душа есть.. Но оно не сердце схватило, а чего-то другое. И горло так перехватило – вздохнуть не можешь, кажется.
Не только за всех ребят, что только что сгорели. Как бы понимал, что, может, не все погибли – несколько парашютов видел. Хотя «мессеры» могли успеть добить из пушек уже, пока на парашютах висели. Выпрыгнул и парашют раскрыл живым, а приземлился мертвым – такое не раз случалось.
Увидел эти их вещи, но как-то не только за это сегодняшнее стало невмоготу, а вообще, за всю эту жизнь нашу всех вместе, свою жизнь такую почти с детства, как мать умерла и мачеха появилась. Что-то так сжало внутри, просто, как кто-то в кулак сжал как-то изнутри.. Как перевернулось что-то, оборвалось..
Сел возле шасси тут же. Штурман с радистом еще звали с собой. Махнул им рукой: уйдите, сами идите – они и ушли..
***
Не знаю, сколько я там просидел.
А тут приходит какая-то «матчасть».. Какие-то котелки мне тычет с едой.. Тут не то, что есть не хочется, тут..
Уйди отсюда, говорю.
***
Я Лиду до этого как-то даже и не видел вроде. Девчонки, которые как официантки столы накрывали, посуду убирали – те еще знакомы по лицам были. А которые на кухне поварами – их и не знали.
***
А хуже нет, когда вот так один из всех прилетаешь...
***
17. Козацька честь - Гвардейская честь
Были какие-то такие задания, которые так и остались какими-то... непонятными, что ли. Что за задания такое, для чего оно нужно было – такое впечатление, что специально кто-то что-то делал, как вредительство.
Может, это оттого, что в результате этого происходило. Если бы все нормально было, то так не стало бы казаться, такие бы мысли не закрадывались. Но все равно, даже если бы и все нормально закончилось, все равно какая-то странность, непонятность в таких заданиях была.
***
С тем же заданием, когда Немашкал, командир полка, погиб.
Оно мало того, как это все само было, но потом еще и свое продолжение все это получило. Еще во время войны история произошла. Своя такая ситуация, настолько неприятная, столько переживал.
А уже после войны, когда уже демобилизовался и в Киев переехали жить, оно еще по-другому узналось.
Когда встретились с Сапегами. Был у нас такой летчик Виктор Сапега. Он, как летчик, такой себе был – из тех, кто летал только тогда, когда уже весь полк должен был лететь. Обычно, его сами командиры старались не ставить в те группы, которые летали на задание. После войны он женился на Рите , которая при штабе, в нашем же полку, писарем каким-то была.
А Рита была по-своему такой любимицей, если так можно сказать, в полку. Ее все знали и хорошо относились. Она была как колокольчик такой для всех. Всегда что-то тараторит, не останавливаясь, как-то так весело, смеясь. Даже если настроение плохое, ее встретишь - все равно улыбнешься. Хотя не то, что она балаболка была какая-то. Но умела вот так со всеми разговаривать. Неунывающая никогда.
***
Когда уже в Киеве случайно встретились, стали по каким-то праздникам встречаться, то Рита заставила меня как бы по-другому взглянуть на то, что тогда произошло, когда Немашкал погиб.
Когда, кажется, на 9 Мая надел форму с наградами, в гости к ним пошли, и Рита меня первый раз увидела при этом параде, то так удивленно спросила: «Вася, а ты разве не Герой Советского Союза».
Я так, пожав плечами – нет. А она мне: «Странно, я сама видела, как Немашкал подписал представление на тебя – на Героя. Отдал его мне положить в папку для отправки, как раз в тот день, когда и погиб».
Я ей сказал, что ничего не знал об этом, никто мне не говорил. Первый раз от нее тогда только услышал, что было такое представление. Представление, это еще не значит, что и наградили бы, но тут другое.
Как-то так поговорили, выяснять дальше я не стал. Такая тема, видно и Рита тоже не хотела больше говорить, чтобы мне не досаждать таким разговором.
***
Немашкал недолго был командиром полка. Он стал командиром после гибели майора Тюрина в Умани. А случилось это где-то в середине апреля 44-го года – тогда вместе с Тюриным еще многие погибли. Своя трагедия была тогда в полку. Немашкал стал комполка, а сам погиб в конце лета.
***
В Умани тогда произошла, что называется, трагическая случайность. Тоже судьба еще. Девчушка, которая как оружейник была, сидя на бомбе, что-то сделала, что бомба взорвалась. Это как раз начали придумывать, как немецкие бомбы использовать. Где-то захватили при отступлении немцев. Вот она как раз с такой немецкой бомбой и возилась возле самолета.
Девчонка эта, как оружейник, недавно и появилась в полку. Месяца два прошло, как прибыла в полк. Говорили потом, что ей лет 18 было. Сидела сверху на этой бомбе – а бомба большая, аналог нашей 500-килограммовой. Готовила эту бомбу, чтобы подцепить к самолету
Командир полка вместе с другими командирами - в основном техники, оружейники, но были и летчики, - как специально, как раз почему-то осматривали самолеты.
Шли большой группой по стоянке, человек до тридцати. Они до нее, до этой оружейницы, не совсем дошли. Если бы рядом оказались – в живых вообще, наверно, никого бы не осталось.
Человек около двадцати погибло. Одних сразу убило, а другие позже, уже в госпитале, скончались. А из летного состава – именно из командного состава – погибли сразу. Те, которые впереди шли, рядом с комполка. Больше, конечно, из техников, оружейников погибло.
В центре Умани в братской могиле так и похоронили всех, кто сразу погиб.
Вот судьба – на войне и не знаешь, где погибнуть можешь. Тот же Тюрин, и погибший комэск Скоробагатов, да все там погибшие летчики – это были те, кто выжил, пройдя через такие бои. Почти все с 41-го года на фронте были.
А тут на своем же аэродроме, вроде бы и не в бою.
Так всех вместе с этой оружейницей и похоронили. Хотя от этой девчушки практически ничего и не осталось. От тех хоть было, что хоронить, а от нее… Те, которые занимались этим сбором останков, говорили, что какие-то кусочки красные с пол-пальца величиной находили. Сидела сверху, как на коне, на этой бомбе – как рассказывали те, кто видел и остался живым.
***
После гибели Тюрина, Немашкал стал командиром полка. Когда Немашкал погиб, после него командиром полка и стал Голицин. Он дела принял.
Не известно, отправили это представление – оно уже получается, что при Голицине должно было уйти. Или не стал этот Голицин отправлять, положил под сукно. Похоже, что так и сделал, порвал и выкинул то, что Немашкал на меня написал и подписал.
Хотя было такое на фронте, что все, что погибший командир - какие там награждения, отпуска – подписал или объявил, выполнялось. Тот, кто вместо него становился командиром – должен был обеспечить выполнение, как приказов, погибшего командира.
Но это так – как бы принято было так делать, в память о командире. Нигде это не прописано было, а как бы вопрос чести того, кто принял командование вместо погибшего.
***
Но Голицин, видно, выкинул это представление на меня. Так себе стал понимать уже тут, после демобилизации, в Киеве.
***
Иначе тогда объясняется и та перепалка, которая возникла тогда у меня с Голициным на одной гулянке, еще во время войны.
Это произошло уже через нескольких месяцев после гибели Немашкала. Когда мы чуть ли не подрались друг с другом. До драки, конечно, не дошло, не знаю, чем бы оно тогда закончилось. Если б драка уже по настоящему произошла. А так меня схватили хлопцы за руки, его тоже держали.
Голицин – командир полка, а я - командир звена. В условиях войны, во время боевых действий - кто-то командира полка ударил. В таких случаях кто там разбираться будет особенно. Трибунал, разжаловали бы. В лучшем случае, не отправили бы в штрафбат, а оставили летать, в другой полк перевели.
***
И с этим тоже какая-то странность.
Все равно, конечно, доложили тому же командиру дивизии, а то и Полбину, он еще живой тогда был. Тот же комиссар полка – ему положено было сообщать, а там еще и другие были, кто могли доложить.
Что лейтенант – а я тогда уже старшим лейтенантом был - бросил в лицо не только майору, старшему офицеру, а командиру полка тарелку со стола. В присутствии практически всего офицерского состава полка.
В полку была организована какая-то такая общая пьянка, почти все мы тогда сидели за столом. Летный состав, офицеры. Стрелки-радисты, как сержантский состав, не участвовали.
Не могли не доложить о таком ЧП. Это же не то, что огрызнулся каким-то словом. Даже на такое обращали внимание. Если что-то такое происходило, переводили в другой полк. В этой же дивизии или в другую дивизию. А то совсем отправляли на другой фронт, чтобы уже и не встретились.
Были такие случаи – известно было. Особенно, если младший по званию на старшего что-то там сказал. Просто словесная перепалка – через какое-то небольшое время, если оба живы, смотришь, кто-то из них куда-то переведен. Не всегда тот, кто был младшим по званию.
А если не просто со старшим по званию, а с командиром какая-то стычка происходила, это еще быстрее делалось.
***
Тут же все так и осталось. Не то, что хотя бы понизили в звании до лейтенанта. Мне даже взыскания не объявили. Вообще, это тоже свой показатель. Хотя и не понятно, почему так было.
Не знаю, как оно там и куда докладывалось, кто и что выяснял. Но я так и остался в полку летать, тем же командиром звена. А Голицин командиром полка тоже так до конца войны и был.
Вообще, тоже странно, что так все и осталось, после того, что произошло между нами.
***
Все это одно с другим если соединить, то вот странно это все получалось. Какое-то непонятное все от начала и до конца.
***
Немашкал погиб в конце лета 44-го.
Мы с ним вместе на то задание полетели. Вот тоже - само это задание. Что это было за такое задание? При том, как это все происходило. Мне сразу как-то странным показалось. Само поведение Немашкала.
Я тогда же не знал, что он, буквально, в этот же день отдал подписанное на меня представление для награждения Героем Советского Союза.
***
С самого начала непонятно все как-то было. И так одно с другим сплелось, что еще непонятнее стало. Что это было за задание такое, от кого, зачем?
Посыльный сообщил мне, чтобы явился на КП к командиру полка.
Докладываю, что прибыл, Немашкал мне говорит: «Будь готов, иди к самолету, сейчас вдвоем с тобой на задание полетим».
И все, что за задание такое, куда летим – ничего не объяснил. Причем, говорил это, а сам как-то нервно так себя вел.
В глаза не смотрел, какие-то бумажки перебирал. Обычно он так себя не вел. У нас с ним вроде отношения неплохие были, всегда так по-доброму разговаривал со мной. Когда другие задания давал, задачу ставил – не один раз так было. А тут как бы суетиться что-то, глянет на меня и вроде бы глаза прячет.
На это сразу как бы не очень внимание обратил, но все равно запомнилось.
Вышел от него пошел на стоянку к своему самолету. Посыльному сказал, чтобы экипаж позвал и техника к самолету. Пошел сам и еще тогда себе подумал, что это за задание такое, что командир полка сам летит, а с ним только один ведомый. Мы ж не истребители, парой «пешки» почти никогда не летали.
В начале войны такое бывало. И то редко, на «пешках» парой летать – это хуже всего. От такого быстро отказались.
Если на «охоту» лететь – только одним самолетом. Парой на «охоту» никогда не летали.
А так, одно звеном – принятая боевая единица была для «пешек». Да и то, в то время – это ж середина 44-го года была - уже так не часто летали. А тем более, если командир полка летел.
***
Начиная с командира полка, и все выше командиры – им запрещалось взлетать самим, если взлетало меньше две трети личного состава, находящегося под их командованием. А вообще, любой такой командир если взлетает – то все летят с ним. Командир полка – весь полк, командир дивизии – вся почти дивизия и летит. Кроме всего прочего, эти все самолеты обеспечивают и безопасность командира. При этом и истребителей прикрытия тоже свое количество положено.
А тут и не понятно, что значит - вдвоем полетим. Истребители прикрытия будут или нет.
***
Мой техник возле самолета оказался. Самолет заправлен, боекомплект тоже, самолет готов. Тут бегут штурман и радист. Спрашивают, куда летим. А я и сам не знаю, что им сказать. С бомбами летим или нет. Ничего не сказал.
Объяснил ребятам, что летим с комполка двумя самолетами. Они тоже так - как бы удивились. Ждем командира, наше дело телячье. Бомбовоз никакой не едет, значит, без бомб полетим, на какую-то разведку.
Смотрим, самолет командирский тоже готовят техники, экипаж туда подошел.
Через какое-то время на машине подъезжает Немашкал и, не подходя, не подзывая к себе, показывает, чтоб запускал моторы - за ним взлетать. Сам с экипажем своим в самолет полез. Мы тоже.
Прогрели моторы, Немашкал первым на взлет порулил, я за ним – взлетели друг за другом. Тут ни строиться не надо, сразу почти одновременно взлетели и пошли к линии фронта.
***
Через какое-то время подошло звено истребителей. Уже легче как бы. Есть прикрытие.
Облачность была. Как всегда в таких случаях, если была возможность даже и не большое облако, то в него залазили. Особенно, если один летишь, то так из одного облака в другое и прячешься. И с земли не так видно, и те же истребители, может, не заметят.
А тут такая хорошая облачность, так, что над линией фронта в облачности прошли. Вроде нормально.
Куда летим – не знаю.
За ведущим лечу. Куда он - туда и ты, как бы особенно и знать не обязательно. Хотя, как правило, всегда объясняли, хотя бы в общих чертах. Даже, когда большой группой лететь должны были. Мало ли что, хоть знать что делать, какая задача поставлена перед группой.
А тут два только самолета, а я ничего не знаю.
***
И тоже, как в том вылете, когда один из девятки вернулся.
Оно, конечно, когда с Немашкалом летели не совсем так, что вот немцы нас уже как бы ждали.
Мы из облачности как раз вылезли, а через небольшое время «мессеры» появились. Летели они как бы нам навстречу. То есть туда же летели, где и мы оказались. Случайно так или нет. На войне все, что угодно могло произойти. Если б это не командир полка летел такой парой со мной, то это можно было бы считать случайным совпадением.
Так с истребителями встречаться приходилось, и не один раз.
***
Но то, что тут летел командир полка, даже не звеном, а именно в паре, как-то сомнения и брали, и продолжали у меня оставаться, что эти немцы появились не случайно. Тем более, сколько их летело. Если бы пара, как они обычно летали тоже на «охоту», да пусть даже две пары «мессеров» - это одно.
А то их группа летела – шесть штук. Причем именно сами летели, никого не сопровождали. В то время истребители немцев уже редко летали такими группами. Они в основном только парами летали. Именно, чтоб истребители сами по себе летели.
В то время уже такие группы «мессеров» появлялись только, если своих бомбардировщиков прикрывали.
***
А тут, как специально. На три наших «яка» – три их, а остальные три «мессера» - на нас двоих. А две «пешки» против трех «мессеров» - это, в смысле ведения огня по истребителям, почти тоже, что ты один летишь.
Звено «пешек» - это уже не малая огневая сила. Даже без прикрытия – атаки двух-трех истребителей может успешно отражать. Если все экипажи сильные, опытные. Нет ни одного необстрелянного, ни среди летчиков, ни среди стрелков или штурманов.
А две «пешки» - это хуже, чем ты один летишь. Особенно, если ты не ведущим, а ведомым летишь. Сам уже ничего не можешь делать. Должен только все повторять за ведущим, чтобы сохранять нужную дистанцию.
***
Тут я ведомый. Моя задача - держаться командира. Все, что он делает, должен за ним повторять. А немцы нападают с хвоста. Задний самолет оказывается под прицелом как бы в первую очередь.
Когда взлетели, поскольку мне Немашкал ничего не сказал, каким ведомым мне лететь, я занял место правого ведомого. Хотя, когда не звеном летишь, то уже не так важно, справа или слева летишь.
А когда тут начали атаковать, то совсем уже прямо в хвост летишь. Не сам маневрируешь, а повторяешь то, что ведущий делает.
А атаковать-то начинают того, кто задний.
***
Поэтому парой на «пешках» летать было хуже всего.
Если хотя бы звено, три самолета, они плотно идут, если умело, прицельно отстреливаются – к ним значительно труднее подобраться, чем к паре.
Если один летишь, то уже сам маневрируешь, сам можешь решать, как действовать.
Пусть этих немцев и три будет – они все три одновременно не станут атаковать. Атакует все равно один. Второй, может, как бы рядом идти, с другой стороны. Если первый отскочит, чтобы сразу тоже начать. А если третий, так тот будет совсем в стороне, сзади, лететь.
Одному от двух «мессеров», не говоря уже о «фоккерах» - можно было уйти. К тому времени уже не один раз такое было со мной, уже имел опыт.
И не так уже и пугался этого. Свои приемы были, знал, как немцы действуют, как мне надо. Смотря, какая высота, как мы летим друг по отношению к другу. Это же разные все варианты. В зависимости от этого и действия разные.
А когда две «пешки», да еще летишь ведомым – хуже не придумаешь. Тебя атакуют, а ты не можешь маневрировать, должен идти за хвостом ведущего. Получается, ты зависишь полностью от того, как умеет маневрировать ведущий. Насколько он опытный.
***
Наши истребители оказались связанными в воздушной дуэли, а три оставшихся «мессера» начали нас с Немашкалом атаковать.
Правильно Немашкал делал или неправильно – можно рассуждать. Он же на «охоту», как я, не летал, у него этого опыта не было. Хотя тоже, не просто стал командиром полка - летчик опытный был. Но такого опыта, когда ты один летишь – у него не было, конечно. Он - именно как «охотник» - и не летал, наверное, никогда за все время войны.
А тут, что ты один летишь, что двумя самолетами – разницы почти никакой. Главное, чтобы ведомый успевал все делать за ведущим.
Не знаю, почему Немашкал так начал делать.
Ну, как привык, когда строем летели. А это же не строй. Если бы я был ведущий, сразу бы спикировал. Второй за мной и оба ушли бы. Тем более высота позволяла.
А так, Немашкал впереди летит, я за ним – уже прямо в хвост ему иду. Он маневрировать начал, я за ним повторяю, чтобы не отстать и не потерять его.
А начали атаковать меня. Кручусь, чтобы понять, с какой стороны будет тот первый, который начнет атаковать.
Двойка этих немцев как бы с двух сторон начинает подбираться. Они всегда так делали, и не сразу поймешь, кто из них первый будет стрелять. Да они и сами не всегда точно знали, кто начнет атаковать первым. Хотя кто-то из них тоже командир, кто-то ведомый. Но если у командира не получается что-то, а другому в прицел попадался – тут же огонь открывал.
Два эти «мессера» с двух сторон именно на меня как бы нависают, а третий сзади подальше летел. Не собирается атаковать, а как бы контролирует, чтобы неожиданно наши истребители не появились. В бою можно было так увлечься атакой, что не замечали, как их самих атаковали и сбивали. Это известно было.
***
Как точно оно там было, вспомнить и нельзя. В такие моменты все так напрягается, начинает вертеться. Ты вроде видишь сразу во все стороны и, одновременно, не все последовательно.
Сколько запомнилось, который слева как бы пошел на меня, вроде даже огонь открыл, очередь выпустил. Или даже и не стал стрелять по мне. То ли штурман, то ли стрелок из командирского, впереди летящего, самолета, как мне показалось и так запомнилось, его пуганул очередью.
Потому, что он как бы в сторону вильнул, а скорость уже набрал – газ добавил. Как бы проскочил вперед мимо меня.
Как только он проскочил дальше, что ему уже нельзя по моему самолету открыть огонь, - сразу почти все внимание на другой истребитель. Он стал самой главной опасностью в данный момент.
И тот, с другой стороны, сразу же начал меня атаковать. Видит, что первый «мессер» не сумел провести успешную атаку, сразу сам перешел к более активным действиям.
***
Поэтому я за тем, первым, уже не так наблюдал, на другую сторону голову закрутил и не видел всего, как оно было. Похоже, немец так проскочил мимо меня и оказался так, что самолет Немашкала ему можно атаковать. И он провел атаку, и успешно.
Мало того, что попал, а попал еще видно не только по мотору, но и ранил летчика. Не убил, а ранение, и тяжелое.
Такое становилось понятным по тому, как самолет начинался управляться.
***
К тому времени уже большой опыт был, пришлось насмотреться много разных случаев, как самолет падает. Убило сразу летчика или тяжело ранило.
Если летчика убивало, то самолет сразу начинал заваливать. Полная потеря управления. Там еще рука отпустила перед смертью штурвал или наоборот зажала.
Тоже по-разному.
А если ранение и тяжелое, то летчик еще пытается управлять. Самолет в таких случаях как бы то падает, то продолжает еще лететь. То сознание теряет, то, видно, вскинется, опять штурвал потянет, чтобы выровнять самолет.
Видно это и сразу понятно, что произошло. Не понятно, куда попало, но что летчик тяжело раненный - по самолету сразу видно.
Иногда по нескольку раз так самолет то заваливается, то выравнивается, пока летчик совсем сознание не потеряет. Или умер.
***
К тому времени уже пришлось насмотреться разных таких случаев, уже было и знание, и понимание того, что если так самолет начинает лететь – летчик уже не сможет спастись: ни выпрыгнуть, ни самолет посадить. Были и такие случаи – сам самолет вроде и не подбили, а в летчика попали – ушел в землю. Хорошо, если не весь экипаж.
***
Самолет Немашкала вот так и начал падать. И левый мотор задымился, не очень сильно, но сразу заметно. А главное, начал резко падать. Вроде заваливается на крыло, потом как бы выровнялся, но все круче уходит вниз. То вроде нос начал выравниваться, то опять клюнул.
Понятно, что летчик теряет уже сознание, но еще пытается управлять самолетом – тогда самолет именно так начинает лететь.
В таких случаях почти наверняка можно было говорить, что летчик уже не сможет покинуть горящий самолет. И управлять уже не сможет. Опытный экипаж в подобных случаях покидал самолет без команды, летчик уже ее и подать не всегда способен, ту команду.
Когда в группе строем летят, в таких случаях, если это самолет командира, уже не летят за ним следом. Когда группа летит, то уже только наблюдают: выпрыгнет кто-то – не выпрыгнет.
***
Оно, действительно, к тому времени уже разного насмотреться пришлось, опыт уже был.
И ведущих сбивали так, самолет начинает так падать, а сам самолет и не горит. За моей памятью, ни разу в таких случаях летчик уже не выпрыгивал. Экипаж или кто-то из экипажа еще успевал выпрыгнуть. А чаще всего, если летчика убило сразу – почти всегда так все вместе с самолетом и врезались в землю.
***
Но это когда группа летит, и командира сбили.
А тут мы парой летим. Да к тому же командир полка.
Я за ним тяну, хотя меня этот справа атакует. А тот третий тоже подтягивается сразу, слева заходит. Первый отстрелялся, попал – ушел с разворотом, теперь он станет в позицию третьего – будет ожидать, и контролировать ситуацию в воздухе.
***
Самолет Немашкала стал все больше и больше заваливаться. Из него еще какое-то время и штурман, и стрелок вели огонь по немцам, которые меня как раз продолжали атаковать.
А сам самолет как бы в пикирование уходит и, одновременно, с креном на левое крыло.
Для меня это и лучше, я за ним ухожу тоже в пикирование. Не такое крутое, как можно, но все равно - немцы уже не могут меня атаковать.
Несколько раз попытались обстрелять, но не попали. Попали, вернее, по самолету, но все целы. Запросил по связи - и штурман, и радист отозвались: целы. Когда по самолету попадает – оно слышно, как вроде на барабане дробь выбивают.
А самолет командира все круче вниз падать начинает, видно уже – все. Уже нет этих дерганий штурвала, летчик потерял сознание. Или умер уже. Кто уже скажет, что там и как было.
Никто не выпрыгивает из самолета. Ни от штурмана, ни от стрелка-радиста уже никто не стреляет – огоньков не видно.
По связи ни от кого из экипажа Немашкала ничего не слышно – не знаю, почему. Летчик погиб, стрелок-радист мог связаться. Не знаю, слышали меня, но ничего не отвечали.
***
Самолет уже так начинает падать, что и не выпрыгнет никто, даже будет пробовать. Скорость такая, покинуть самолет тоже не на всякой скорости можно. Пока горизонтально или близко к такому положению летит, выпрыгнуть можно, а если уже падает круто – от такого самолета не отделиться. А когда в штопор входит – уже все.
И тогда, самолет практически уже в штопор начал входить. Но никто не выпрыгивает.
Что тут делать? На хвосте три немца продолжают висеть, выжидают, что буду делать.
Они ж видят, что я не ухожу, продолжаю лететь как ведомый за падающим самолетом.
***
Штурману и стрелку крикнул, чтобы следили за самолетом Немашкала, докладывали, купола парашютов будут или нет. Сам - отжал штурвал, переводя самолет еще больше в пикирование. Хотя высота уже не совсем большая была.
Но хоть еще немного оторваться от немцев.
И штурман, и радист докладывают, через каждые там десять-пятнадцать секунд: нет куполов, нет куполов, нет куполов...
Никто значит уже так и не выпрыгнет.
***
- Самолет в земле, парашютов нет – не помню, штурман или радист сообщил.
Еще при выходе - опять же, как я всегда уже так делал, чтобы оторваться после пикирования от немецких истребителей, - ушел с правым боевым разворотом при выводе из пикирования, но довернул так, чтобы над местом падения пройти. Вдруг не заметили, а кто-то выпрыгнул, успел.
Чтоб своими еще глазами убедиться, мало ли что. Это ж командир полка погиб с экипажем. Будут выяснять обстоятельства гибели. Тем более, полетел на какое-то задание такое – двумя самолетами с небольшим прикрытием.
Кроме нас - свидетелей нет.
Немцев не расспросишь, а наши истребители и не понятно, где оказались. А, в действительности, кроме меня никто всего и не видел. Мой экипаж, и штурман, и стрелок-радист, назад смотрят, тем более - вели огонь по «мессерам», им некогда было следить за самолетом командира.
Над местом падения прошел так, с набором высоты. Хотя не стал специально набирать сразу большую высоту.
Самолет чуть в стороне догорает, нигде никаких белых парашютов на земле не видно.
Немцев тоже не видно – потеряли.
Ушел на высоту, опять в облачность спрятался - и к себе на аэродром. Уже над своей территорией пробил нижний край облачности и прилетел один.
***
Все эти разбирательства были. Несколько раз спрашивали, куда сам летел, когда наши истребители нас покинули.
Но так и осталось мне необъяснимым, что это за задание такое получил Немашкал, от кого оно исходило, что именно двумя самолетами мы и полетели. Почему он именно меня взял с собой.
Тогда я не знал, что оказывается, Немашкал почему-то на меня - именно в этот день - передал для отправки представление на Героя. Хотя такие представления не пишутся за полчаса. Наверное, он раньше написал его. А подписал в тот же день, когда отдал на отправку, или раньше?
Не знаю, когда подписал, но отдал на отправку, получается, в тот же день, когда и погиб.
Конечно, может, совпало так.
***
Какие-то такие вопросы, ответы на которые… И не знаешь, у кого спросить. Непонятность самого этого задания, да еще при этом погиб командир полка - само по себе сидело бы все время в голове.
А тут еще как продолжение к этому то, что с Голицин у нас произошло.
Тоже еще – вроде сам летчик, вроде командиром был давно. Командиром эскадрильи все же долго был. Причем, я же именно в этой 1-й эскадрильи и летал больше всего.
А тогда уже - он командиром полка стал.
***
В чем причина, что он такое позволил себе сказать, не знаю.
Как бы у нас и отношения были нормальные. Казалось бы, был командиром эскадрильи, в которой я летал. Друг друга хорошо знали.
После гибели Немашкала уже время прошло. По фронтовым понятиям – не мало. Не помню, почему эта общая гулянка была организована. Практически все офицеры полка. То ли 7 ноября уже отмечали. Наверное. Это ж уже 44-й год был, уже другая была ситуация и настроение. Наши войска наступают, победа близко.
Стол такой общий организовали в столовой – составили П-образно все столы и чем-то там накрыли. Все за этим столом уселись. Почему решили такую пьянку устроить – не знаю. Такое запрещалось устраивать. Возможно, из-за этого как бы и шума потом никакого не было. Не знаю.
***
Я так сел, что где-то в середине одного из краев этого стола сидел. Как бы поближе к месту, где Голицина посадили. Он, как командир, сидел во главе стола, для меня с левой стороны. Ну, метров так пять-шесть между нами было. Рядом с ним еще кто-то по бокам сидел. Начштаба, наверное, комиссар наш.
Практически только летный состав, но без стрелков-радистов. Они сержанты, а тут это было придумано для офицеров. Кто-то из техников-офицеров еще были.
Сидели все, какие-то тосты говорили. Еда была - почти все, как обычно. Может, немного там девчонки что-то сделали такое. Праздничное. Салаты какие-то, всякая ерунда такая.
Веселья особенного не было. Уже выпили по несколько стопок. Такой начался общий разговор, шумно так за столом стало. Как всегда, когда в разных местах по несколько человек начинают одновременно говорить.
Голицин сидел, с кем-то разговаривал. Не помню, кто там рядом с ним был. Наверно, начштаба или кто подсел. О чем они там разговаривали, не знаю. Я не прислушивался. Сидел чего-то закусывал, тостов не говорил. Кто-то что-то скажет – выпью со всеми. Такое какое-то настроение было.
***
Оно уже как бы и к концу эта пьянка шла. Некоторые там курить пошли, а я как раз вернулся с перекура. Опять сел, и как бы потянулся взять то ли салат, то ли еще что-то такое. Помню, в такой глубокой, большой тарелке. Оно, скорее, как тазик даже был.
И как раз в этот момент Голицин заговорил. И причем так громко, как бы привлекая внимание.
Ну, командир говорит, другие как бы примолкли. Что он начал говорить, я как-то не обратил внимание. Что-то про погибших, про тех, которые еще не доживут до победы. Что-то такое завел.
Я взял эту тарелку общую, чтобы себе положить. И вдруг слышу его слова..
- Есть среди нас и такие, которые своих командиров в бою бросают… Командир погибает, а они живыми остаются. Мы, мол, знаем таких…
***
Сначала я даже не понял, что это обо мне. С этой тарелкой вожусь. Все сразу затихли за столом, я глаза от тарелки отрываю, а многие на меня смотрят. Я на Голицина взгляд перевел – оказывается, он эту последнюю фразу говорил, глядя на меня.
Я не видел сразу этой всей ситуации, время какое-то прошло, пока догадался. Пока до меня дошло, что это он меня имел в виду. Если бы я видел, что он это говорил, глядя на меня, он бы, наверное, и не договорил всего, что успел сказать.
Но по тону слышал, как он это произносил. Он еще так всегда гундосил слегка. Не сразу понял, что, глядя именно на меня, он эти слова и произнес, что, мол, есть тут такие, которые бросают погибающих командиров в бою.
Поэтому все тоже стали на меня смотреть.
Пока я это сообразил, что это он обо мне такое сказал, намекая на случай с Немашкалом – из командиров за последние полгода, а, может, и больше, только Немашкал погиб.
Чувствую, кровь в голову прямо ударила.
Вот откуда-то снизу, от живота такая волна - просто в голову. Не знаю даже, такого до этого и не было никогда. Ярость какая-то или как это назвать.
У меня как был в руках этот тазик, как тарелка такая. Я в сторону Голицина это так и бросил.
***
Меня сразу с двух сторон за руки схватили, от стола потащили. Я еще чего-то попытался вырваться. Что-то кричал еще, там уже не вспомнишь.
Заметил, что Голицин тоже вскочил на ноги. Его окружили, тоже за руки держали, не давая и ему ко мне броситься.
Не знаю, попал я в него этим салатом или он увернулся. Он не так уж и далеко от меня сидел, метров пять, может чуть дальше.
***
Пьянка на этом, конечно, закончилась. Я уже к столу не вернулся, с этими же хлопцами, которые меня за руки схватили, так и пошли вместе к себе, где жили.
Не знаю, там еще кто остался, продолжали пить-гулять или нет.
***
На следующие дни не мог понять, так и осталось, почему этот Голицин тогда сказал мне такое. Еще было бы понятно, если бы сразу такое сказал. Пусть там, не в тот же день, когда погиб командир полка, а через несколько дней.
Меня тогда расспрашивали, что и как произошло. Это всегда так, особенно если командир какой-то погибнет. Даже прилетал какой-то подполковник то ли из дивизии, то ли из корпуса. Сначала донесение составили о гибели, причем этот же Голицин в этом и участвовал. А через день или два прилетел этот подполковник и еще раз меня расспрашивал обо всем, записывал за мной.
Пока все эти расспросы были, я ни разу даже намека не заметил, по вопросам, по тону, как вопросы задавались, чтобы кто-то вроде сомневался, что я правду рассказываю. Что сам убежал, а командира оставил с истребителями самого, его и сбили.
Ни от кого я не почувствовал, кто меня тогда спрашивал, и тот же Голицин присутствовал, что какие-то такие мысли у кого-то мелькают. Что я бросил в бою командира, сам стал спасаться. Я и место указал на карте, где самолет Немашкала воткнулся в землю. Штурману еще специально сказал, чтобы отметил на карте.
Какая бы там ни была горячка в бою, понимал, что все это будут выяснять и спрашивать. Уже сталкивался с такими выяснениями. Когда всех, кто там был, спрашивают, каждый свое место рисует. Эти данные еще и не совпадают зачастую.
Кто там чего видел, и как ему запомнилось.
***
Прошло столько времени, это у него, получается, внутри сидело такое. Что он, подвыпив, вдруг такое сказал. Хотя он и не был таким уж пьяным. Как и остальные, и я сам, не так уж много выпили тогда.
Причем, в присутствии всех, можно сказать, офицеров полка. Кто-то вышел тогда, но большинство были тут же. Если не сидели за столом, то рядом стояли.
Если бы у меня на тот момент в руках не это блюдо было, а пистолет, а бы, наверное, застрелил бы его.
Или, во всяком случае, выхватил бы его. На такие пьянки оружие мы с собой не брали. Хотя у нас такой пьянки общей и не было до этого. Чтоб весь полк участвовал. Но какие-то такие небольшие случались. Человек десять, может пятнадцать. То ли день рождения, то ли награды или звание обмыть.
И всегда кто-то из тех, кто постарше, сразу - оружие сдать, куда-то спрячет. Садимся за стол. Потому, что было известно, как такие гулянки могли закончиться, если пистолеты при себе. А так, даже если повздорили, потом уже на трезвую голову разберутся.
В тот раз тоже кто-то скомандовал, чтобы личное оружие с собой не брали, оставили там, где жили. Мы тогда по хатам каким-то жили.
***
Если бы был тогда пистолет с собой, не знаю, удалось ли мне сделать хоть один выстрел, или опять же руки заломили бы и вывели. Но помню, когда пришли к себе в хату эту, еще была мысль взять пистолет и пойти пристрелить его. Ребята соображали, пистолет мой тут же кто-то забрал. Самого меня не оставили – через час-другой уже как-то остыл. Протрезвел, хотя тоже не такой и выпивший был.
Оно, наверное, как и тот же Голицин, был не очень трезвый. Но и не пьяный.
Так оно и есть, что у пьяного на языке, то у трезвого на уме.
***
Тогда так и осталось мне непонятным, почему этот Голицин позволил себе так сказать. С чего он такое взял в голову – это одно. И почему только через такое время у него вырвалось это.
Мы с ним были не в каких-то приятельских отношениях, конечно. Но вроде бы нормальных. Он командир, я у него в эскадрильи. Сначала простым летчиком, потом командиром звена. Это ж мы не один-два месяца вместе пролетали, воевали рядом. Почти два года к тому времени в одном полку. Да больше года в одной эскадрильи. Казалось бы, кто может лучше его и знать.
***
Он старше был и по возрасту, и по званию. Начал войну уже старшим лейтенантом, кажется, и командиром звена. Но между нами вроде бы ничего не было такого, чтобы, как говорится, искры полетели. Нигде мы так не сталкивались, пока он был и командиром нашей же эскадрильи, и когда комполка стал.
И вдруг такое сказал. Что я из тех, кто бросают командира, чтобы себя спасти. Да еще с таким, то ли из-за гнусавости своей, тоном каким-то таким, как мне показалось.
Я понимаю, комиссар бы там такое сказал. Он почти не летал и мало что понимал в этом. Или техники какие-нибудь.
Но Голицин был опытным летчиком. Видел не меньше моего, что значит - самолет потерял управление. Находиться в таком состоянии неуправляемого полета, когда, фактически, начинается вхождение в штопор.
***
Мне что, надо было вслед за Немашкалом в землю врезаться? Тогда бы я не покинул командира до конца - так что ли?
***
А после разговора с Ритой, когда я узнал, что Немашкал перед своей гибелью на меня наградной лист отдал для отправки, понял, что Голицин тогда так и не отправил, по-видимому, это представление.
Не знаю, какие у него там были свои соображения сразу. Наверное, начали готовить документы на отправку и ему, как начавшему выполнять обязанности командира, эти документы, подготовленные еще Немашкалом, показали.
Он уже начинает за это все отвечать.
Похоже, что он спрятал под сукно это представление, а потом выкинул. Или сразу порвал, не знаю. Потому такое и сказал через несколько месяцев. Оно ему сидело в голове, хотел самому себе доказать, наверное, что он справедливо поступил.
***
Не знаю, насколько тут правильно догадываюсь. Уже ничего не выяснить, почему так было.
Немашкала не спросить, почему он так сделал с тем же представлением на звание Героя, что это было за задание такое. Почему он так как-то нервничал, как мне показалось, даже глаза как-то в сторону отводил. Что-то непонятное во всем этом было.
***
Какая-то загадка во всем этом так и осталась для меня. Что командир полка сам полетел с одним ведомым. Почему меня именно взял? Ладно, комэска не хотел брать – если что случиться, сразу два командира погибло. Заместителя комэска возьми – более опытный летчик, все равно так считалось. Из всех - меня почему-то выбрал.
Да при этом еще с этим наградным листом.
И эти немецкие истребители, которые, как специально, навстречу нам летели. Шесть истребителей, которые сами по себе летели – куда они так летели. Немцы в то время уже так почти перестали летать. Получается, они на нашу территорию куда-то летели, если думать, что они случайно нам встретились.
Мы почти сразу, как только перелетели линию фронта, вылезли из облачности. Но если они летели куда-то на нашу территорию, собирались тоже перелететь через линию фронта, почему не летели в этой же облачности?
Непонятным все это так и осталось, что произошло тогда, на задании с Немашкалом, и позже.
***
-----------------------------------------------------------------------------------------
18. Встреча с американцами
***
Когда к награждению представляли, только боевые вылеты учитывались. Как будто только во время таких полетов могли погибнуть. А во время других не погибали, что ли. Сколько самолетов разбилось и экипажей погибло при перелетах с одного аэродрома на другой. Когда полк перебазируется, перелетает на новое место.
Не только молодые, а опытные летчики разбивались. А как вылеты и не считались.
***
С той же Ритой , как она рассказывала. Когда на новый аэродром перелетали, то все, кто были из наземных служб, часто старались с кем-то на самолете перелететь на новое место.
Быстрее устроиться, лучшее место занять. Такое. Запрещалось это делать. В таких случаях всегда определялось небольшое количество техников, оружейников, кто вместе с полком перелетают. На первое время, чтобы не сорвать выполнение боевых заданий. А чаще – заранее отправляли как бы передовой отряд, подготовить там.
А потом полк перелетал. Остальные позже уже добирались.
Поэтому некоторые хитрили, кто старался договориться с кем-то из летчиков, чтобы если не в самолет взял, то хотя бы в бомболюк. А некоторые сами старались туда спрятаться. Залазили в бомболюк, оно там закрывается, так и перелетали.
Все летчики знали это, проверяли такие места – обычно выгоняли. Было, и перевозили так. Если кого-то берешь так в самолет, даже по приказу командира, экипаж уже парашюты не одевает. Всё уже - чтобы не произошло, так вместе уже и будем. А произойти могло все, что угодно.
Летишь так и уже как-то не так себя чувствуешь. На одну возможность спастись у тебя уже меньше, надо только садиться на вынужденную, если что.
Вот и с Ритой тоже. Она залезла так без спросу, как рассказывала. Время было к вечеру, думала, в темноте ее не заметят. Или летчик не станет проверять.
А летчик пришел и вытащил ее оттуда. Хороший вроде бы и летчик был, этот парень. Он не из нашей, из второй эскадрильи был. Рита его фамилию называла, уже не помню.
Она начала упрашивать его: «Санечка, миленький, возьми меня, пожалуйста».
Он ее отгоняет, а она проситься.
Пока он ее не взял за плечи и, глядя в глаза, не сказал: «Рита, тебе еще жить нужно», - повернул и в спину толкнул еще так. Не то, чтобы сильно, со злостью, а как бы наоборот.
Она еще обиделась на него за это.
А этот экипаж так и не прилетел – разбились. Погода была плохая, облачность низкая, да еще вечерело. В тот раз несколько экипажей при перелете на вынужденную сели.
А этот Саша разбился, все погибли.
Потом эта Рита долго вспоминала его взгляд, когда он ей сказал, что «тебе еще жить нужно». Он на нее не ругался, а как-то так на нее посмотрел, как вроде просил ее уйти, чтобы живой осталась.
***
Погибали не только при боевых вылетах. Самолеты разбивались. Тот же экипаж Амбросимова сразу после окончания войны разбился. На парад Победы несколько самолетов из нашего полка надо было перегнать в Москву. Полетели и где-то в Карпатах воткнулись в гору.
Войну прошли, живыми остались. А тут погибли.
После этого нас отправили перегнать самолеты в Москву для парада уже из какого-то запасного полка, который и не участвовал в боях. Меня как раз командиром этого отряда назначили. Ехали поездами через Германию, Польшу, через Львов – со своими приключениями. Из-за поляков чуть под трибунал не попали.
В параде мы не должны были участвовать, а наша задача была пригнать в Москву самолеты, на которых участники парада должны были лететь.
Это с разных полков тогда так собирали самолеты для участия на параде в Москве.
***
Или тоже, самолет сел на вынужденную, посылают его забрать. Чтобы на аэродром прилететь на нем. Несколько раз так отправляли. Какой-то экипаж сядет в поле, а забрать самолет и прилететь уже других посылают.
Один раз нас так с Костей, штурманом моим, отправили, чуть живыми остались.
Причем даже не нашего полка был самолет. Из соседнего полка сели, а забрать самолет нас отправили.
***
Поехали мы с Сафоновым и еще техника нам дали. Несколько бочек с горючим, чтобы заправить. Чтобы оттуда до аэродрома долететь, около часу лету. Как бы рядом.
Команда, как всегда, на месте разберешься и определишь, можно взлететь или нет. Не рискуй, но постарайся, мол, прилететь.
Добрались туда. Эти ребята из соседнего полка от села недалеко так сели. Они уже в темноте садились, может, и не совсем разобрались, что возле села упали.
В первый день, как туда приехали, под вечер где-то, сразу пошли к самолету. Техник начал смотреть, что и как с самолетом. Я тоже с ним смотрел.
***
А ребят настреляли где-то, весь в дырках самолет. И фюзеляж, и крылья – очередями прошивали со всех сторон. Досталось им, конечно.
Садились не на шасси, самолет от удара об землю тоже пострадал. Обшивка где-то оторвалась, заклепки в каких-то местах не выдержали.
Но посмотрели так с механиком - вроде бы самолет не очень поврежден. Бензопровод надо заделать, еще что-то. Но такое, что можно починить и сделать такой подлет небольшой.
Механик до темноты там возился, чтобы утром меньше было, а мы с Костей еще пошли смотреть, как можно взлететь. В темноте уже особенно не разглядишь, но все равно.
***
Ходили-рядили, как ни прикидывали, а получается единственная возможность – это взлетать по дороге, которая между хатами проходит.
Еще весна такая ранняя была. Снег только сошел, земля вся мокрая. Посмотрели – по полю никак не получиться. Увязнет, перевернемся. Там овраг еще, там косогор. Получается, только по этой улице между хатами можно разбег сделать. Она как раз прямая такая и как бы по ширине подходит, ничего не мешает. Вроде так прикинули, а решать уже на следующий день будем.
***
На следующее утро механик сразу к самолету, а мы с Костей начали уже прикидывать более точно. Одновременно какого-то дядьку местного привлекли, он как председатель колхоза. Без руки, вернулся недавно – это село под немцами было. В селе одни старухи почти.
Попросили этого председателя собрать кого можно – надо самолет на шасси поднимать. Потом протащить ближе к началу улицы. Каких-то двух коров нашли, чтоб подтащить. Это наш механик и этот дядька всеми командовали.
А мы с Сафоновым шагами по нескольку раз вымеряли длину разбега, ширину в разных местах. Как не мерили, а мешает дерево. Тополь как раз так в конце этой улицы рос. Высокий такой, не сможем взлететь, заденем.
Надо его спиливать.
***
Вот это с утра, чуть рассвело, как началось, мы уже и не обедали, хотя нас звали поесть. Старались успеть, чтобы засветло взлететь и к себе прилететь. Еще такая погода, что вот-вот дождик пойдет, тогда уже не взлетишь. Так, хотя бы это дорога уже подсохла, а так и ее развезет. Придется несколько дней куковать.
Хотя тоже, казалось бы, зачем спешить. Быстрее на боевое задание попасть – никто особенно не стремился. На следующий день взлетели б. Пошел бы дождь - через несколько дней полетели. Но все равно – спешили побыстрее вернуться. Задание выполнить.
Пока самолет подняли, пока там механик еще прикручивал, пока на этих коровенках самолет подтащили. Дерево пока спилил – уже дело к вечеру. Меня в шею никто тут не гнал, сам как-то настроился улететь именно в этот день. Сафонов, кажется, даже и говорил что-то, что, может, не нужно спешить, завтра полетим.
***
Вроде все приготовительные работы сделали. Моторы запустились. Приборы как бы все нормально показывают. Те, которые работают. Какие-то не работали, но они и не нужны были для такого полета. Вроде, самолет слушается штурвал, можно лететь.
Мы с Сафоновым залазим в самолет, механика не берем.
Он еще начал было проситься, но я ему сказал: «Куда ты лезешь уже. Не видишь, по какой улочке да между хат мы будем пробовать взлететь. Если погибнем, то хоть не все уже. Доберешься сам в полк».
Он и отстал, понял, что лучше на попутках добираться, чем так рисковать.
***
Немножко подрулил еще самолет. Начал разбег, набирать скорость.
Когда шагами мерили, казалось достаточная ширина улицы. Какие там, в селах, дороги между хатами. Два воза чтобы разъехались, да еще немного с двух сторон.
Когда самолет начал набирать скорость, дорога-то не очень ровная, ямы какие-то. Да еще сверху как бы подсохло, но глубже глина мокрая. А самолет тяжелый.
Начинает самолет юзом водить из стороны в сторону. Секторами газа выравниваешь самолет и добавляешь газа, а у самого все стынет.
В такие моменты всего колотит, а надо плавно управлять и рычагами газа и штурвалом. Сильно дергать нельзя.
Правой рукой штурвал держишь, а левой рычаги газа передвигаешь. Два эти рычага слева находились. Их надо одновременно передвигать. И то один, то другой чуть больше – чтобы выравнивать самолет. Пальцами так по чуть-чуть.
Когда тебя начинает тащить самолет, там, в дерево какое-то или сарай, хочется до упора дать газу, чтоб взлетел самолет, а именно этого и нельзя делать. К тому времени уже много раз в таких условиях взлетал, когда самолет вот так не отрывается от земли, начинает из стороны в сторону водить. Но это на аэродромах полевых все равно было. Там тоже какие-то деревья или овраги часто бывали. Но все равно, это же в поле. А тут между хат этих. Заборы какие-то, деревья возле хат. Чтобы зацепиться и перевернуться – много не надо.
При таких взлетах сразу, то левое крыло, то правое крыло уходит вперед, вот-вот ударишься, зацепишься то ли за дерево, то ли еще за что-то. А тут с двух сторон, в какую-то из хат врежешься.
Спасло, что уже был опыт таких взлетов. Не один раз уже приходилось взлетать, когда никто не летал. Когда самолет вот так крутит, но, правильно регулируя обороты на моторы, уже умел выравнивать самолет и взлетать. Даже с бомбами. Но то на аэродроме, все равно какая-то взлетная полоса там есть. А тут же между хат разбег надо сделать.
***
Страшно еще больше добавлять газ, а если не добавить – не взлетишь. Обмирает все внутри, а толкаешь все больше рычаги газа, обороты добавляешь.
Конец улицы уже набегает, а там пень этот от тополя торчит. А за ним еще какая-то хата или сарай. Хочется до упора сразу рычаги отжать, уже расстояние предельное, а нельзя. Надо понемногу добавлять, чуть сильнее передашь – уйдет самолет в сторону, гореть будешь в заборе том или в деревьях возле хат.
***
В такие моменты, когда чувствуешь, что нельзя, а сам делаешь и понимаешь, что вот еще немного и уже не остановишься. Или ударишься, зацепишься – или взлетишь.
Чудом каким-то самолет удержал на прямой и скорость успели набрать. Оторвался самолет, сумели над хатой, которая за этим спиленным тополем стояла, пролететь. Тоже тогда в миллиметрах от смерти пронеслись.
Хорошо, что эта хата боком так стояла, не торцом крыши, а в длину. Показалось, что даже шасси слегка коснулись крыши хаты. Качнуло так вверх. Видно, за счет того, что шасси крутнулись, так и удалось перескочить. Если б не крутились – там бы были. Или немного выше шасси касание было бы, что не прокрутилось, зацепились и все.
Как всегда при таких взлетах – сразу мокрый весь: и спина, и задница. Чувствуешь, как струйки пота текут, и минут пять-десять приходишь в себя. Всего колотит, сердце в горле, кажется, бьется.
***
Самолет набирает высоту, еще как бы в себя не пришел, но глаза уже по приборам пробегают. Смотрю – давление воды падает. Когда на земле смотрели, запускали моторы – на холостом ходе вроде все нормально. А когда полетели, давление поднялось, а где-то водопровод от удара согнулся, какая-то, видно, трещина образовалась – и уже в воздухе вода из системы охлаждения начала вытекать. Надо срочно садиться куда-то.
Лететь можно не больше десяти-пятнадцати минут. Штурмана спрашиваю, куда ближе всего можно сесть. Он говорит, как раз должны успеть на аэродром, где стояли недели две тому назад. Дал мне направление, на этот курс легли. Сафонов еще так говорит: «Вот, хорошо, сейчас прилетим, пойдем к своей хозяйке, поужинаем хорошо».
Мы на этом аэродроме долго стояли. В одной хате у тетки вместе с Костей жили, она к нам хорошо так относилась, вроде как к своим детям.
***
Аэродром знакомый, поэтому только из-за леса выскочили сразу на посадку. Не как обычно, а с другой стороны сели. Уже когда покатились по полосе, смотрим, а какие-то самолеты не наши стоят. Несколько штук, но большие такие.
Что-то вспомнил, что говорили нам, что американцы, самолеты дальней авиации, должны начать бомбить Германию. С аэродромов во Франции или откуда там будут взлетать, а после бомбежки у нас садиться где-то будут. Опять заправляться, бомбы брать и отсюда опять лететь бомбить Германию, чтобы потом там сесть. Челночные такие полеты.
Когда уже сели, эти самолеты увидели, вспомнил, что нам говорили, чтобы мы не садились на этот аэродром. Не объясняли почему, но приказ – садиться на такие-то аэродромы запрещено. Несколько аэродромов называлось, наверное, американцы выбирали какие из них подойдут. Запасной еще.
Похоже, они как раз тогда делали первые пробные полеты. Проверяли аэродромы, хватит ли длины полосы. Качество взлетных полос.
***
Зарулили на стоянке на свое привычное место, хотя можно было куда угодно – пустая стоянка была. Не успели мы со штурманом вылезть из самолета, едет легковая машина. Джип, тоже американский. Выскакивают из него два полковника. Один в летной форме, а второй – «красноголовый».
Этот общевойсковой полковник с матом на нас, какого вы тут сели, не знаете, что запрещено сюда приземляться. Это аэродром только для американских самолетов. Нарушаете приказ самого главкома, секретный объект гитлеровцам хотите раскрыть.
***
Такое говорит, что и не поймешь, что ему сказать.
Откричался, я докладываю им. Смотрю больше на этого в летной форме, что выполняем такое задание, переправляем самолет с вынужденной посадки на свой аэродром, в воздухе была обнаружена неисправность, требуется ремонт водопровода.
Опять этот начал кричать, снова ругается. А в летной форме полковник как-то молчит. Выяснили, что у нас вода вытекает, лететь не можем. За пятнадцать-двадцать минут полета воды почти не осталось. Надо отремонтировать, заправить водой, а потом сможем улететь.
Опять: вашу мать, перемать, какой ремонт, улетайте.
Смотрю на них – два полковника, конечно, но куда лететь. Взлететь и через пять минут в землю воткнуться.
***
Что-то они отошли от нас, поговорили между собой. Потом этот летчик или кто он там был: сколько вам воды надо. Сказали.
- Хорошо, стойте возле самолета. Сейчас приедет заправщик, воды зальете и улетайте. Никакого ремонта.
***
Что-то еще добавил, что если не послушаемся, то, чуть ли не под трибунал пойдем.
Сели в свою машину и уехали. Мы с Костей стоим, друг на друга смотрим. Сафонов еще так выразился: «Ну вот, прилетели. И поужинали, и переночевали».
Не знаю как у Сафонова, а у меня даже какая-то обида внутренняя была. За что так накричали, обругали? Тут, чуть живые остались, когда взлетали, успели сесть, чтобы самолет сохранить. На тебе, прямо в шею выталкивают – лететь на неисправленном самолете, уже темнеет.
Что мы голодные, воды некогда было попить, торопились успеть, чтобы засветло прилететь – это никого не интересует.
***
Что делать, не сообразишь. Своему командиру попробовать доложить, не дадут позвонить. Улетать – может, и сумеем долететь. Осталось лететь минут тридцать до своего аэродрома. Но можем и не успеть, двигатель заклинит в воздухе. На вынужденную опять куда-то надо будет садиться. То же еще своя история будет…
Стоим, ждем, когда приедет заправщик.
***
Смотрим, как раз по направлению к нам идет какая-то группа людей. Они ближе подошли, видим - идут человек восемь и какие-то не наши. Догадываемся, что американцы, экипаж идет к своему самолету. Может, не только экипаж.
Все в одинаковых светло-коричневых кожаных комбинезонах. Красивые такие комбинезоны, карманов много, на молниях. Один в фуражке, остальные кто в пилотке, кто в шлемофоне. Подошли к нам, остановились.
Мы с Сафоновым стоим возле самолета, они так рядом. Смотрим друг на друга, они больше самолет наш разглядывают, на нас поглядывают только.
Почти все американцы уже не молодые, уже за тридцать лет всем, а нескольким и больше. У одного уже и седина, может, командир. Все высокие, на голову выше нас с Костей.
***
Они на нас поглядывают, а мы на них. Союзники. Встретились. Я понимаю, что они на нас как на детей смотрят.
Мы стоим в наших этих черных комбинезонах, матерчатых. У меня где-то метр шестьдесят пять, после ранения, когда спину сломало, я сантиметров пять роста потерял. А Костя еще и пониже меня ростом был. Возраст у нас – по 23 года.
В основном на самолет смотрят. По глазам видно, что им не приходилось еще видеть такие пробоины у самолета. Еще и сами не знают, что значит - побывать под таким огнем. Каких-то улыбок, что шуточки между собой говорят – не видел.
Эти же американцы не знали, что это не нас так обстреляли немцы. Просто видят, что самолет в дырках весь. А мы рядом стоим. Значит, это мы остались живые после такого.
Хотя после нескольких заданий и мой самолет такой же прилетал.
***
Кто-то из них даже обошел с другой стороны. Между собой что-то тихонько перекидывались словами, но больше молчат. Молча рассматривают наш самолет, иногда на нас поглядывают.
Мы тоже молчим. Мне еще как-то так за комбинезон Сафонова не удобно. Старый уже был, скоро должны были новые выдавать, поэтому у него со всех сторон какими-то лохмотьями висело, дырки.
Я еще как-то старался, если сильно разорву, зашить свой, а Костя никогда иголки в руки не возьмет. Оторвется, клок висит, так и ходит.
Да еще пока лазили по этой глине – замазались, и сапоги, и сами перепачкались. И на коленях ползали под самолетом. Помыть даже руки времени не было, спешили. Вид у нас с Костей по сравнению с этими американцами, конечно, еще тот был.
***
Американцы эти стояли, никуда не спешили вроде. Пока они на нас так смотрели, самолет наш рассматривали, ни разу никто из них не улыбнулся. Наоборот, как мне показалось, они как бы не верили, что можно было остаться живыми с такими пробоинами. Наверное, они еще такого и не видели никогда. Понимают, что самолет только что из боя. Снизу еще там висело, оторвано было так, что внутренности видно. Без шасси посадку совершали. Когда на вынужденную посадку садились, на «брюхо», всегда что-то отрывалось, отлетало.
***
Тут едет заправщик. Выскакивают несколько человек, начинают нам воду заливать. Горючее тоже залили. Под завязку залили и воды, и горючего. Все готово, ничего не жалко – только улетайте.
Американцы эти чуть в сторону отошли по направлению к своему самолету, когда начали заправлять. Но недалеко так остановились и продолжали стоять, видно, хотели посмотреть, как взлетим. Может, не верили, что на таком самолете можно взлететь.
***
Залезли с Костей в самолет. Моторы запустил, прогревать уже не надо. Не так давно только сели. Спасибо этим полковникам, остыть еще не успели.
Такое настроение из-за этих полковников, которые наругали ни за что, что вот так заставляют лететь. А тут еще американцы такие разодетые, ухоженные. Из-за них - ты хоть разбейся, никому нет дела.
Сам себе думаю: ну, ладно, сейчас я вам покажу, как мы летаем. Аэродром был знакомый, мы там долго сидели, хорошо изучили. Как стоял самолет, не стал выруливать на взлетную полосу, чуть повернул, и прямо поперек взлетной полосы и взлетел.
***
Как раз это было в нужную сторону, чтобы в воздухе уже не доворачивать, время не терять.
Долетели с Костей, успели на свой аэродром, еще даже и не совсем в темноте садились. На пределе видимости. Задание выполнили и с американцами тогда так повстречались.
***
С этими американцами, их полетами, тоже было дело. Позже, когда они уже стали летать своими группами. День какой-то был такой теплый, солнечный. Нас человек двенадцать, наверное, в траве лежали на солнышке. Команды на взлет ждали. На аэродроме, но не совсем так рядом с самолетами. Как бы все спокойно, а тут слышим гул самолетов.
Что значит паника.
Казалось бы – все летаем. Самолеты знаем, отличаем свои - немецкие. Американские как бы не очень знали. Но все равно. Кто-то глянул вверх и крикнул: «Немцы».
А эти самолеты летят, ромбом у них такое построение, как и у немецких бомбардировщиков было. Большая такая группа летела и уже близко над нами.
Один крикнул, кто-то один сорвался бежать, и все побежали, кто куда. Самим бомбить опыт уже был, а от бомб прятаться – опыта не было. Кто в кусты какие-то запрятался, кто стал чуть ли не землю рыть руками…
Когда кто-то присмотрелся, крикнул: «Это американцы. Отбой воздушной тревоги», - собрались вместе и стали друг над другом смеяться. Потом еще долго вспоминали и подшучивали, кто куда бежал, кто кого обогнал, какой травой или ветками пытался замаскироваться от бомб.
Опыта, как у той же пехоты не было, куда надо прятаться при бомбежки. Когда сам бомбы бросаешь, еще не означает, что умеешь от них прятаться.
***
Среди этих американцев, может, кто-то из родственников тогда летал. Это уже после войны узнал, что - мне они троюродные или какие там - два брата были американскими военными летчиками.
Отец мой, дед Иван, рассказал, что когда его отец, мой дед Павло, ездил на заработки в Америку, то во вторую поездку с ним поехал его брат двоюродный. То ли по матери, то ли по отцу, не знаю. Дед Иван что-то объяснял, но так и не понял. Вроде не по отцу – у него другая фамилия была.
А дед Иван, оказывается, поддерживал связь, даже переписывался с кем-то. Когда уже хрущевские времена наступили, даже какие-то хустки получал посылкой.
Дед Павло со своим этим братом как раз оказались в Чикаго на заработках в шахтах. В то время, когда там известные волнения рабочих были.. То, что потом стало отмечаться как первомайский праздник.
И принимали участие тогда в тех волнениях рабочих в Чикаго. Вроде бы, сам дед Павло не очень там был активным участником, а его этот родственник, брат двоюродный, чуть ли не как один из организаторов был.
Когда полиция начала искать его, чтобы арестовывать, то этот брат убежал в Бразилию. Сначала его хотели арестовать. Когда он убежал, то деда Павла тоже хотели арестовать, как родственника. Кто-то его предупредил, и ему пришлось тоже убегать, но он вернулся домой, в Украину.
А тот брат через какое-то время вернулся опять в Америку. Туда же в Чикаго. Женился на какой-то местной девушке, так и остался там с семьей. Там у него родилось два сына, которые оба стали американскими военными летчиками.
В годы войны они уже не молодыми должны были быть. Не знаю, по сколько там лет, но вроде, должны были еще и летать. То, как мне отец рассказывал, прикидывали возраст, получалось, что старшему где-то около сорока лет было к концу войны, может за сорок.
По возрасту, они во время войны должны были еще служить в армии. Их отец помоложе был, чем дед Павло. А женился, когда сам уже был в возрасте, не молодым. То есть его дети получались младше, чем мой отец – Иван Павлович,- но постарше, чем я, лет на десять-пятнадцать. Они были мне как троюродные дядьки, или какие там.
То есть они, как военные летчики, вполне могли принимать участие в боевых операциях американской авиации.
Интересно, конечно, по-своему. И они, и я стали летчиками. Какая-то одна линия получилась. Родственники все-таки.
Может, тогда один из тех американцев и был моим родственником, кто знает.
***
19. Разные мелочи бывают
19.1 Мышь-пикировщица
Как-то в нашем самолете завелась мышь. И долго она с нами летала. Месяца два-три. Хлопцы ее даже прикармливать начали. Особенно стрелок-радист. Команда: «по самолетам», залазим, включаем связь, приборы, моторы прогревать – он сразу докладывает: «командир, мышь на месте».
А бывало, запрашиваешь экипаж о готовности, а стрелок молчит. Взлетать уже надо. Потом отзывается, что он еще не успел подключиться, мышь эту искал, какие-то крошки подбрасывал. Поэтому и не отзывался на вопрос, готов экипаж или нет.
Поверье это, оно, правда, о крысах, но все равно: что если крысы покидают корабль, то он погибнет.
Ну и здесь, если мышка в самолете с нами, значит, не собьют.
И так и летали. А как-то иду к самолету на задание лететь, а штурман с радистом стоят уже возле самолета. И такие какие-то непонятные. Хмурые, головы вниз повисли.
Я подошел к ним, спрашиваю: «чего вы такие, случилось что-то»
Сначала отмалчивались. Времени нет расспрашивать – лететь надо. Штурман, Сафонов Костя, говорит: «Командир, мышь пропала».
- Куда пропала?
- Нет ее в самолете, я уже все места обыскал, - стрелок-радист говорит.
Посмотрел на них двоих – стоят, как вроде их водой облили.
- Да, ладно тут разводить поверья старух всяких, ерунда это все – говорю им, - полетели.
Нормально вроде бы слетали. А еще несколько недель все как-то и у самого на душе муторно было. Что мышь не так просто пропала. Такие вещи, они как бы улучшают настроение, а потом – другое получается. На подобное лучше не очень обращать внимание.
19.2 Чиряки.
Не знаю, из-за чего это было. Может заражение какое-то. Хотя доктор потом говорил, что это и на нервной почве могло быть. Это уже 44-й год был, в летние месяцы.
В начале лета, жарко уже стало, чиряки такие появились. Или фурункулы их еще называют. Сначала на спине несколько. Один пройдет, а другой появится. Большие такие какие-то, с белыми головками такими, насколько я там мог рассмотреть. Не знаю, откуда оно взялось. Какое-то время так на спине только были, а потом все больше. Со спины ниже пошли. Оно может с месяц так тянулось или побольше. А потом уже и на заднице, и на ногах все больше стало этих чиряков, да так, что и летать стало невозможно.
Я еще какое-то время так и продолжал летать. Больно, сесть нормально не мог, а пойти к врачу как-то неудобно. Тоже мучался. Одно дело там за стол сесть, а другое в самолете. Даже придумал из двух парашютных чехлов такие валики сделать. Под ноги с двух сторон себе так подсовывал, и получалось, что не сидишь в кресле, а как бы на весу. Так и летал какое-то время.
Тоже было, надо взлетать, а я в кабине как та курица на насесте взмащиваюсь. Штурман видел, что я чего-то там каждый раз перед вылетом вожусь, а больше никто и не знал. А оно уже и теми ремнями нельзя, как надо, к креслу пристегнуться. На какие-то задание летал, даже вообще не пристегивался. А это тоже могло закончиться плохо.
Недели две или сколько там тянулось так, пока в одном из боев не прихватили истребители так, что надо было по-настоящему крутиться. Уже не до этих чиряков стало. Эти «валики» из-под себя выкинул, чтобы в кресло сесть как надо…
***
Когда я крутился во все стороны, оно там, видно, все раздавилось. Во время боя ничего не чувствовал и не болело ничего. А уже когда к своему аэродрому начали подлетать, начал в себя приходить – чувствую мокро у меня все. Такое впечатление, что вроде как обделался. Сначала еще так подумалось: неужели и у меня «желтая кровь» потекла. Как между собой на фронте шутили. Такое случалось на фронте, особенно если молодые, в первые вылеты.
Вроде ничего такого уж необычного в бою этом не случилось, тут уже столько отлетал. Ни разу такого не было, а вроде как «желтая кровь» потекла.
Потом как бы начало доходить, что это, наверное, раздавил эти чиряки и на ягодицах, и на ногах, и на спине. Почувствовал, что жжет еще и болит там. Прилетели, зарулил на стоянку и я сразу пошел в санчасть. То все было как-то не удобно, а тут уже чувствую, деваться некуда. Зашел в санчасть, к доктору. Там еще были две медсестры, я их выпроводил. А этот врач – мужчина у нас был, капитан кажется.
Рассказал этому лекарю. Он мне – раздевайся. Я снял и гимнастерку с нательником, и штаны с кальсонами. Оно все в крови и с этим гноем. Этот доктор начал меня тогда ругать. Потом уже позже говорил, что мне еще повезло, что так все закончилось. Могло заражение крови начаться.
Запретили мне летать по предписанию этого доктора. Он командиру полка сразу сообщил и тот меня отстранил от выполнения заданий. Из боевого расчета вывели. Лечение назначил – уколы. А лечение такое, ни в какой госпиталь не отправили, тут же на месте. Нахожусь со всеми в полку, но не летаю.
И так недели две, наверное, я не летал. Как-то неудобно перед ребятами, что не летаю. Не раненый, вроде бы. Я, было, начал, чтобы продолжать на задание летать, мне тогда доктор и объяснил, что хорошо еще, что живой остался. Если заражение крови началось бы, то и переливание крови бы не помогло. Тем более на фронте возможности делать такие переливания крови и не было. Что эти уколы одни и помогли - тоже своя удача.
Пока это лечение было, каждый день на уколы надо было приходить, перевязку делать. Я старался, чтоб не очень другим на глаза попадаться. Что не говори, а все равно как-то неудобно перед другими. Ребята на задание летают, а я тут же хожу, в столовую ту же. Поэтому утром на уколы пойду, потом в столовую так, чтобы уже никого не было. И куда-то уходил на целый день.
Уколы сам доктор делал, а перевязку медсестра должна. Я договорился, что сам буду делать. А то каждый раз штаны перед этой «матчастью» скидывать. Девчонки молодые, хихикают. Куда-то пойду и сам себя бинтую. Тоже занятие такое.
От этих уколов, оно к концу второй где-то недели, старые сошли, зажило. Еще какое-то время покололи – и опять разрешили летать. Если бы куда-то в госпиталь отправили, то хорошо было бы. Лето, погода хорошая. Когда уже на поправку дело пошло, уже и позагорать, и покупаться можно было. А так на глазах у всех. Хотя я тоже куда-нибудь на целый день уходил. Иногда даже и на обед не приходил, после завтрака уколы получил и уже целый день свободный. Поужинаю, когда уже почти все поели, и сразу иду спать.
***
Был такой курорт у меня во время войны. Отпуск не отпуск, но все равно отдых получился. Даже и покупался немного, был там такой ставок недалеко от аэродрома. Один раз там и погибнуть мог.
Тоже такое, не знаешь, где можешь смерть найти. На войне постоянно нужно было быть внимательным, что вокруг происходит. Даже не во время боя, то само собой. Вроде бы совершенно спокойная обстановка, а все может повернуться по-другому. Много таких случаев было, что стал понимать, что погибнуть можно и у себя на аэродроме, вроде в тылу. Если не обращаешь внимания, не замечаешь, что вокруг тебя происходит. Всегда надо было быть начеку.
Хотя это не только на войне так нужно.
***
Это уже почти заканчивалось это лечение. Пошел на это озеро, думал, может, искупаюсь. Жарко было, день солнечный. Озеро было такое не очень и маленькое, но и не большое – ставок такой. Я уже там купался несколько раз до этого. А тут на противоположном берегу двое из нашего полка чего-то там возились. Из наземной службы, один механик, а второй связист какой-то.
Мне как-то не захотелось при них купаться. Так ополоснул лицо, по пояс водой облился. А те двое присели и там что-то делали. Издалека не видно, что они там мудрили. И уже начал уходить оттуда. Наверное, метров на тридцать или побольше отошел уже от берега, когда за спиной у меня как ахнуло.
Взрыв такой сильный, от неожиданности, конечно, присел, но и оглянулся. Это ж пугаешься. Я когда оглянулся, то еще заметил – озера нет, на месте озера дно вижу, а темное какое-то такое вверху. А потом это сверху все: вся вода и мул – так и накрыла. Сразу не можешь сообразить, что случилось, потом только начинает доходить.
Стою и не могу понять, что произошло. Потом смотрю, те двое откуда-то из-за бугра вылезли. Тоже мокрые, как и я. Смеются как бы, кричат. Понял, что они рыбу пришли глушить. Гранаты они там взяли или что. Почему оно так взорвалось, не знаю. Наверное, какие-то снаряды или боеприпасы туда в озеро бросили. То ли когда еще наши отступали в 41-м, то ли когда немцы уже отступали. Потому что от гранат оно так поднять озеро до дна не могло, конечно.
Не знаю, эти двое меня видели или нет. Или как только связку эту сделали, сколько там этих гранат, так и бросили сразу. Если бы у самого берега еще стоял, наверное, меня бы этим потоком смыло и затянуло туда бы на дно этого озера. А так окатило всего, и по склону берега вода эта с грязью скатилась. Но тоже так, поток такой был, почти по колено воды этой было, где я стоял. Хотя это не вода, а мул уже такой был.
Посмотрел на этих двух дураков, плюнул и ушел, не стал ни говорить ничего, ни ругаться. Сходил на озеро, помылся, называется.
Никому не стал рассказывать, что случилось. Хотя могло все и хуже закончиться.
***
Какие-то случаи такие, что нельзя предугадать, где эта опасность. Как в той же Умани, когда бомба взорвалась прямо на стоянки возле самолетов. Девчушка эта, оружейница, и сама погибла и еще около двадцати человек вместе с собой погубила.
Или уже почти перед самым концом войны было. Грузин он какой-то был, не знаю. Солдат, рядовой. Появился у нас незадолго до этого. Откуда-то перевели его или не знаю. Вроде и не такой уже молодой.
Тоже так, после обеда как-то. Возле столовой. Там какой-то такой погреб был, он сверху этого погреба, как бы в стороне, чего-то ковырял. Не гранату, какой-то взрыватель, как я себе потом понял. Из офицеров я только оказался рядом. А там еще какие-то солдаты. Бочки какие-то или что-то перегружали.
Тоже у меня за спиной взорвалось. Кто упал, кто присел. Сразу не поймешь. Оглянулся – вроде все живы, что взорвалось – не понятно. А этот грузин или кто он там был, тоже стоит так в стороне. Руки за спиной, но смотрю, лицо белое такое стало, как мелом измазано.
Я к нему: что случилось? Он молчит, смотрит только на меня. Я уже как бы собирался повернуться от него, потом смотрю, а у него сзади между ног что-то капает так. Присмотрелся – кровь.
- Покажи руки,- ему говорю. Он стоит, молчит и не показывает. Еще несколько раз приказал, он руки из-за спины показывает – пальцы оторваны, кровь течет.
Стоял крутил не знаю что там, в руках у него взорвалось. Калекой остался. На двух руках пальцев нет, или как там – не знаю. Особенно некогда было рассматривать. Но, похоже, у одной руки совсем кисть оторвала, а на второй там что-то от пальцев болталось. Точно также и лимонку какую-нибудь мог крутить. И такой случай был. В соседнем полку. Взорвалась лимонка и те только сам, но и еще кого-то убило.
Из-за таких случаев у меня уже был и опыт, и свое внимание к тому, что происходит. Одно дело в воздухе, когда на задании, в бою. Но и на земле, вроде среди своих – а смерть могла найти и находила. На фронте постоянно надо было уметь контролировать и замечать, что вокруг происходило. Если замечал, то уходил от таких куда-то в сторону, подальше. Если солдаты что-то такое начинали делать, то можно было еще прикрикнуть, остановить. А когда свои же, что им сделаешь, не прикажешь. Поэтому всегда нужно было уметь и заметить вовремя, и уйти в сторону. Хотя не только на войне нужно быть таким внимательным и уметь предусматривать опасность.
И все равно какие-то такие моменты происходили. По глупости, по неосмотрительности можно было погибнуть. И погибали.
19.3 Осколок со спичечную головку
Иногда вроде бы и ерунда какая-нибудь случалась, а если это в бою сразу уже все не так. Если какое-то ранение, даже легкое, это сильно сразу на все влияло. Особенно если что-то не понятное происходило, сразу как-то теряешься. И на внимательность влияло, и на то, как начинаешь действовать.
Как-то было, что мне в нос попал маленький осколок. Тоже случай уникальный по-своему. Зенитки стреляли, и как оно так получилось – трудно представить даже. Если представить, что это ж в самолете летящем находился, осколки эти разлетаются. Что так оно совпало, что этот кусочек стали, величиной не больше спичечной головки, попал мне прямо в левую ноздрю. И не пробил, а застрял там.
Сразу я этого не понял, конечно. Потом уже когда прилетели. А сначала, зенитки стреляют, огонь плотный ведут. Мы уже на боевой курс вышли и тут чувствую, что-то из носа течет. В такие моменты некогда на такое внимание обращать. Никакой боли, что что-то попало, я как бы и не почувствовал. Сначала даже и не подумалось, что это кровь потекла из носа. Потом в какой-то момент присмотрелся – кровь капает, из носа чувствую. На большой высоте такое бывало, когда без кислородных масок на самую предельную высоту залазили. Но у меня и на высоте не так часто такое было, как это у других происходило. А тут и высота не такая вроде бы – а кровь из носа потекла.
Не понимаешь, почему это, из-за чего это происходит - сразу как-то уже не так себя начинаешь чувствовать.
Когда уже отбомбились, назад летим, а кровь продолжает литься. Не то, чтобы сильно, но течет, как если бы по сопатке кто-то ударил. Когда там, в детстве, дрались, кровь из носа потечет, но потом останавливается. А тут и не останавливается. Я уже и крагу с руки снял, чтобы зажать нос, кровь остановить. Не останавливается, а почему не могу понять. Если бы сразу понял, то не так бы все это воспринимал.
Непонятное оно как-то больше пугает и сразу все меняет. Хотя вроде бы и мелочь, что с тобой происходит – а если непонятно, теряешься. Ждешь еще чего-то худшего.
Сели на аэродром. Даже та же посадка - уже по-другому все воспринималось. Это случилось, когда уже большой опыт был. А если бы во времена, когда только начинал воевать, подобное порождает панику, неуверенность.
Поскольку кровь течет и течет, то пошел в медсанчасть сразу. Доктор взял там фикстулу какую-то свою, в нос залез, посмотрел. Потом пинцетом достал этот осколок и говорит: «На - смотри, каким тебя осколком ранило».
Вместе с ним смотрим, это и осколком назвать вроде бы нельзя. Как бы и смешно вроде бы. А вот такое ранение. Хотя с другой стороны, пусть даже такой кусочек стали, если бы на большей скорости летел, и буквально на какие-то сантиметры по-другому попало бы – пробило бы голову. В тот же глаз или снизу под подбородок куда-то.
Надо же было так в воздухе совпасть с этим кусочком железа. При том, что у самолета тоже скорость не маленькая, где-то около 400 км/час. В тот раз с горизонтального положения бомбили.
Если представить, что в воздухе что-то просто висело бы, такое как камень, а ты на него мог бы напороться, тоже бы убило. Этот осколочек, видно, броню пробил все-таки, и на самом излете попал. И именно в ноздрю и попал. Тоже уникальный по-своему случай.
Но тогда я хорошо запомнил, как сразу какая-то растерянность появляется, когда ты не понимаешь, что с тобой произошло. А когда понятно – вроде ерунда. Доктор вытащил эту пиндюльку, пока ее рассматривали, кровь уже почти и перестала течь. Пока в столовую дошел – уже все. А до этого никак не останавливалась. А вроде ерундовина, когда уже понимаешь, что это и почему. Но когда летел, а кровь из носа хлыстала, то мысли совсем другие, паника сразу начинается какая-то.
Вроде мелочи какие-то, а во время войны, особенно во время боя они иногда могли сильно повлиять, не можешь нормально действовать или, вообще, как бы перестаешь соображать.
_________________________________
20 Штрафники
(июль-август 1943 г., Воронежский фронт )
Над передовой, когда пролетали, всегда старались высоту набрать. Если приходилось так, что на малой высоте линию фронта надо было проскочить, всегда это было ожидание смерти.
Был у нас штурман Каримов, из Казани, татарин. Одно время я с ним летал, когда он уже вернулся из штрафбата. Не очень долго, но вылетов двадцать, наверное, вместе сделали. Так он всегда, когда над линией фронта пролетали, со своего места встанет, сзади так голову просунет и туда вниз на землю смотрит. Каждый раз так, туда смотрит, прямо глаз не может оторвать, кажется, и все приговаривает: «Ой-йо-йой, если бы ты знал, что там творится. Если б ты только знал, какой там ад. Посмотри, как там стреляет…».
Я ему как-то, было, сказал, мол, что ты туда вниз смотришь, тут сейчас нам самим так настреляют, что только держись. А он мне: «Нет, то, что тут стреляют – это даже сравнить нельзя с тем, что там, на земле, твориться, когда бой идет. То, как там страшно, у нас тут совсем не так».
Когда в штрафбате был, узнал что такое пехота. После ранения вернулся опять в полк. Восстановили в звании и опять штурманом летать. Даже думали его штурманом эскадрильи сделать, но он не захотел ни в какую. Только рядовым штурманом, в крайнем случае - штурманом звена соглашался летать. А до этого уже летал штурманом эскадрильи. Штурманом был сильным, грамотный, память хорошая. Но так и не согласился. После того случая, когда попал под трибунал вместе со своим командиром - Зотовым. Зотов как лидер завел группу из десяти «яков» на немецкий аэродром. Попутали Таганрог с Ростовом. В Таганроге немцы еще были, а в Ростове уже наши.
***
Рассказывали, что наших летчиков, которые сели к немцам, потом сами же немцы похоронили с воинскими почестями там же в Таганроге. Три «яка» сели сразу, увидели, что к немцам попали, первый из приземлившихся летчиков выскочил из кабины самолета, начал остальным сигналить, чтоб не садились. Другое звено уже на посадку заходило, начали уходить, а немцы из зениток открыли огонь. Тоже их сбили. До этого не стреляли, поняли, что заблудили, немецкий аэродром за свой приняли. А тут открыли огонь и сбили тут же еще три «яка». А оставшиеся уже спаслись, на аэродром в Ростов прилетели. Тогда почему-то в полку неразбериха получилась. Еще один экипаж из нашего полка тоже, как лидер, заблудились, не туда привели. Но у них самолеты только побили, никто из истребителей не погиб.
Тогда шум большой был, не только в нашем полку. По всему корпусу. Наш корпус обеспечивал передислокацию какого-то истребительного чуть ли тоже не корпуса. Выделили целую группу самолетов с разных полков нашего корпуса, которые как лидеры должны были обеспечить перелеты групп истребителей.
Но именно то, что с Зотовым и Каримовым случилось, чуть ли не как предательство им ставили в вину. У других, которые тоже как лидеры вели истребителей, таких потерь не было, только самолеты побили. А у Зотова с Каримовым шесть человек погибли, да еще два самолета у немцев оказалось. Среди них комэск и два - командиры звеньев, кажется.
Они сели первой тройкой, в плен не сдались. По слухам, по разговорам, как будто, один застрелился сам, этот комэск, который и сигналил остальным, другого немцы убили. Они, вроде начали стрелять по немцам из пистолетов. Первые двое приземлившихся успели выключить моторы, а один еще не успел, который последним из этих трех садился. Когда начали сигналить, что немцы, видно, пытался взлететь, мотор не заглушил. Его на взлетной и подожгли, так и сгорел с самолетом.
А тоже, когда совершали этот перелет, боекомплекта у этих «яков» не было. Вроде, не нужно потому, что не на задание летели, а со своего аэродрома на свой же. Будто это в глубоком тылу перелет. Так может хоть те, которые в воздухе остались, как-то смогли бы помочь.
Неприятность тогда большая такая была. На весь корпус. А в нашем полку, буквально вслед за этим, чуть ли не в этот же день, еще одно ЧП случилось. Группа из нашего же полка уже вместо Таганрога в Ростов пришли и по своим окопам бомбы сбросили. А группу командир полка вел.
Почти одновременно это все произошло. Тогда в полку большое разбирательство было. Наказали и виноватых, и невинных. Как всегда в таких случаях.
Оно еще все так случилось, что Полбин незадолго до этого только стал командиром корпуса. В самом конце марта Судец сдал корпус Полбину, а через несколько недель все эти ЧП случились. Судец – генерал-лейтенант, с повышением ушел на командующего воздушной армии, а Полбин – полковником тогда был. А тут начали, плохая подготовка штурманов, летного состава.
Может, из-за этого тоже какая-то неразбериха. Всегда, когда командиры меняются, такое бывает.
***
Насколько тот же Каримов виноват был. Конечно, Зотов там был виноват. Но тогда не только летчика и штурмана, лидером летавших, разжаловали и в штрафной батальон отправили. А и командира полка Анискина сняли с должности, куда-то перевели, начштаба сняли. А Скоробагатова, штурмана полка, отправили стрелком-радистом на «Ил-2». Стрелком-радистом на «Ил-2» - это почти то же самое, что и в штрафбат было попасть.
Каримов вернулся потом. Ранило его сильно. Правое бедро, даже не бедро уже, а выше. Оторвало, что называется, ползадницы - видно, большим осколком от снаряда. А тогда в штрафбате воевали до первой крови. Если повезет, что не убьют, а ранило, то считалось, что искупил вину кровью. Переводили воевать уже не в штрафные части, если оставался не инвалидом.
Зотов, кажется, и погиб в штрафниках. А Каримов после госпиталя назад к нам вернулся. Как раз тоже, помню, прилетели с задания, заруливаю на стоянку, смотрю - кто-то бежит, прихрамывая так на правую ногу, и руками машет, улыбается во всю. Сначала не понял, тем более, что так хромает, вроде чужой, а потом присмотрелся – Каримов. Штурману говорю: «Смотри – Каримов бежит». Он еще не поверил. Причем, почему-то именно к нашему самолету он так бежал. Хотя нас целая группа тогда заруливала на стоянку. Мы с Каримовым до этого как бы не очень дружили. После того, как он вернулся, уже больше как-то стали общаться. Даже и полетать уже вместе пришлось одно время.
***
Каримов, когда вернулся, рассказывал, как получилось, что они вместо Ростова на Таганрог группу «яков» завели. Они в облаках заблудились, погода плохая была, облачность низкая. А Ростов и Таганрог с воздуха тогда не так легко различить было. Похожие были сверху, потому что и тот и другой был практически в руинах. А так по размерам одинаковые почти города были. Да и на речках так одинаково располагались.
Как Каримов рассказывал, он еще говорил Зотову, когда они из облаков вылезли, что это не Ростов, а Таганрог похоже. Развалины одни, ориентиров каких-то нет, но увидел все-таки, что что-то не то. Он, действительно, хороший штурман был.
А этот Зотов тоже еще такой был, других не очень любил слушать. Часто так было, все от других отмахивался, слушать не хотел. И в тот раз тоже, что-то такое этому Каримову ответил: не пори, мол, ерунды. Хотя Каримов тогда уже был штурманом эскадрильи, на должности более высокой, чем Зотов. Но в таких случаях всегда летчик - командир. Хотя Зотов и по званию младший был. Нормальный бы летчик послушался бы штурмана, дополнительно круг бы сделал. Таганрог же возле моря – сразу бы сообразили. А этот подал команду «якам», те и пошли на посадку.
***
Они еще не успели прилететь, а их уже на аэродроме особисты ждали. Может быть, с ними б не так поступили, но еще были разговоры, что там пьянка была. Как раз в землянке, где и Зотов находился. Погода не летная была, думали, что не будет полетов. А их все равно на задание послали. И вроде бы, что они пьяные полетели, поэтому и попутали своих с немцами. Они там не всю ночь пили-то, да и сколько там выпить могли, чтобы пьяными такими быть.
Может, кто-то из них сам придумал это потому, что им там какую-то ерунду вообще старались приписать, в предательстве обвинить.
Но тогда оно в полку все одно к одному собрали и – этих за «лидерство» под трибунал отдали, и командиров тоже наказали, что по своим отбомбились..
***
Когда Каримов вернулся, побывав на передовой, в окопах, он спокойно уже никогда не мог пролетать над линией фронта. Оглянешься на него, когда он так из-за правого плеча торчал – глазами туда вниз просто впивается во все те взрывы, весь там, кажется. В носу самолета, как бы для летчика под ногами, там было сделано такое, как окно, тоже. Туда смотрит и только приговаривает: «Что там делается, ой-ё-ёй, что там твориться только».
Оно на войне везде не сладко было, но правду говорят, что те, кто в пехоте эту войну прошли, страшнее этого ничего не было. Не говоря уж о том, чем их кормили, в каких условиях спать приходилось. По сравнении с такими, как мы, кто летал, и говорить нечего.
У нас – обязательное трехразовое питание, тот же шоколад давали. Кто курит, шоколада меньше давали, но все равно. Каждый вечер в столовой водку давали. Сто грамм спирта на человека, почти стакан водки получался. А если экипаж сбивал самолет, то еще литр на экипаж полагалось. Дополнительно к обычной норме. Как правило, такую водку экипаж сам не пил, с другими делился.
После вылетов, вечером выпьешь, уже оно и заснуть легче. Хотя были и такие, кто не каждый раз пил, отдавал кому-то. Бывало и по-иному. Не пили по нескольку дней, собирали на какую-нибудь пьянку уже вечером, после ужина. Хотя это запрещалось, и по-своему командиры следили, но, все равно, за всеми не уследишь. Смотришь, за каким-то столом сливают эти порции куда-то. То в грелки какие-то, то еще чего-то придумывали. Понятно, что пьянку будут организовывать. День рождения у кого-то или еще что-то. Самогонку доставали, такое было.
Но это не часто так делали. А чтобы там этот «ликер шасси» кто-то пил – как показывают – я такого не встречал. Может, техники и делали, и пили, но из летного состава никогда не видел. И так хватало – почти по стакану водки каждый день. Есть полеты, нет – рацион один.
Если что-то случалось – перебазируется полк, из батальона обслуживания отстали, вовремя не приехали, - что летному составу не успевали приготовить обед или ужин, наказывали. Тех, кто в батальоне обслуживания за это отвечал. Причем никто из нас самих никогда не шумел, если что-то случалось такое. Сухим пайком все равно выдавали. Было такое, что по нескольку дней так приходилось питаться. Никто из летчиков или штурманов обычно и не возмущался. А с теми, кто должен был нормальное питание обеспечить, потом разбирались, наказывали.
Куда там, чтобы такое было для тех, кто в пехоте воевал. Даже то, что им положено было по солдатской норме и то не всегда попадало. При том, что это солдатский паек, а у нас офицерские нормы. Даже когда такие как я сержантами были, паек офицерский полагался. И для тех же стрелков. Всему летному составу - одинаково.
А для Вани-пехоты быть голодным по нескольку дней – это было обычное дело. А чтобы там горячее, первое какое-то поесть – это вообще редкий случай. А у нас попробуй, чтобы на сухом пайке несколько дней прошло. Чуть ли не командир корпуса прилетал разбираться, кто виноват.
***
22. О геройстве.
Геройство на войне это такое дело… Оно в кино показывают: «добровольцы, два шага вперед»,- и почти все выходят. Или после ранения из госпиталя убегают раньше времени на фронт. За всю войну я такого не встречал. Может, где-то было такое, не знаю.
Если получалось, что можно было не идти в бой, никто не рвался. В тех же госпиталях, там и так никого не держали, чуть только зажило – отправляли сразу на фронт.
Вообще, которые на словах геройство показывали, чаще сами на фронт так и не попали. Не знаю, в силу каких причин. То ли хитрили как-то, то ли так судьба распорядилась. Несколько таких случаев знал. На каких-то собраниях, когда война началась, но еще не фронте, в резервном полку, выступали. А до дела когда дошло, так на фронте и не были. В тылу, в каких-то резервных частях так и отсиделись, как узнал уже после войны.
***
Помню, у нас один был такой. Мы как раз вместе с ним попали на такую комиссию. Или как там ее назвать. Уже после училища, когда в резервном полку находились. А там было такое, перед тем, как будут формировать группы из летчиков уже прошедших подготовку в этом резервном полку, чтобы на фронт отправлять. Как бы аттестация, что закончил подготовку и готов уже летать в строевой части.
Всех вызывали и при этом как бы спрашивали, где хотите служить, в действующей армии или где-то в частях, которые не воюют. Оно вроде можно было отказаться идти на войну. Не знаю, были ли такие случаи. При мне такого не было. Там все отвечали одинаково. Понимали, что на фронт будут посылать.
Который председатель, он не совсем один и тот же вопрос задавал. Одного спросит: «Хотите на фронт, воевать?». На такой вопрос один ответ: «Так точно!». А другого спрашивал: «Где хотите служить?». Еще как-то по-другому. Он задает эти вопросы – смысл один, и каждый отвечает тоже по-своему.
И была такая ситуация у меня с одним из таких же как я. Мы в один отряд попали в этом резервном полку. Он у нас как бы комсоргом или таким комсомольским групоргом на время был. Нас такими небольшими группами запускали. Сначала меня вызвали. Там кто-то зачитывал, какое училище закончил, мы там из разных были, уже и повоевавшие были, которые попали переучиваться летать на Пе-2. Какие оценки получал, сколько часов налетал - такое. И этот председатель потом спрашивает: есть личные просьбы, где хотите проходить дальнейшую службу.
А меня он так спросил: «Где желаете служить, младший сержант?». На такой вопрос я ответил: «Готов служить в любом месте, где командование посчитает нужным». Всё – свободный. А куда тебя направят, потом будет известно.
В том резервном полку своя кухня была. Приезжали, так называемые, «купцы». С разных частей, с разных фронтов, а некоторые - из тыловых частей. С того же Дальнего Востока. Каждый что-то там отбирал себе. Одному надо эскадрилья, для другого звено или сколько там. Было и такое, что целый полк формируется сразу. Крутилось там по-разному.
И вот после этой комиссии этот комсорг из нашего отряда, в курилке так, подошел и спрашивает меня, а почему я так ответил, почему, мол, не сказал как другие, что хочу на фронт, воевать.
Не помню уже, что ему тогда ответил. Что если сочтут нужным на фронт отправить, буду воевать. Никто не отказывается воевать. Он еще что-то начал опять, что я не так ответил, как надо было. Разошлись с ним тогда, а потом уже нас распределили в разные места. Его куда-то направили, а меня оставили в этом же резервном полку инструктором.
Некоторых, которые отличные оценки получали и хорошо себя зарекомендовали, могли оставить летчиками-инструкторами там же. Потому что из летчиков инструкторов тоже отбирали для фронтовых частей – их как командиров звена, эскадрилий тоже отправляли на фронт. А на их место отбирали наиболее подготовленных.
Уже после войны я встретил этого групорга геройского из резервного полка. Ни одного дня он на фронте не был. Так по разным тыловым частям и просидел всю войну.
***
А я на фронт попал через три месяца, из инструкторов уже. Никаких рапортов не писал. Как раз пришла команда из подготовленного состава в резервном полку сформировать два полка для фронта. Резервным полком он только назывался, а там летчиков было не на полк собрано, больше. Прилетели командиры полков этих. Самолеты новые пригнали. Там тоже по-разному было. Одних летчиков отправляли в части без самолетов. А какие-то группы на своих самолетах улетали. А тут был приказ два полка сформировать и отправить именно на самолетах. Как раз это и были те полки, которые потом один 80-м стал, а второй 81-м. А тогда - 46-й, в который я и попал вначале, и 202 авиаполки.
Свое время на это ушло, пока самолеты появились, пока эти командиры проверяли, кто, как летает, отбирали. Кто там командирами звеньев будет, кто комэсками.
Сначала я туда не попадал. Никого из инструкторов туда не планировалось отдавать. Сформировали эти два полка 46-й и 202-й, и они почти в один день улетели. Такая команда была, чтобы полк не по частям, а сразу в полном составе прибыл на фронт. Они должны были в одну дивизию войти, им было почти в одно место лететь. И как часто в таких случаях, какие-то сроки срываются, должны уже быть на месте к такому-то числу. Пока новые самолеты пригнали, какая-то чехарда с этим была.
Все в спешке, чтобы быстрее улетели и отчитаться перед командованием, что выполнили приказ. А когда как бы все готово, чтобы улетели, погода плохая стала. Нелетные условия. А их все равно в воздух подняли всех. Летчики в большинстве не опытные. Тогда у большинства, кого на фронт отправляли, где-то по 10-12 часов налета было. Это как бы нормой считалось тогда. А те, которые после 42-го года попадали на фронт, то у них еще меньше было. Хорошо, если 7-8 часов успевали налетать, а чаще и меньше.
Я до того, как попал на фронт, пока в училище летали, пока был в резервном полку, а потом инструктором, успел налетать 18 часов. Оно как бы и немного, но больше, чем те, которые после училища сразу в резервном полку оказались и были отправлены. Кажется, что разница-то небольшая, а, в действительности, эти 5-6 лишних часов многое, что значили. На фронте это понятно стало, очень заметная разница оказалась. Увеличивало возможность быстрее привыкнуть, выжить в первых боях, опыт набрать.
***
Два полка эти улетели, а где-то на следующий день стало известно, что три экипажа разбились. Звена не хватает, получилось. Два самолета в одном полку, а один из другого. И пришел приказ, что срочно дополнить эти два полка экипажами из числа инструкторского состава. Мол, не умеют научить как надо, тогда пусть сами на фронт и летят.
Опять там забегали. Кого отправить, кого нет. Кто-то там пытался выяснить, куда-то ходили, кого хотят на фронт отправить. Какие-то разговоры были. Я никуда не ходил, ничего не выспрашивал. Вроде моей фамилии никто не называл, пока эти слухи ходили.
Потом вызывают нас троих к командиру и как приказ: вылететь сегодня и прибыть туда-то. Звеном лететь. А погода по маршруту еще хуже, чем когда те вылетали. Не лучше, во всяком случае. Казалось бы, уже одни разбились, нет – все равно: «немедленно лететь». Мы их должны догонять, чтоб уже все вместе прилететь. Они сели, переночевали, дозаправились и дальше на фронт полетели. Нас уже не стали дожидаться. А мы по их же маршруту тоже так лететь должны.
Тоже: взлетели, в облачности, когда уже темнеть стало, потеряли один другого. В итоге до промежуточного аэродрома я только и долетел. Один экипаж погиб, а другой из этого нашего звена на вынужденную сел. Живыми остались, но самолет побили.
Когда долетел, меня в 46-й авиаполк направили потому, что там именно одного экипажа не хватало. А в 202 полк два самолета уже позже прилетело. Кто-то видно понял, что так погубить могут и еще кого-то. Уже приказали прислать два новых экипажа после того, как погода улучшилась.
***
Тоже вот судьба. Тот летчик, который на вынужденную со своим экипажем сел, так на фронт уже и не попал. Из резервного полка другие два экипажа улетело, а он вернулся опять в резервный полк. Может, потом уже попал, не знаю. Потому что мог так и всю войну инструктором быть. В эти инструкторы не так просто было попасть, да и замены им не очень легко было найти. Особенно дальше, когда потери большие были, опытных летчиков мало. А учить кто-то должен. Из инструкторов мало кого на фронт стали отправлять. Проштрафиться если только там.
Вот так я на фронт и попал в начале июня 42-го. А если бы оставался инструктором, то так бы и не воевал. Как мне кажется, сколько помню то настроение. Не только свое, а и других. Из инструкторов никто сам на фронт не просился. Из тех, кого не на фронт, а в другие части отправляли, тоже никто не отказывался. Кто-то все равно попадал потом на фронт, а кто-то так и служил в тех полках, которые так и не принимали участие в боевых действиях.
То, что я своими глазами, что называется, видел – таких героев, которые требовали, чтобы их на фронт отправили, не встречал. Да и сам бы, как мне кажется, какие-то рапорты подавать, чтобы на фронт попасть, не стал бы. Как там, в кино обычно показывают.
***
А на фронте, чтобы кто-то героизм старался показать, на задание какое-нибудь сам просился, если его не посылали – тоже такого не было.
Тоже, помню, еще на Калининском фронте, в начале, когда на фронт попал. Осенью 42-го. Тогда получилась ситуация, что наши попали в окружение. Большая такая группировка. И нас начали использовать, чтобы им боеприпасы, продукты, медикаменты сбрасывать.
Они в таком окружении оказались, вроде как аппендицит получился. По ширине узкая полоса, а длинная. В таком окружении оказались. Тогда вообще линия фронта там была такая, что и не поймешь, где наши, где немцы. Немцы на Москву тогда наступали.
Как тогда говорили между собой, что тот слоеный пирог, где наши, где немцы, где линия фронта - ничего нельзя было понять. И каждый день обстановка менялась, то наши в одном месте отступили, то в другом, наоборот, контратаковали немцев и продвинулись вперед. Линии фронта как таковой, действительно, не было, какими-то такими слоями чередовались, где наши войска, где немцы.
Вот эти наши части оказались в таком окружении. Не знаю, сколько там было, но и артиллерия, и пехота. Им недалеко было и выйти из этого окружения, но, видно, командование не хотело, чтобы они отступали. Они удерживали позиции, а нам было приказано им сбрасывать обеспечение, снаряды, продукты, медикаменты.
Чего-то там намудрили, чтобы можно было сбрасывать груз вместо бомб. Начали загружать в таких тюках, не поймешь, в каком что. А сначала летали группами, девятками. Несколько вылетов сделали. Все, что сбросили мимо. Те, с земли сообщили, что из сброшенного груза, все к немцам попало.
Приезжает какой-то начальник из штаба армии или откуда там, весь наш полк построили. Стоим все, а он нам рассказывает, что каждый снаряд и патрон на счету, дети в тылу недоедают, а мы «отбомбились» так, что весь груз к немцам попал. Читает нам нотацию такую.
А что тут странного. Мы сбрасываем не с пикирования. Полоска узкая. А мы заходили для сбрасывая поперек. Немцы зенитки успели подтащить, огонь заградительный уже сильный. Группа за командиром маневрирует, чуть раньше или позже сброс сделали – все мимо и улетело. А вдоль этой полосы таким строем тоже не зайдешь – мимо улетит груз.
Так он нас отчитал всех, а потом спрашивает: «Поняли вашу задачу? Или какие-то есть вопросы?».
Все молчат, а я, возьми, и сказал, не помню, как его звание было: «Товарищ полковник!» - кажется: «Разрешите обратиться».
Разрешил, я и говорю, что надо не такими большими группами летать, а звеньями или, еще лучше, по одному. Он так с нашим командиром переглянулся и говорит: «Если такой умный – давай, сам слетай и покажи».
Весь полк остался, а мы с экипажем пошли к самолету. И помню, идем, а штурман мне говорит что-то такое, что оно тебе надо было это говорить. Мол, мы теперь под тот огонь лететь должны, а остальные на земле будут. Смотрю, стрелок молчит, но тоже так голову повесил.
И сам иду, тоже так себе думаю, зачем напросился, лишний раз со смертью поиграться. Но деваться уже некуда, штурману ответил, мол, ладно, не умирай раньше времени.
А самолет уже с грузом был. До этого построения еще загрузили. Взлетели одни. Погода облачная была, облачность низкая была. Вышел так, чтоб вдоль этой полосы пролететь, а не поперек. Уже представления были, зашел так, чтобы с более узкой стороны пролететь в сторону, которая как бы расширялась. Причем, из облачности выскочил, со снижение сбросил груз, и сразу опять в облачность ушел. Штурман мне: «Есть попадание», - хотя я и сам это видел. Немцы даже ни одного залпа из зениток не сделали. Наверное, думали, что за мной группа еще будет.
Пока прилетел, уже оттуда сообщили, что груз получили. Чего-то там побилось, пока мы прилетели, там уже начали по-другому эти тюки паковать. Этот из штаба не уезжал, ждал результата. Прилетел, доложил о выполнении задания командиру. Полковник этот рядом стоит, командиру: давайте, мол, все пусть так, как этот сержант, сбрасывают.
И так весь груз перебросали туда. Один за другим туда летали, но каждый на свое усмотрение, с какой стороны заходить, с какой высоты сбросить. Почти никто больше к немцам ничего не сбросил, все к нашим попало.
***
А я тогда запомнил, как и сам себя корил, что напросился. Да и по глазам других было понятно, что они думали, когда мы из строя одним экипажем пошли на задание. А даже благодарности мне тогда не объявили.
Что значит - младшим сержантом был. Если бы лейтенантом был, не говоря уж, что командиром звена, – за такое награждали. А как рядовой состав – совсем все по-другому было. Не один раз за время войны убеждался в этом.
Группой одно и тоже задание выполняем – офицеров к медали представляют, а тем, кто сержантами были, благодарности объявляют и все. Или офицеров - к орденам, а сержантов – к медалям. Не один раз так было. Во время войны это не очень важно было. Все знали, кто и на что способен. Это уже после войны стало совсем другое. Все эти благодарности как бы и не награды оказались. А тогда благодарность от Главнокомандующего понималась даже выше, чем медаль. Вроде как лично от самого Сталина. Молодые были – не соображали. Оно ни до этих наград тогда и было – никто на это особенно и не обращал внимание. Может, уже к концу войны. А так главная награда, что живой остался.
***
Не знаю, как вообще, но у нас никогда такого не было, чтобы, для выполнения какого-то задания, спрашивали, есть добровольцы. Или чтобы, как показывают, - коммунисты вперед. В каких-то таких случаях, как с доставкой этого провианта для окруженных войск, а были похожие моменты, никто не старался вызваться самостоятельно для выполнения какого-то задания. Командир сказал, кто будет выполнять задание, - идешь уже, куда денешься. А так, чтобы сам кто-то вместо другого просился на задание какое-то – таких случаев не помню.
_________________________________
23 Войско польске гонорове
Показывают, конечно, этих танкистов польских, как они смело воевали. А как оно действительно было, об этом никто не рассказывает.
Видели этих поляков смелых, известно, как они воевали. Те, которые на передовой были, рассказывали. Уже ближе к концу войны воинские части, сформированные из поляков, принимали участие в боевых действиях. Они в соприкосновении с нашими частями на фронте находились. Причем так делали, чтобы чередовались. Наш батальон, потом польский, потом опять наш. Чтобы не было, что поляки на большом участке сами воевали.
Было такое сначала, что так разместили, что только поляки одни и на большом участке фронта. Целая армия была как бы создана. То они как начали драпать, вся эта армия разбежалась. А участок фронта большой оголился - немцы осуществили прорыв фронта.
Это как раз Корсунь-Шевченковская операция была. Чуть эта операция не сорвалась тогда. Поляки тогда показали себя, какие они вояки. Разбежались все, побросали все: и оружие, и артиллерию, и технику. Те же танкисты побросали все танки.
Нас как раз закрывать тот прорыв и бросили. Немцы крупным танковым соединением прорвались. Угроза была, что в тыл зайдут и смогут там дел наворотить.
Пока наши войска, танковые соединения смогли осуществить передислокацию, с других участков фронта их снимали, авиацию туда и бросили. Наш корпус всем составом принимал участие в устранении этого прорыва. Особенно первый день один наш корпус по тем танкам и работал, чтобы их остановить. Потом уже штурмовики появились. Даже истребители и те тогда атаковали те немецкие танки.
На Курской дуге такое тоже было, что самолеты с танками дуэли устраивали. Но тогда, под той же Прохоровкой, и наши танки в бою участвовали. Танки между собой в основной вели бой.
И тут, когда эти поляки разбежались, несколько дней этот бой с танками продолжался. Наших ни танков, ни артиллерии – ничего не было. Наш корпус туда и был брошен, оно как бы в зоне именно боевых действий нашего корпуса это произошло. Поэтому в эту мясорубку нас первыми и кинули. Настолько страшный был бой, потери такие были. И в нашем полку, и во всем корпусе.
Тогда так получилось, что бой шел именно между немецкими танками и нашей авиацией. Но немцы еще и своих истребителей туда тоже подтянули. Сколько наших летчиков тогда погибло из-за этих поляков. Те же штурмовики в лобовую атаку на танки шли. И не один, не два. Тогда нас всех настраивали: остановить любой ценой. На самолетах остановить танки – легко сказать.
Тоже тогда и бомбили по этим танкам, и из пушек штурмовку делали – что называется, летали так, что прямо в дуло этому танку заглядывать приходилось. Ты в него целишься, а он с земли в тебя – кто раньше попадет.
В тот момент авиация просто своим телом остановила те немецкие танки. Об этом и не упоминают после войны нигде, наверное, из-за этой дружбы с Польшей. Союзники ведь стали. А тогда, когда уже наши танки и пехота закрыла прорыв, у всех нас такое настроение было, если бы дали возможность, сами бомбы на этих всех поляков сбросили бы. Какое-то такое остервенение у всех появилось за эти несколько дней, да и у меня самого.
Их потом опять собрали, армию эту польскую. Но уже так не ставили, чтобы только поляки одни какой-то участок фронта держали. Чередовали с нашими. Чтобы, если поляки побегут, то на небольшом участке быстрее можно было перекрыть прорыв.
Позже потом рассказывали и до нас об этом доходили слухи, немцы не один раз на передовой через громкоговорители, как бы подначивали, обращались к нашим солдатам, мол: «Рус Иван, давай с нами не воюй. Мы будем сами только с поляками. Мы хотим показать полякам, как надо воевать».
В кино теперь показывают, какие они герои, вроде бы никто не видел и не знает, как они воевали.
***
Гонору у поляков, всегда хватало. И раньше, да и в то время. Аксельбанты на себя навесить, да галуны какие-то позолоченные. А воевали они слабенько. Доверия к ним не было на фронте. А после войны, как о союзниках, тоже правду не рассказывали.
Еще была встреча с польскими офицерами, когда непосредственно столкнулись. Под трибунал могли попасть.
Война уже закончилась, наш полк под Веной так и продолжал базироваться. С этого аэродрома как раз и в Берлинской операции участвовали, а потом и в освобождении Праги.
Тоже тогда, эти чехи. Восстание подняли, не подготовленное как следует, а потом: «Братушки, помоги».
Нам их обращение по радио перед заданием зачитывали. Там же тоже, пока перекинули наши танковые соединения, авиацию сразу бросили на Прагу. Только перестали Берлин бомбить, задание Праге помочь.
Наш полк как раз в числе первых был туда направлен. Тоже тогда, бомбить так, чтобы не разрушить сильно город. По строго определенным целям. Цели передавали эти восставшие, а такую точность можно только на «пешках» обеспечить. Наш корпус и был задействован. Но не все летчики, а как бы отбирали из числа снайперских экипажей. Потом уже от чешского правительства награды вручали, не всем, кто там тогда участвовал, но многим. Меня тоже медалью их правительства «За храбрость» наградили и нашей еще «За освобождение Праги».
Когда война закончилась, награды уже легче раздавали. И героев тогда понадавали, всем командирам от полков и выше.
***
А с этими поляками такая история получилась. Война уже закончилась. Начали собирать участников и технику на парад в Москве. Герои Советского Союза от разных соединений как участники. Еще отбирали, кавалеров орденов Славы. Я не попадал в эти списки участников. А нужно еще было самолеты для участия в этом параде в Москву перегнать.
Сначала из нашего полка звено полетело. На самолетах, которые поновее были. Их там еще готовили, подкрашивали. А какие-то такие погодные условия - тоже все: быстрее, быстрее, - что командир звена разбился, где-то в Карпатах в гору воткнулись. Почти всю войну прошел, а тут погиб.
В авиации это не редкость, разбивались и погибали не только во время войны. Это ж не гражданская авиация. Для военной авиации это как бы нормально считалось. Уже когда на Дальнем Востоке служил, как-то видел статистику – в среднем за неделю два самолета разбивалось.
Еще один, из этого же звена, тогда на вынужденную сел, но тоже где-то в горах так, что самолет сильно побил. Уже не починить. А тут же на парад. Хорошо, хоть живыми сами остались. Третий только до нужного промежуточного аэродрома долетел, но тоже не совсем удачно что-то. Дальше лететь не мог. А экипажи были опытные, летчики неплохие.
В других соединениях тоже какие-то такие случаи произошли при перелетах. Причем с теми, кто как участники парада туда полетели.
Пошла команда, что участников группами отправлять на поездах, и что только новые самолеты перегонять для этого парада. Из частей, которые не принимали участие в боевых действиях, которые на нашей территории уже были.
Из нашего полка был сформирован отряд такой, чтобы тоже на поездах поехать за самолетами. Где-то на Западной Украине какой-то полк стоял запасной. Там были все летчики молодые. Им не доверили такой перелет совершить, а нас туда послали.
Отряд наш - человек одиннадцать было. Не полные экипажи посылали для этого перегона. Почти все летчики, один или два только штурмана. Девяткой лететь. Меня старшим группы назначили.
Поехали мы. С Вены нам через Германию, Польшу ехать надо. А это поезда, которые сразу после войны были. Какие там билеты, кто, куда грузится, куда поезд едет – ничего не поймешь. На вокзалах не только военные, а какие-то бабки с мешками, какие-то дядьки. Война только закончилась, откуда они там появились. Но и военных много, и солдаты, и матросы какие-то. Куда и откуда они все едут – ничего не поймешь.
Эти военные коменданты на станции ничего толком не знают. У нас бумаги, предписание. Все это никого не волнует. Ехали мы тогда, конечно, тоже – всего не расскажешь.
С боем на каждый поезд залазить приходилось. С какими-то пересадками. Это не то, что в Вене сели в поезд и до Львова ехали. Уже не помню, сколько пересадок пришлось делать.
Поскольку нас бригада не маленькая, мы все вместе, то нам легче было. Кого-то в окно забросим, они место займут. Хотя тоже чуть не до драк доходило. На нас не очень, конечно, наседали. Видят – группа немаленькая, офицеры все, с оружием.
До Польши как-то добрались. На какой-то станции пересадка, поезд на Варшаву. А мы уже несколько суток таки едем. Потому что куда-то доедем, потом ждем где несколько часов, где полдня. Поспать могли сидя только, забито все было.
А тут почему-то в вагон зашли, а он пустой практически. А вагоны у них не наши, полки только нижние. Хлопцы сразу, каждый по полке, заняли, тут же легли спать. Даже есть не стали, настолько за эти несколько суток мы все устали. Ну, и получилось, что где-то полвагона мы и заняли.
Сначала немного было других пассажиров. Они вроде разместились, сидели на других полках. Места как сидячие продавались. Потом стали добавляться на остановках. Мы спали, уже не знали, когда и сколько там этих пассажиров стало, что уже и не все могли сидеть. Не знаю, мы спали.
Потом уже стало понятно. Все пассажиры гражданские какие-то, в основном женщины там, старики были. Нас никто не тревожил. Между собой, наверное, недовольны были. Военных трогать они боялись.
Проснулся я от шума. Я так в середине лежал. Слышу в конце вагона несколько голосов. Уже громко так. Ругаются, и кто-то из наших. А другие по-польски говорят.
Встал и туда. Смотрю, один из наших летчиков и два польских офицера между собой шумят. И уже так беседуют, толкая друг друга. Видно, что уже дело до драки доходит. Я, как командир этой нашей бригады, подошел туда. Наш летчик мне объяснил, что эти двое его с полки начали сталкивать, чтобы самим сесть.
Два этих офицера зашли в вагон, билеты есть. Видят, что одиннадцать лавок занято нами, а на остальных уже не все могут сидеть, в проходе уже там, на мешках или чем-то, сидят, кто-то стоит. Решили поднять нашего, он крайним лежал.
Наш парень уже разгорячился, эти два поляка тоже. Причем, видно, эти поляки только получили эту форму офицерскую. Какие-то веревки желтые такие через плечо висят, с бахромой. Фуражки их квадратные, с побрякушками под золото спереди и на козырьках. Сапоги такие хромовые, голенища не как у наших хромовых сапог были, а «бутылками» такими стоят. Хромовые сапоги тогда такие офицеры, как мы, и не имели, у нас только генералы ходили.
Эти поляки два, короче, блестят, как тот пятак. Видно, что только их одели в эти офицеры. Они может, помоложе нас, но где-то такого же возраста, 23-24 года. У меня по документам – родился 1919 года. А, в действительности, я с 1920 был. Когда меня с хаты отец выгнал «иди на все четыре стороны» я хотел попасть в кавалерийскую как бы школу. При изяславской кавалерийской дивизии была такая. Мне не хватало года, вот я себе сам исправил, чтоб взяли. А меня все равно не взяли. Не смог обмануть. Вроде все нормально со здоровьем, но приходи через год – еще молодой. Лекарь, который там был, все равно увидел, что кости еще молодые, не окрепшие. Садить в седло, что называется, в строевом порядке еще нельзя. А так в документах и осталось уже, что я с 19-го года. Потом из-за этого чуть на Халхин-Гол не попал, как шофера мобилизовать хотели.
***
Где они, эти поляки, успели тогда какое-то училище, в этой Польше, закончить, что им этих офицеров дали, форму эту надели? Поляки, которые у нас в этой польской армии были, в нашей форме воевали. Только высшие офицеры, и то не все, в своей ходили.
Я начал их успокаивать, хотел объяснить, что мы несколько суток не спали, устали… Польскую не очень знал, но в Изяславе были поляки, у нас и в классе. В гости к кому-то ходил. Приходилось разговаривать, что родители на польском говорят, а я на украинском. Я их понимал, они меня.
К этим полякам я тоже на украинском языке заговорил, чтоб им было понятнее. Один из этих поляков меня даже и не дослушал – по лицу ударил.
Не ожидал, как-то не успел увернуться. Оно и не сильно ударил, ну, как пощечину. Этот первый наш парень рядом так стоял, немного сзади. Я когда подошел, то, чтобы разделить этих, уже начавших переталкивания, стал перед этими поляками. Как старший группы этой. А когда я туда подошел, еще один наш летчик тоже поднялся и стал сзади меня. Да там уже от шума почти все наши и проснулись, но лежали так еще.
Когда этот поляк махнул так рукой, Николай, который за мной, а он где-то на полторы головы меня повыше был, через меня этого поляка за грудки схватил и крикнул: «Братцы, командира бьют». У этого Николая рука была как две мои, здоровый парень такой. Меня еще так вбок оттолкнул: «командир, в сторону», - я уже ничего не успел, чтобы остановить эту драку.
Который самый первый наш с ними ругался - с другим поляком сразу сцепились. Он ему эти погоны с желтой бахромой сразу поотрывал. Первое, что сделал – погоны сорвал, а потом уже начал бить. Тут же все остальные наши на этот крик, конечно, подхватились.
Когда уже драка началась – это уже не остановить. Никакой команды уже никто слушаться не будет. Тут же еще опыт фронтовой взаимодействия. В рукопашных мы, конечно, не участвовали, у нас свое было взаимодействие. Но оно и тут сказалось. У всех – не меньше трех лет войны за плечами. А в основном – больше. Среди нас были такие, которые имели звание и старше меня. Я старшим лейтенантом войну закончил и до 46-го года так им и был.
А тут два этих польских офицера, как петухи разнаряженные, которые еще и пороха ни разу не нюхали. Да командира ударили, хотя я для них таким еще командиром-то был. Комендант какой-то документы проверяет, еще кто-то – то я как командир тогда иду или отвечаю, кто мы, куда следуем.
Но все равно, привычка сработала, как в бою. Если слышали: «Командира атакуют!», - всё внимание сразу туда, если могут помочь, даже самого атакуют, все будут командира спасать. За годы войны у нас у всех, кто воевал, такое, что называется, в кровь въелось. И здесь такой же, как и в воздухе клич: «Братцы, командира атакуют».
Два этих офицерика только погоны одевших, а у нас всех, что называется, вся грудь в орденах-медалях. У каждого только орденов по три-четыре штуки, не говоря уже о медалях. В то время не очень много у кого столько наград на гимнастерках висело. Это потом уже стали навешивать все подряд, что было и не было. Мы тогда ехали – видели. И замечали, как на наши награды другие смотрели.
***
Тогда, в первые недели и месяцы после войны, обычно у большинства офицеров, в лучшем случае, – один орден и одна-две медали. Да и то у старших офицеров. А солдаты, сержанты – хорошо, если одна медаль висела. Таких иконостасов ни у кого не было, как потом это стало. Это уже к концу 45-го года и дальше такие герои появились, домой начали отпускать, навешивали на себя.
Этим полякам, конечно, надавали тут же. Это ж получилась своя куча-мала. Вернее, две такие кучи. Одного туда в глубь к полкам затащили, повалили, а другого, который меня ударил, – возле двери в тамбур прижали.
Я там пытался остановить. Меня один из наших же, который сзади там старался добраться до поляка, - а не получалось, место мало, это ж вагон – так он на меня оглянулся, когда я попытался оттянуть его, чтобы других потом остановить, и, с такой угрозой в голосе, крикнул: «Отойди, командир!». Вроде того, что иначе и сам сейчас получишь.
До поляка добраться не мог, а кому-нибудь по морде дать хочется. Со злостью тогда он так на меня оглянулся, может, думал, что кто-то из поляков гражданских вмешивается.
Сколько там эта возня была, не знаю. Наши еще между собой и менялись, мол, отойди, дай мне теперь ему надавать. Я решил уже не вмешиваться, хотя, понимал, что изобьют уже сильно этих поляков. Отошел в сторону, а то, думаю, и мне еще от своих же достанется, что мешаю за командира постоять. Несмотря на то, что я как бы и есть этот командир.
Гляжу, а эти гражданские поляки на все это смотрят. Понимаю, что для них эта драка, между двумя этими поляками и нами, по-другому видится. Никто не вмешивается, но вижу, что смотрят осуждающе так.
***
Минут двадцать или сколько там этих поляков хлопцы по очереди мордовали. У этого, который меня ударил, начал драку, лицо уже все крови, весь в лохмотьях. Почти голый по пояс. А второй упал, его и не видно, какой он. Этого как прижали в углу, то так он и оставался на ногах, держали и били. А второй, наверное, еще хуже, его там и ногами били, это ж в сапогах.
Потом кто-то крикнул: «Давай их из вагона выкидывай». И так все быстро, что я и сообразить не успел, чем нам это грозит. Тут же, открыли двери, в одну линию построились, один другому этих поляков передают из рук в руки. Эти поляки и не сопротивлялись уже. Двое в тамбуре: за руки, за ноги - и одного за другим из вагона выкинули. Буквально, за секунды какие-то все это произошло. Кто-то подал команду, и тут же разобрались в цепочку, дверь открыли. И один за другим эти поляки вылетели на ходу.
Эти двери в поездах у поляков не как у нас закрывались на ключ какой-то. Каждый мог открыть.
Сели после этого все, перекурили, разговоры об этом же. Прошло какое-то время, оно как-то уже успокоилось. Гражданские поляки так наши места и не занимали, хотя мы сначала так в одном пролете все сидели. Поесть чего-то сообразили. Некоторые опять пошли спать, легли.
Ну, все, как и на боевое задание летали – привычка. С задание прилетели, после боя, настреляют, все внутри кипит. Настолько близко смерть была. Поели и перед следующим вылетом все заснули. Почти у всех за время войны это в привычку вошло. И засыпали сразу. Я засыпал – минута не проходила. Как бы внутри не колотило от пережитого только что. Потому, что меньше как через час опять надо будет лететь, нужно отключиться оттого, что было. Нужно успеть отдохнуть, подготовиться к тому, что будет на новом задании.
Вечером там баланду травят, то, как бы, не сразу засыпаешь.
Как тебя там не настреляли, а поспал перед следующим вылетом – сразу уже другим себя чувствуешь. Все, что было в последнем бою, оно уже как бы далеко становилось. И если в день три вылета - тоже самое. На следующий вылет идешь уже не столько вспоминаешь, что было несколько часов назад, а думаешь и настраиваешься на новый бой.
Кто не мог так заснуть, они по-другому находили возможность: ложились и ни о чем не думали. Было у нас несколько таких летчиков. Чтоб совсем никаких мыслей. А в основном – засыпали. Хотя бы двадцать там минут, полчаса поспал – сразу другим себя чувствуешь. Кто так не мог, не научился отключаться от своих переживаний, он не долго летал на фронте.
***
И тут тоже – смотрю, почти все опять разлеглись, заснули. Дело сделали, можно отдохнуть. А мне уже не спиться. Тоже прилег, но в голове крутится, что мы сделали. Едем-то по Польше. В Варшаву едем. Какие-то поляки выходят, другие заходят. Вроде никаких польских полицейских или жандармов не видно, но они могут и нашим сообщить. В комендатуру. Кручусь, там выйду покурить в тамбур.
А проводник был уже такой пожилой поляк. Он так ходил по вагону. И в один из таких проходов как бы не мне, но произнес там, а я услышал и понял, что, мол, «то не добже панство» сделало, что офицеров польских побило и выкинуло. Что поезд на скорости, они и погибнуть могли.
Он так пошел себе, а я соображаю. Думаю, он тут прав. Кто там знает, куда они упали и как. Шею свернуть легко. Их выкидывали за руки, за ноги, а они почти не соображали, в таком состоянии уже были. А потом понимаю, что пока этот проводник тут рядом ходит, то, может, он никому и не сообщит. Побоится, что и его туда же следом отправят. Но когда в Варшаву приедем, он нас в комендатуру и сдаст всех.
***
Эти все спят как вроде, действительно, с задания прилетели и перед новым вылетом. Посоветоваться не с кем, обсудить, что нам делать.
Кого-то я там из таких, более рассудительных, пару человек растолкал. Поговорили, я им рассказал, что тут проводник ворчал. До Варшавы нам лучше на этом поезде не доезжать. Прикинули, как нам дальше двигаться. Все летчики – карту хорошо представляли. Еще штурмана подняли, он без всякой карты все помнил. И названия станций и населенные пункты. Польшу мы тоже бомбили, а эти штурманы настолько память свою натренировали. Хорошему штурману и карты не надо, он все дороги, километраж все помнил. Особенно если это входило в зону боевых действий, все деревни и овраги, и озера. Не то, что дороги. А с нами из таких штурманы были. Это ж правительственное задание выполняем, лучших отбирали.
Решили, как другим маршрутом будем добираться. Перебраться на другую железнодорожную ветку. Оно как раз через одну или две остановки была шоссейка, по которой на параллельную эту железнодорожную линию можно ближе добраться. На попутках от этой железнодорожной линии туда переберемся, а оттуда уже не через Варшаву, а через Краков до Львова доберемся.
Решено, дождались нужной остановки, остальных быстро подняли, и вышли. Проводник еще бросился к нам, что «то ще не Варшава, панство». Я еще ему в глаза посмотрел и понял, что правильно делаем, мы с ним приехали бы. Видно было, что он так растерялся, что никому еще не сообщил о случившемся, а мы выходим раньше.
***
Тоже не совсем получилось на попутках. Марш-бросок пришлось делать. Некоторые даже ворчать начали, чего мы сорвались, ехали бы себе.
А во Львове как раз я и убедился, что мы правильно сделали. К коменданту пришел, как старший группы, а меня к особисту. И начал этот особист спрашивать, откуда мы едем, как мы ехали. Почему мы так ехали, а не через Варшаву. Я ему объяснил, тогда поезда ходили, не поймешь, куда и как едут. Поэтому мы так и ехали. Добирались, как могли.
Он видит, что у нас как бы больше суток, чем нужно, в дороге находимся. Не говорит, почему спрашивает, но я догадываюсь. Как и думалось мне, что поезд в Варшаву пришел и проводник сообщил. Пока мы там перебирались, пока опять поезд ждали, то уже пошла команда.
Этот особист нас задержал, придите через полдня. Я пришел, он опять меня расспрашивать начал. Мне уже деваться некуда, я ему опять рассказываю сказку, которую мы придумали. Что мы вот так ехали. Этот старший лейтенант опять: приходите на следующий день. Я ему как бы говорю, что мы спешим, нам надо самолеты перегнать в Москву, на которых будут на параде лететь.
Этот особист все равно: на следующий день приходите. Не дал разрешения дальше ехать. Смотрим, что не только нас, а там и другие какие-то группы тоже так же. В то время разные такие команды ехали. Понимаем, что какие-то такие группы военных проверяют. Почему не объясняют, но не только мы там под дверью у него сидели.
Уже так приунывшие все, дожидаемся следующего дня. Понимаем, что, скорее всего, нас ищут. Из-за этих поляков. Может, и нет, другое что-нибудь случилось. Поди, знай, этот особист же не объясняет, почему расспрашивает.
На следующий день пришел опять. Этот особист еще раз документы проверил, бумажку какую-то написал, чтоб дальше следовали, но на прощание мне сказал: «Я почти не сомневаюсь, что это ваша группа натворила. И по количеству как раз подходит. Только, вот летчики там были или нет, не могут сообщить». Вижу, он это говорит, а за моим лицом следит. Я делаю вид, что, вроде, не понимаю, о чем он говорит. Начни расспрашивать, он может понять, что знаю.
- Ладно - говорит,- следуйте своим маршрутом потому, что тут долго выяснять, но догадываюсь, что это вы. Других не могло быть.
Я тогда соображал, как правильнее из себя ничего не знающего изобразить. Если меня совсем не интересует, что произошло – тоже подозрительно. Поэтому спросил его, а что, мол, случилось-то, что почти на сутки задержали нас во Львове. Он так поглядел на меня, вроде того: «а то ты не знаешь, что случилось», - но ответил: «Ничего, идите».
Я и пошел. Себе потом раздумывал, что, по-видимому, все-таки эти поляки живыми остались. Если бы погиб какой-то из них, то по-другому искали бы. Хотя, возможно, это только проводник сообщил, а про тех поляков еще не успела дойти информация. Они же без документов оказались, одежду посрывали вместе с документами. Начни там такое расспрашивать, этот особист сразу поймет, что знаешь.
***
Тогда из-за этих двух польских офицеров могли и под трибунал попасть. В то время были случаи, когда за подобное и под трибунал попадали. В той же Германии, после освобождения. Да и еще во время освобождения хватало случаев, когда наши убивали мирное население. Их за это под трибунал. Даже был случай, одного Героя Советского Союза расстреляли. Как бы другим в назидание. Тогда многие, в Германию попав, немцам мстили. У многих у самих вся семья погибла, они и женщин и детей убивали. Когда передовая шла, то там вообще, кто не попадался, всех стреляли. А потом уже, когда начали стрелять и женщин насиловать и на освобожденной территории, тогда пронеслась волна арестов, трибуналов. Чтоб остановить это. Наш полк в самой Германии так и не базировался, это нас не коснулось. Но по разговорам, приказы зачитывали, - слышали о таком. Мы после аэродрома в Чехословакии сразу перелетели на аэродром в Австрии, под Веной. Оттуда уже так и летали до конца Берлинской операции.
***
Не знаю, почему так ребята бросились на них. Оно еще, наверное, и из-за того настроения к тем полякам, которое тогда еще у всех было, когда на танки те немецкие, которые прорвали оборону, почти в лобовую атаку приходилось идти, чтобы остановить. И бомбы бросали под гусеницы, и из пушек стреляли, штурмовку делали. И по бакам этим стреляли, и по щелям смотровым этим в танках.
А немцы из своих танковых орудий и пулеметов по нам. Наших ребят тогда погибло не мало из-за этих поляков. Такое настроение было у все, что дали бы возможность сами бы бомбы по тем разбежавшимся полякам сбросили бы. Никого и уговаривать не надо было бы. Настолько на них злые все были. А в этой группе тогда все хлопцы были, которые в той катавасии тогда принимали участие.
***
Добрались до этой части, где самолеты надо бы забрать. Самолеты новые все. Видно, что не один не был под огнем. И полк весь этот – летчики молодые. Командиры обстрелянные, конечно. Но тоже не очень там, чтобы награды были видны. Командир полка, комэски видно, что воевали, а остальные – так и не попали на фронт.
Пока мы самолеты проверяли вместе с их же техниками, молодежь эта за нами наблюдала, а подойти, поговорить – как бы стеснялась. В той же столовой. Смотрят на нас, на наши ордена, медали, но даже и не обращаются. Молодые, чувствуют, что им не о чем с нами разговаривать. Хотя тоже – они были молодые. А мы что – старые? Разница у нас по возрасту – года три-четыре, казалось бы, только.
Но такие это годы разницы были. Они ничего и не видели, и не понять им было того, через что мы прошли к тому времени. Казалось бы, разницы почти никакой. Вроде бы, я - старший лейтенант, а эти летчики - лейтенанты.
По самолетам и по летчикам в этом полку видно – ни разу не были еще в бою. Самолеты еще краской пахнут, и эти летчики в новеньких формах, комбинезоны чистые, не порванные. Ну, и мы тут, только Берлин отбомбили, можно сказать. Мы все гвардейцы, а этот полк не гвардейский. Заметно было, все на нас внимание обращают, но никто не пристает с разговорами какими-то.
Наш полк тогда за участие и, как в таких случаях писали, за проявленное мужество в ходе Берлинской операции получил звание Берлинского полка.
По тем же знаменитым Зееловским высотам сколько раз бомбить летали. А потом уже и сам Берлин. А как тогда зенитки стреляли – просто трудно объяснить. Настолько плотный и массированный огонь немцы вели. Стянули уже все, что могли. Они технику бросали, конечно, когда отступали. Но и то, что тогда стянули на тот пятачок вокруг Берлина – такого огня с земли до этого никогда не было. Немецких истребителей в воздухе уже практически и не было. К тому времени все аэродромы их разбомбили. Но зениток столько было, за все годы войны такого видеть не приходилось. Такими площадями стреляли, почти до последнего дня.
***
Забрали самолеты и, уже без всяких приключений, перегнали их в Москву. Нормально долетели, всей девяткой так и прилетели, куда надо было. Самолеты сдали и назад в полк к себе поехали.
Свидетельство о публикации №16712 от 11 марта 2010 годаНачало
1 Соколиный полет «пешки» (повесть-хроника)
2 Соколиный полет «пешки» (повесть-хроника)
_________________________
13. Пот Мамая. Заходы по «кругам ада».
***
Разные в полку люди были, разные случаи. Иногда вроде вместе летают. Вместе живут, в одной землянке. А потом смотришь, на следующий аэродром перебазировались, они уже по разным землянкам поселились. А летать продолжают вместе. Иногда и в одном экипаже.
Вообще, отношения были дружеские. Старались, чтобы не получилось, что чего-то не так скажешь – обиделся. Но случалось такое. Вроде нормально было, потом глядишь - какая-то кошка уже пробежала между ними.
Были те, с кем отношения дружеские, а были – разговариваешь, если нужно, а так - особенно и не общаешься.
Иногда в бою что-то произойдет, те, кто там был, видели и знают – им не надо объяснять. Кто почему-то струсил, себя решил поберечь, а другого сбили или убило. А те, кто на земле, и не знают, почему вдруг так стало. Были такие случаи. Перестают друг с другом разговаривать. По разным причинам.
Было из-за девчонок, которые в батальоне обслуживания или медсанчасти, хотя это редко. Если она и тому, и другому глазки строит.
Причем, видят такое – там, замполит или другие кто, из командиров,- эту девчонку куда-то в другое место переведут. Чтоб не соперничали. Другую возьмут.
***
Такие напряжения хуже всего, когда между летчиками происходили.
Если между летчиком и штурманом или стрелком-радистом в одном экипаже – что-то сказали один другому, то это - одно. Поменяли, из одного в другой экипаж. Не всем это нравилось, но приказали – все. Хотя, когда одним экипажем летаешь – это лучше всего. Если и штурман толковый и радист, оба умеют прицельно стрелять в воздухе – это одна жизнеспособность самолета.
Если опытного стрелка-радиста забрали, перевели в другой экипаж, а молодой стрелок-радист попадает в экипаж – сразу уже по-другому и чувствуешь себя, и летать уже должен. Пока этот стрелок научиться хотя бы просто в нужную сторону стрелять.
Стрелки-радисты сами придумывали для себя разные тренировки. В бочке вырежут одну сторону, на веревках привяжут с двух сторон. Пулемет туда же к бочке прикрепят. Несколько дергают с разных сторон веревки, а тот, что в бочке сидит, должен по мишени попасть. Уже полетавший, опытный стрелок по такой цели не один раз попадает, а молодой - пока научиться.
***
А когда между летчиками нет этой боевой дружбы, но они рядом в бою летят - самое страшное, что может быть. Если во время боя нарушается взаимодействие между самолетами, сразу свои «искры» начинают и на земле проскакивать.
Одного, допустим, атакует «мессер», он пытается уйти в глубь строя, как бы спрятаться в середину. Если нормальные отношения и летчики хорошие, то тот, который рядом летит, отходит немного в сторону. Если его в этот момент не атакуют тоже, он может, как бы немного, выйти из строя, чтобы у соседнего появилось место, куда спрятаться. Такая возможность – многое решала.
***
В бою это все происходит на небольших расстояниях. Там буквально несколько метров все решали. Один на пару метров посторонился, другой ушел на эти метры вглубь строя - все: немцу уже не достать, он уже не сможет успешно атаковать, чтобы попасть по мотору. Они в основном именно по моторам целились: для правого ведомого - по правому мотору, для левого ведомого – по левому.
Если такое взаимодействие существовало, немецкий истребитель быстро уходил с позиции близкой для атаки. По нему наши же стреляют – не с одного только самолета, группа стреляет,- немец юлит между трассами и ловит момент. Когда его самолет и самолет противника совпадут в таком положении, что он сможет провести атаку.
Опытные летчики на бомбардировщике видят и следят за тем, насколько близок истребитель к этому месту. Близок, чтобы занять позицию для атаки. Истребитель летит рядом, чуть сверху. Чтобы атаковать и словить в прицел, он вниз должен самолет направить. Пушки и пулеметы и у немцев, и у наших самолетов жестко были закреплены. Там чего-то пытались сделать, чтоб можно было саму пушку довернуть, но так это ни на наших, ни на немецких самолетах и не стало работать.
***
Как только истребитель начинает уже приближаться к такому моменту, если сделать маневр - уйти в сторону или вперед, для истребителя сразу все меняется. Достаточно даже на метр-полтора так сдвинутся, что он уже не сможет атаковать.
Ему опять время нужно - тоже отманеврировать, опять приблизиться. Если он этого не сделает, а откроет огонь - попадет по плоскости крыла, но уже не по мотору. А это ничего не давало - механики только ворчать будут, им дырки заделывать надо.
А если при этом тот, кто рядом летит, тоже умеет и видеть обстановку в воздухе, и совершать такие передвижения самолета в строю, в такой момент еще уступает тебе место, уходит - буквально на два метра в сторону, больше там и не надо - для истребителя ты уже можешь спрятаться, что называется, в середину.
Чаще всего, немец сразу уходил в таких случаях. Начинал делать другой заход, искать другой самолет. Со злости, что не может никак достать, если и даст, то короткую очередь. Чаще и не стреляли, боекомплект берегли.
***
Когда соседний самолет атакуют, ты так же отходишь в сторону.
Если такое взаимодействие есть во всей группе между летчиками - это значительно уменьшало опасность быть сбитым истребителями. А еще если стрелки-радисты опытные и штурманы, которые уже, как говорится, снайперски огонь ведут - группа летит без потерь. Истребители пытаются атаковать - у них ничего не получается. Какой-нибудь рискнет, чтобы сверху зайти, его подожгут тут же - остальные уже не рискуют.
***
Когда же один хочет спрятаться, а другой его не пускает, летит на своем месте в строю, хотя его и не атакуют, – это уже плохо. А то еще - видит, что тот сокращает расстояние между крыльями - и сам туда же в середину заходит, мол: не подлазь ко мне, - после этого такие летчики уже и на земле друг с другом не хотят разговаривать.
Если такое замечали, то нормальные командиры старались, чтобы такие уже рядом не летали.
***
У меня за всю войну ни с кем таких отношений не было. Даже если кто-то мне не позволил спрятаться, а через некоторое время сам начинал прятаться - иногда это во время одного боя происходило - если я мог отодвинуться, всегда так делал. Иногда на земле потом чего-то поговорим между собой, а, обычно, и слов никаких не надо.
Все и так понятно. Боевой товарищ рядом летит или боевой друг. Так оно выясняется там, в воздухе, во время боя. Как любят писать, рядом чувствуешь крыло боевого друга или рядом летит не друг. Хотя, вроде бы, все летим в одном строю. Все боевые товарищи.
***
Другие разные причины были, что-то происходит в экипаже во время боя, и меняются отношения.
С тем же Мамаем, насколько, казалось бы, был спокойный и со всеми в нормальных отношениях человек. А было один раз, когда полетели почти всем полком на задание. Таким, как тогда, я Мамая больше никогда не видел.
***
Как раз тогда погиб командир полка. И назначили нового, как всегда в таких случаях, сначала как бы на время. Из нашего же полка.
Я когда в полк попал, этот летчик уже замкомеском был. Уже в звании не таком как мы, до войны еще служил. Летал на задание вместе со всеми. Вроде ничего так. Так замкомеском и летал.
А тут у нас погибли как раз – один за другим - несколько экипажей. И комполка, и еще из командиров эскадрильи.
Его и поставили командиром полка. А если командир – он должен вести, если весь полк летит или такая группа самолетов, когда большая часть полка летит.
***
Тут это задание – двумя девятками нанести удар. Какие-то звенья не из нашего полка были, от соседей. Поднялись в воздух, построились и полетели. Зенитки над целью, куда летели бомбить, били сильно. Стянули уже к тому времени немцы. Создали заградительный огонь в несколько эшелонов. Мы уже туда летали, знали это.
Ведет нас. Две девятки. Это не звено за звеном тогда летели. Другой порядок – звено возле звена, другие за ними. Чтоб над целью зайти сразу всей группой и сбросить бомбы. Без пикирования.
Если лететь звено за звеном то те, которые идут в конце – их всех перестреляют. По первым высоту определят, первые два звена, может, и успеют сбросить бомбы, а остальные уже могут не долететь до цели. Поэтому разные построения использовали, хитрили, чтобы немцев обмануть. Когда получалось, а когда хуже было.
А тут еще зенитки в несколько эшелонов стоят. Первые пристреляются, а тем, что ближе к цели, сообщают, на какой мы высоте летим. В таких случаях много зависело от умения именно ведущего. С каким маневром он сумеет, обходя огонь зениток, вывести всех на боевой курс, на нужную высоту.
В такие моменты идет игра с немцами на время – кто быстрее. Мы - успеть сбросить бомбы до третьего залпа зениток, а они - успеть сделать хотя бы третий залп до сбрасывания бомб.
В первый период войны по одиночному самолету не очень из всех зениток стреляли. А когда уже Украину освобождали и дальше – и по одной «пешке» били, снарядов не жалели.
***
Брать «вилку» – это у зенитчиков был такой прием угадывания высоты полета самолета.
На какой мы высоте летим. Первый залп, допустим, - взрыв сверху, над нами. Второй залп – взрывы снизу. Или наоборот. Снизу наблюдает и корректирует задаваемую высоту для взрыва снарядов зенитки.
Пока они так первые два выстрела стреляют, и обычно не все зенитки бьют - высоту определяют, то еще есть время успеть долететь и сбросить на цель бомбы. Хотя немцы тоже, если позволяло количество зениток, старались несколькими зенитками выстрелить сразу на разных высотах, чтобы с первых выстрелов определить заданный эшелон нашего полета. А потом по всем расчетам сообщают – и уже все стреляют. Но это все равно время – пока выстрелили, пока передали данные, пока их другим сообщат..
Живой остался или нет – этими секундами и определялось.
Как ведущий группу заведет, насколько точно на цель выведет, не в нарушение условий выполнения задания. А иначе – он отвечает, начинает на второй круг заводить. И все это с бомбами. И все за ним идут – команды не было сбрасывать – все за командиром идут..
***
Заходим двумя девятками на цель. То ли они еще добавили зениток, не знаю. Первый этот рубеж зениток, как и раньше, вроде, стрелял. А когда ближе к цели - с земли как полыхнет – сплошной огонь, который прямо на нас вылетает. Оно ж еще и те зенитки, которые сзади оказались, тоже продолжают бить.
И ведущий самолет, до цели не долетев, бомбы не сбросив, пошел на боевой разворот. И мы все за ним следом – уходим от цели.
***
Делаем круг – это ж все вместе, с бомбами - и опять заходим. На эту же цель, на той же высоте. Зенитки уже на первом рубеже стреляют прицельно. Опять не долетаем до цели, ведущий отворачивает, все за ним следом – пошли опять на разворот.
Бомбы не сбросили. В эфире ругань стоит – кто-то матерится, кто-то проклинает. И радисты, и штурманы, и летчики – уже ничего не поймешь. Где голос командира полка, где твоего командира эскадрильи.
Чтобы именно в нашем строю так ругались и кричали ни до этого, ни после – никогда не слышал за все время войны. Были случаи, когда в эфире кроме мата ничего не расслышишь. Особенно если попадали, что в этой же зоне «илюши» рядом работали – тогда все. Один мат-перемат стоял в эфире.
Там, где работали штурмовики, на «Ил-2» которые летали, - это сплошная ругань была. Тогда лучше было выключить внешнюю связь. Она уже ничем не помогала, а, скорее, наоборот.
У нас тоже было, во время боя кто-то выругается, другой, но такого не было, как это было у штурмовиков.
А тут что только не кричали, а кто-то даже: «да, сбейте его, кто впереди летит».
***
Мы ж летели таким строем, что некоторые самолеты в середине него летели. Так, что со всех сторон самолеты – и впереди, и сзади, и по бокам. Одно дело по прямой так лететь, а другое дело поворачивать. Да еще с бомбами. Не все летчики, которые считались уже опытными, давно летали - могли правильно сделать боевой поворот, если оказывались вот так в середине группы.
Когда уже большими группами стали летать, это проявилось, как с той же «вертушкой». Казалось бы, что тут такого особенно сложного, когда летишь так в середине и надо делать боевой разворот. Когда смотришь вправо – контроль по плоскостям – ты левый ведомый. Когда смотришь налево – ты правый ведомый. При этом все действия с управлением самолета – регулировка ручек газа, положение штурвалом, ну, все – совершено одинаковые. Казалось бы. А были такие, если он с краю летит - не важно где: слева, справа – все нормально разворачивается. Как только попал в середину – его начинает куда-то вести. А остальные, кто за ним летят, ориентируется по нему. Он уходит в сторону – и некоторая часть группы за ним.
После разворота уже две группы летят. А если несколько таких летчиков попало в середину - группа распадается после боевого разворота.
Строй же держится боевой – расстояние между самолетами небольшое должно сохраняться. А если такое происходит, да истребители противника на отходе атакуют – сразу неразбериха такая получается.
И были такие летчики - и в нашем полку, – которые так и не смогли до конца войны научиться делать боевой разворот, находясь в середине. Хотя летали с 41-го года или 42-го.
***
Тут у нас группа вместе держится, строй пока сохраняется. Но «мессеры», «фоккеры», пока мы тут кружили – еще налетели. И тоже атакуют, когда мы из-под огня зениток выходим.
Понимают, что у нас какая-то неразбериха происходит. Несколько кругов сделали, а бомбы не сбрасываем.
***
Делаем третий заход.
А мое звено, я тогда уже командиром звена летал, летело крайним справа. Я начинаю уже сам соображать, что делать. Ругаются между собой, а никто ничего толком не командует. Все летят, как и летели. И все понимают, что уже летим на верную смерть. Что-то надо делать, немцы ж видят, что мы кружимся, а бомбы не сбрасываем.
Или высоту менять, или бросать бомбы уже куда придется, и лететь домой. Да хотя бы увел дальше в глубь немецкой территории, потом как бы на обратном курсе домой провел бы над целью. Бомбы сбросили и пошли домой.
Нет, крутится тут же, на одной высоте. Все поэтому и ругаются. Я в эфир не ругался, и без меня там хватало, но про себя тоже чертыхался во всю.
Кроме зениток да истребителей – на этих поворотах сами один другого угробить можем ежеминутно. Тем более, все взвинченные.
И что тут сделаешь? Командир ведет. Видно, он отчего-то растерялся, испугался, а летит-то ведущим группы.
***
За мной следом еще одно звено летело. Если мы бы летели последним звеном, я бы, наверное, уже на третьем заходе так сделал.
Понимаю, что надо не отворачивать вместе со всеми, если опять начнет уходить с боевого курса, а протянуть еще буквально минуту-полторы и сбросить бомбы на цель.
Потому что ведущий начинает отворачивать тогда, когда до цели – ну, совсем рядом. Еще чуть-чуть протяни и все. Ты над целью. Какую-то еще минуту и сбросил бомбы, все остальные за тобой кинули – развернулись и ушли из-под огня этого.
А так, в этот огонь уже третий раз заходим и неизвестно еще – последний ли.
***
И опять то же самое. Остается какая-то минута до выхода на цель, он отворачивает, все вместе за ним. Может, не минута потому, что он тоже по-разному делал. В какой-то раз ближе были, а то еще раньше начал отворачивать.
До этого уже ругались и матерились в эфире, а тут совсем уже – и не поймешь, кто и что кричит.
И такую мать твою, и убью, и.. – отдельные слова какие-то только понимаешь. Это ж восемнадцать экипажей по три человека. И кричат не только летчики, пока можно было еще разобрать голоса. Уже и стрелки-радисты начали кричать.
Водит на верную смерть. Вообще, это страшная ситуация в бою.
***
А что тут кричать, ругаться. Делать чего-то надо. А уже никто ж команды никакой не может и подать, если б и хотел – никто уже не услышит.
Действительно, не выдерживают у тебя нервы, когда снизу зенитки таким залпом бьют, сбрось уже эти бомбы, не дотянув до цели. Да уводи всех отсюда. Другие за командиром сразу тоже сбросят. Тут и командовать не надо – только увидели, что от самолета командира отделились бомбы, все сразу, долетев до этого же места, бросают. Даже если и не слышали никакой команды. Не в каждом бою и услышишь эту команду.
Нет, сам с бомбами уходит на разворот, и другие за ним, не сбросив.
Разворачиваемся опять - уже на четвертый заход.
Нет, думаю, так дальше вместе со всеми – нема дурних, як кажуть в нашому селі.
Если б еще можно было поговорить с тем командиром звена, которое за нами летел.
Но командир звена там, вроде, летчик опытный. Мы знали, кто, на что способен и как быстро соображает. Думаю, даже если он не за мной, а за остальными начнет отворачивать от цели, самолеты станут легче – сможем нагнать и стать в строй. А если не на свое место, если не поймет, что мы сделали звеном, и потянется занимать наше место - тогда сзади уже пристроимся. А, может, за нами пойдет со своим звеном и тоже сбросит бомбы.
***
Пока разворачивались на четвертый заход, мне штурман по плечу хлопает, смотри, мол, до чего уже закипело.
А самолет, где Мамай летел штурманом, левее и впереди был. Смотрю, на развороте, когда самолет ведущего виден - как бы навстречу летит,- из верхнего люка Мамай вылез, где-то по пояс. И, видно, что-то там кричит, руками размахивает, а в правой руке пистолетом грозит командиру.
Это ж пролез к радисту, этот лючок был на месте радиста. Туда пролезть тоже не так просто было от штурмана. Наверное, парашют свой сбросил. Тоже еще, когда под огнем зениток так летаешь, взять и снять свой парашют.
Вылез в этот лючок – почти по пояс сверху торчал. Так вылезть, когда самолет летит – скорость-то не маленькая, больше 400 км – это не просто силу надо иметь. Чтобы держаться, да еще руками размахивать – это уже ярость должна быть. Но и сила, конечно.
А самолет под наклоном как раз так. Его торчащего сверху хорошо видно было. Размахивает руками, видно, что рот раскрывается – кричит что-то. Пистолет показывает.
Убью, мол.
***
Убьешь тут его. Если сами живые прилетим. Оно у самого все кипит, что, кажется, и сам готов был бы убить, если б прямо в эту минуту была такая возможность. И так, наверное, у всех было.
Это ж командир полка ведет всю группу. Пусть еще не утвердили, но все равно. Все понимают, что после этого будут разбираться на земле, кто и что делал в этом бою. За проявленную трусость в бою, за панику наказать могли, вплоть до расстрела.
Да еще свой вопрос, командира накажут или тех, кто перестал его слушать, перестал лететь за ним. Оно, действительно, для его же ведомых, тоже командиры эскадрилий, что делать. Взять, самому сбить ведущего и занять его место, что ли?
Если бы ведущего группы убило, кто-то из его ведомых принял на себя командование и все бы закончилось – отбомбились бы. А так все за ним летят и делают, что он делает.
***
Я своим ведомым постарался показать, что будем сбрасывать сами бомбы. Чтобы они за мной следили и за мной повторяли.
Сказать им, что задумал – нельзя. Попытался, но вся эта связь внешняя, между самолетами, криками забита. Еще подумал, ребята опытные, в любом случае привыкли за командиром идти. Даже если не поняли, все равно должны будут пойти за мной.
Штурману по внутренней самолетной связи прокричал, чтобы был готов сбрасывать бомбы и сам прицеливался - в любом случае пойдем на цель.
Когда бомбят такой группой, то прицеливание всей группы и точность бомбометание зависит главным образом от штурмана в самолете ведущего. Как они с командиром завели всю группу, с какого места сами сбросили бомбы – все остальные дотягивают до этого места и бросают. Другие штурманы в таких случаях сами уже почти и не прицеливались.
***
Четвертый раз заходим, голоса как бы приутихли. Все готовятся бомбы сбрасывать. Я в этот момент для своего звена постарался по связи передать, чтобы делали все за мной. Вроде, услышали, поняли. Один даже ответил, второй – я не понял. Сообразит, думаю.
Снова снизу как полыхнет, смотрю - ведущий опять с боевого курса в сторону уходит.
Я продолжаю лететь боевым курсом, уже не отворачиваю со всеми.
Стрелку кричу: где наше звено?
– Наши - за нами летят,- отвечает: «А задние – нет».
Звено, что за нами летело – пошло на разворот за всеми.
Не знаю, минуту или чуть больше выдержал курс – понятно, что страшно, со всех сторон снаряды рвутся, и рядом то слева, то справа, то одновременно почти. Немцы к этой высоте уже пристрелялись, времени у них было – куда там. Хотя они тоже огонь переносили, вслед за группой – это тоже сказалось.
В такие моменты все сжимается – у каждого. Зубы сцепливаешь от страха – а куда деваться, задание надо выполнить. Собьют, убьют – тут ничего не сделаешь. Но не по десять раз крутиться в одном и том же зенитном огне.
С первого раза выдержал курс на нужной высоте, довел до заданного места нанесения удара – и все.
У немцев снаряды не закончатся, меньше огонь не будет.
***
Долетели звеном до места сбрасывания над целью, бомбы сбросили. Ведомые за мной сбросили. Резким разворотом, самолеты уже не такие тяжелые, ушли всем звеном догонять строй.
Которые за нами летели, командир звена сообразил, что мы задумали и делаем, наше место не стал занимать со своим звеном. Догнали группу, прямо на свое место становится не стали, а метров на 50 выше, но над своим местом.
Чтобы уже можно было и маневрировать как-то, и высота, чтобы не совсем та, по которой бьют уже все зенитки.
Но, одновременно, строй мы не покинули. Когда будут выяснять, кто и что творил в этом бою – объясню, почему со своим звеном отбомбился самостоятельно. Но строй не покинули, продолжали летать со всеми вместе.
***
Если бы поставили мое звено слева в строю лететь – такой бы возможности не было. Левый боевой начинает делать ведущий – и уже всем, кто слева летит, прямо некуда лететь. Только если его расстрелять из пушек и сбить.
***
Крики продолжаются, тут же все заходят на пятый заход. Мое звено вместе со всеми. Но мы уже без бомб летим – а это уже своя разница. Уже легче.
То звено, что за нами летело, на пятом заходе то же самое повторило. Командир звена, как и я, довел своих до цели, сбросил бомбы, и тоже - на нашей высоте за нами же пристроился. Летим уже двумя звеньями – повыше, но в строю.
А сколько так летать будем – никто ж не знает. Из других самолетов видели, что несколько звеньев самостоятельно отбомбились.
Тем, что слева летят – они бы и хотели, но не могут. Командир начинает отворачивать, им деваться некуда. Дальше, до цели, им не протянуть – перекрывает им курс, должны за ним повторять маневр.
***
Не помню, сколько раз еще так заходили. Но всего заходов семь или восемь, наверное, сделали.
Мы уже без бомб развороты делаем, это уже совсем другая маневренность. А остальные же с бомбами.
Другой бы стал на место ведущего. Там же летели и комэски. Это уже опытные летчики. Но попробуй там, в воздухе, взять на себя командование. Это все должны понять – и тот, который на месте командира летит. Перестроиться надо или... да, что там рассуждать. В воздухе отстранить от командования – такого не сделать.
Тем более галдеж в эфире продолжался. Никто никого и не слушает, и не слушается. Наверное, комески что-то пытались сделать, они ж рядом с ведущим летели.
***
Я уже лечу и смотрю, сколько в баках горючего осталось. Можно тут так долетаться, что и назад прилететь не останется. Уже начинаю думать, а что делать, когда дойдет до предела. И, наверно, не я один начал об этом думать.
У нас самолеты легче, расход топлива меньше, чем у тех, что с бомбами. Поэтому - то ли ждать, когда они начнут падать с сухими баками на землю, а потом уходить уже самому. А хватит ли самому вернуться, если ждать до такого момента. Начинаю уже прикидывать в уме, штурмана спросил, сколько минимум надо иметь горючего в баках, чтобы суметь долететь до своего аэродрома.
***
Такие расчеты – своя еще точность. Это ж не просто по прямой пролететь. Пойди - угадай, что еще произойдет, пока лететь будешь. Какие там «мессеры» появятся, и чего надо будет делать. Расход разный – если ты высоту набираешь, да несколько раз так приходится делать, или по прямой летишь.
Видно, и другие уже стали соображать, что можно так до сухих баков долетаться – и тогда что? Падать один за другим все вместе?
Похоже, уже летчики сами заставили замолчать штурманов, стрелков, чтобы хоть между собой можно было договориться. Голоса комесков уже можно было услышать.
***
Не знаю, на каком это уже заходе, седьмой или девятый. Может, кто-то пригрозил ведущему, что сам собьет из пушек, он же начинает поворачивать и как раз под прицел попадает.
Как-то дотянули, над целью там уже было бомбометание сделано или насколько там близко от нее, не знаю. Ведущий сбросил бомбы и остальные за ним кинули.
Развернулись – домой. Летят – все молчат. То разговоры обычно какие-то, если истребители на отходе не атакуют. А тут никто ни звука не подает. Настроение у всех, чувствуется, - только б долететь, приземлиться.
***
Удивительно, но никого так и не сбили. Поэтому, наверное, так оно и закончилось для этого, кто командиром был. Не разжаловали, только с командира полка убрали.
Тоже, по-своему, удивительный случай - что при таком обстреле и столько раз заходили, а потерь не было.
***
Когда мы прилетели, зарулили на стоянку. Я такого никогда не видел. Мамай тогда запомнился, и не только мне.
Это холодно еще было. Погода зимняя – одежда тоже зимняя. На высоте еще холоднее – одеваешь на себя все, что только можешь.
Моторы заглушил, а из кабины как-то вылезать и сил нет, и не хочется. Сидел мокрый весь – и спина, и задница, как говорится. Оно на каждом задании так, после выполнения бомбометания, если воздушный бой был, - мокрый весь. Когда уже через линию фронта перелетаешь, как бы приходишь в себя. А тут сил нет вылезти из кабины.
Так сидя в своей кабине и наблюдал за этим.
***
Мамай вылез из самолета. А их самолет недалеко на стоянке был. И как-то так грузно спрыгнул из своего люка вниз. И так медленно разогнулся, несколько шагов сделал, отошел от самолета. Как-то все его движения такие медленные были.
Начал раздеваться. Куртку расстегивает. Еле тянет замок, один рукав стянул, второй – снял, на снег положил. Все так медленно, нет сил как бы совсем.
Свитер снимает и начинает его отжимать – а со свитера, как вода прямо ручьями, – пот течет. Свитер положил. Потом гимнастерку снял – и опять отжимает, а с нее тоже течет. Вроде, как только постирал и выжимает. Гимнастерку положил.
Нательник теплый снял – тоже с него течет. Второй нательник – опять отжимает.
***
И как-то так медленно все это делает. Не спеша или сил нет. Мороз же.
Мамай голый по пояс стоит и еще по одному раз все свои вещи опять отжимает. Оно опять течет с этих вещей. Уже не так, но все равно.
Кто из самолета еще, как я, на это смотрел, кто уже вылезли. Стояли, наблюдали, что он делает. И ждут, что дальше будет – потому что многие видели, как он в воздухе пистолетом размахивал в сторону командирского самолета.
Мамай отжал так всю свою амуницию. Штаны и нательные он не стал снимать, хотя оно такое же мокрое все было. В таких случаях и спина, и задница – все мокрое.
Так же неспешно одел все на себя – и пошел, никому ничего не сказав, с аэродрома.
Тот, который командиром летал, так из своего самолета не вылез. Не знаю, к нему там кто-то пошел или нет. Что там с ним и как. Вместе с другими, я со своим экипажем ушли со стоянки, вслед за Мамаем.
***
Этот вылет многим запомнился.
И Мамай, по пояс голый, на снегу, выжимающий пот со всех своих вещей.
Командира этого отстранили от командования. Но из полка так и не перевели в какой-нибудь другой полк. Он так и летал до конца войны, но ведущим его уже никогда не ставили. Замкомеском оставили, звание у него такое было.
А первое время, несколько месяцев, наверное, после этого, - как только на задание лететь, он по несколько раз бегал в кусты.
Уже на стоянку идем взлетать, а он все отбегает. Медвежья болезнь. Какой-то понос, он там, вроде, и в медсанчасть бегал. Его даже не всегда и ставили на выполнение заданий. Как запасного на земле оставляли, если у кого-то самолет откажет при взлете. Так до конца войны и летал, можно сказать.
***
Что называется, усрался. «Желтая кровь», как началась литься тогда в бою, так и не останавливалась. Хотя, чтобы над ним там подсмеивались или издевались потом – как-то не замечал.
Может, первое время, после этого вылета. Какое-то время было такое к нему отношение. Когда он – как только услышит, что должен лететь на задание, - сразу в кусты. Иногда, уже команда по самолетам – а он в кусты бежит. Между собой переглянутся хлопцы, кто-то улыбнется, кто-то гримасу какую-то изобразит.
Такие у человека нервы, не выдерживает, не может и все. Что тут сделаешь – такой организм. Пока летал со всеми в группе, не ведущим, - как бы нормально было.
Что значит - командир в бою.
Другой был командиром: ведет, за ним все идут, и он со всеми - и уже не так страшно. А как только сам оказался на месте командира – нервы не выдержали, и все тут.
Каждый, кто сам в том огне бывал, когда зенитки бьют, знает, как очко там сжимается… И не один раз. Поэтому над кем-то другим смеяться - особенно не станет.
Не у него одного, как тогда выражались, случались ранения, когда выступала кровь эта желтая. На фронте не редко такое и с другими случалось – «желтая кровь» вытекала..
.…………….
14. Командир в бою
От командира группы много зависело, как он группу ведет, как заводит на цель, маневрирует или нет. Были такие – всех за собой как баранов ведет прямо на взрывы от зениток..
Или другое – под углом поставит всех, чтобы уменьшить площадь попадания для зениток, опять же высота уже разная – и с такого положения и бомбы скидывают. Куда они так уже попадают – никто не знает. Были и такие. Особенно уже ближе к концу войны.
***
Яша Белявин был у нас такой . Мы его Яшей звали, а как-то уже после войны только узнал, что у него не такое имя. И с высоты не той сбросит, не снижаясь до заданной. Еще чего-то схитрит, чтобы под огонь зениток не залазить.
И как-то проходило это. Даже Героем стал. Он комеском стал ближе к концу войны, как и Новиков .
Особенно мне запомнилось, когда летали бомбить уже Берлин и Зееловские высоты. Конечно, тогда не то, что с земли стреляют, а казалось просто - вся земля огнем полыхает.
Немецких истребителей уже не так много было, а снизу такое вздымалось.. Казалось, чувствуешь даже жар этот от земли идущий.
***
В какой-то из вылетов меня поставили почему-то в эскадрилью Белявина – самолет, что ли, чей-то забарахлил. А мы уже туда летали все, на эти Зееловские высоты, не один раз. И их эскадрилья, и наша.
Причем, идем к самолетам, а Яша на меня все поглядывает. Он чуть впереди шел. Один раз оглянулся на меня, другой. Поглядывает, вроде сказать что-то хочет, но молчит. Я тоже молчу. Мы с ним давно уже были знакомы. В одном полку почти с самого начала. И летали вместе не раз. То он ведущим группы, а было так, что я ведущий, а он в группе летит. По-разному было.
Да, мы с ним и в таких как бы приятельских отношениях были.
А тут оглядывается, вроде чего-то сказать хочет, но так и не стал ничего говорить.
Потом уже, когда прилетели, понял, что видно раздумывал, сказать мне, предупредить, как они бомбят. Так и не сказал.
***
А они между собой уже, похоже, давно сговорились. Натренировались так делать. Начинаем подходить к цели, Яша всю свою эскадрилью веером таким ставит – да еще и каждый самолет под углом. На разворот как бы уходят и с этого положения делают сбрасывание бомб.
Не знаю... Это с учетом уже всего своего опыта к тому времени полученного, в разных ситуациях уже, казалось, - каких только не было. Я еле успел сообразить и за всеми это же сделать. Просто мог столкнуться с соседним самолетом, если бы не успел, - срубил бы меня.
Все так летят – те, что справа, выше по высоте, да еще правое крыло выше левого. Видно, что у них это отработано, не первый раз. И из этого положения бомбы бросают.
Мой штурман кричит: «Что делать?»
Он в таком положении уже никакой цели не видит. Так никто никогда не бомбил. Полное нарушение требований по бомбометанию.
Штурман не имел право сбрасывать бомбы, если цель не в прицеле оказывалась. Надо было делать другой заход.
А тут, вижу, другого захода не будет. Специально так делают. Штурман тоже увидел, как все дружно таким веером стали, еще ж и с разворотом получается.
***
Не сбросишь бомбы, а они все сбросили – что потом делать? На второй заход самому идти? Группа тебя не будет ждать. Или с бомбами назад лететь? А потом что – с бомбами уже не сядешь. Их надо будет куда-то сбросить. Прилететь и на свой аэродром кинуть, что ли.
Ситуация такая. Времени нет рассуждать, это ж все секунды. Надо понять, что происходит, и принять решение, что самому делать.
Прилети я назад с бомбами – хотя тоже еще свой вопрос: они все уже без груза летят, а мне за ними как угнаться. Они ж не будут на моей скорости лететь.
Тут правило всегда одно было: семеро одного не ждут.
А прилети я так – будет свое разбирательство. Почему так случилось, по каким причинам. Даже если уйти на второй заход – потом все равно группу уже не догнал бы, скорее всего. А когда такое происходит – опять начинают выяснять, что и почему.
Рассказать, как Яша со всей своей эскадрильей бросает бомбы – будет свое дело. За невыполнение боевой задачи, да еще коллективное.. Вообще, и под трибунал, как командира, могли, да и обязаны были отдать. Сделай так, бомбы не сбрось со всеми – доложи потом, не знаю, что этому Яше было бы. Хотя он тогда уже Героя получил, комэск.
***
Но мне самому это нужно, что ли – вроде как донес на него, да и не только на него? Вся эскадрилья так бомбит и, похоже, уже не один раз. Тут можно раздуть такое.. А все будет из-за того, что я не стал бы со всеми бомбить в нарушение.. Сам потом сбросил бы на цель как положено, или уже куда-то в другое место отбомбился.
Все эти рассуждения тогда не такие были, но в голове как бы промелькнули такие варианты. Времени нет обдумывать, а надо понять, что делать. Как правильно в такой неправильной ситуации поступить.
- Бросай за всеми! – а у самого все внутри колотится. Тут еще от этих виражей не отошел, когда чуть не срубили меня – и тут же еще ребусы такие. Как правильно поступить. Боевое задание. Его выполнение нарушают. Но это ж все свои ребята. Все эти летчики – мы уже давно вместе и живем, и летаем. И разное было.
Они тебя «под монастырь» подводят – то и ты их, что ли?
Чуть позже других, туда же за всеми – непонятно куда, бросили.
Хотя бы предупредил, то же друг еще.
Прилетели, сели. Назад идем.
Яша так на меня с улыбкой смотрит: «Ну, как тебе, понравилось?»
Я уже к тому времени, пока долетели, успокоился. Пожал так плечами: «Зачем так делать?». Отвечает, вроде того: «Я своих ребят берегу».
А те, которые после такой бомбежки там по земле потом будут наступать – это уже не свои? Они могут гибнуть..
***
А для контроля выполнения заданий были свои устройства записи. В самолетах ставили – записывали, на какой высоте сбросили бомбы. Фотосъемка делалась. Своя служба была – контролировала и должна была сообщать, какое было задание, и как его выполнили.
Был такой контроль.
- А с этим контролем как? – спрашиваю.
Улыбается: «Я там с девчонками договорюсь..».
Что ему тут скажешь?
***
И другая противоположность. Тот же Новиков – ну, просто, как колун был. Если Новикова ставили командиром группы - уже все невеселые шли на задание. Хмурятся, каких-то шуточек, разговоров не услышишь.
Знали, что с ним лететь – это гибель. Он если стал на курс, истребители атакуют, зенитка - не зенитка, снаряды хоть под крыльями уже начинают рваться – даже немного в сторону от заданного курса не отвернет. Так всех и ведет за собой, не шелохнется. Вроде как утюг по доске всех ведет.
Тоже надо было нервы иметь, чтобы вот так и самому лететь. Ну, и другие уже за ним – куда деваться. Но не любили, когда Новикова ведущим ставили.
Каждый по-своему ловчил и старался, чтобы и задание выполнить, как требуется, и живыми остаться.
***
Ближе к концу войны мне уже приходилось не один раз летать и командиром групп. Разные группы по количеству и по составу. Хотя был только командиром звена. Те же Новиков или Белявин, будучи уже комэсками, оказывались в этих же группах, летали как ведомые.
Когда летишь командиром группы – совсем уже по-другому приходиться и думать, и лететь. Тогда уже нужно было соображать, насколько все остальные, летящие за тобой, способны повторить тот маневр, который ты будешь совершать.
У каждого летчика своя манера вырабатывалась. На ту же цель завести группу, чтобы обойти зенитный огонь, уменьшить по возможности опасность. Разные варианты всегда существовали, как завести можно группу. Чтобы точно вывести на заданную высоту и точку сброса бомб.
Когда уже пришлось командиром летать, сразу по-другому начинаешь и думать, и соображать. Уже не только за себя отвечаешь. И тоже сразу определялось, кто и на что способен.
***
15. Место в строю. Урок судьбы.
***
(Степной фронт, август 1943 г., бои за освобождение Харькова)
***
Из доклада на встрече однополчан в г. Умани в мае 1977 г. «Боевой путь 82-го гвардейского бомбардировочного авиационного, орденов Суворова и Кутузова, Берлинского полка»
«13.08.43 прорван внешний оборонительный рубеж Харькова, находящийся в 8-14 км, а 23.08.43 освобожден сам Харьков.
Отступая, враг оказывал упорное сопротивление, создавал оборонительные рубежи на реках Мерефа, Мжа, Ворскла, превращал города Валки, Красноград, Полтаву и др. в опорные пункты. Тяжелые бои шли за Мерефу и Люботин. Началась жестокая битва за Украину на земле и в воздухе. Масса зенитной артиллерии, снова большими группами ходят «мессеры» и «фоккеры».
Полк нес потери.
От прямого попадания зенитного снаряда взорвался самолет экипажа Боброва, вечером 22 августа сбиты самолеты Горелова и Москвина.
Для подавления сопротивления немцев в населенном пункте Буды – юго-западнее Харькова – вечером 23.08.1943 полк повел к-р АП майор Пчелкин (всего 12 самолетов)».
***
Тоже было дело, случай такой. Многим запомнился.
Мы ж по-разному летали. Одним звеном. Несколько звеньев из одной эскадрильи, а бывало и с разных. То с разных полков одну группу делают – девятку или больше. Разные варианты построения: змейка звеньев, девятки в клину или колонна девяток. На каком именно месте в строю оказываешься – никогда никто не может сказать.
Куда командир ставит – там и летишь. Как поставили – так и летаешь, как в своем звене, так и в других случаях. То самолет у кого-то неисправен, тебя с другим звеном на задание отправляют.
***
Но как-то так сложилось, что достаточно долго в своем звене летали так, что я – был правый ведомый, а – Бобров левый. Вообще-то долго так летали. Не помню сколько – но несколько месяцев, может и побольше. Если летим всем своим звеном – так было.
И вот в какой-то момент начал Бобров волынку тянуть – почему он все время слева летает в звене, а я справа.
И тоже это долго длилось. Потому что он не каждый день об этом разговор заводил. Один раз сказал, после того, как с задания прилетели, - настреляли зенитки. Командир эскадрильи как бы отмахнулся - перестань.
Какое-то время прошло – он при каком-то разговоре опять: почему это Чорный все время правым ведомым летает, берегут его, что ли. Опять вроде промолчали. Между собой переглянулись.
И так не один раз в разных ситуациях было. И при командире эскадрильи, и при других бывало, как мне рассказывали другие летчики.
Недоволен он своим местом в строю – что мое место лучше, чем его.
***
Там был, конечно, такой момент. При бомбометании с горизонтального положения, когда бомбы сбросили и боевой разворот делается – тот, который слева летит, он из всего звена оказывается дольше всех под зенитным огнем - и на той же почти высоте и ближе к той зоне, с которой сбрасывание производилось.
Слева летящий самолет должен был, как бы, на одном месте прокрутиться на 180 градусов. Это не танк - на месте не повернуть, но это для левого ведомого – главная задача. Максимально оставаться как бы на одном месте. Чтобы и все остальные развернулись как можно быстрее по своим радиусам. Там еще и скорость выравнивается, каждым по-своему. Чтоб не разлетелись в разные стороны. Отрабатывалось до автоматизма уже.
А туда ж, где левый ведомый и крутится, как раз к этому моменту все зенитки и нацелены стрелять. То есть пока идет разворот, он как бы дольше всех из звена остается в той зоне, куда это все стреляет. Это для всех так было, кто летал левым ведомым в звене. Если строй по звеньям. А если другое построение, то для тех, кто в строю слева летел, они тоже над целью как бы и разворачиваются.
Ведущий летит чуть выше, правый ведомый уходит еще выше – каждый на своей высоте и с разными радиусами разворота. Чтобы все три самолета, сохраняя строй, одновременно через левое крыло сделали боевой разворот. Боевой разворот – это на 180 градусов повернуть и всегда только через левое крыло. И выйти опять на прямую, сохраняя дистанцию между собой.
Когда летишь по прямой в строю – очень близко летели. Слева или справа летишь – разницы там практически никакой. Расстояние между самолетами всегда одно и тоже, небольшое, несколько метров между плоскостями. Но при боевом развороте расстояние между самолетами увеличивается. Но тоже разница там небольшая – это ж не на полкилометра разлетаемся. И даже не на сто метров. Несколько десятков метров правый ведомый все же выше летел.
При боевом развороте, если летчики опытные, когда самолеты опять выходят на прямой курс, расстояние получается такое, как и до этого летели. Потому что рядом так и летят все время. Это молодые разлетаются – потом не соберешь их.
Хотя кучность огня – оно, конечно, каждый метр лишний – как бы играет свою роль. Есть разница, между тем, который справа летит, в него уже не таким пучком осколки летят с этой высоты взрыва снарядов, как для того, который слева. Он уже от них вроде вверх убежал.
***
К тому времени, когда это произошло – в полку одни опытные летчики остались. К периоду окончания боев на Курской дуге в полку половина летного состава была. Такие потери были, и пополнений уже никаких не было.
А все эти разговоры происходили в течении нескольких месяцев. Месяца полтора, может.
Этот Бобров, нет-нет, да и заводил такой разговор. И при мне, а когда и без меня. Когда первый раз он такое сказал, я на него посмотрел – чего ты говоришь, к чему это. А он свое продолжал.
И так оно долго тянулось. Я молчал, ничего не отвечал, вроде и не слышу, и меня не касается.
***
В тот день, когда и произошел этот случай, один раз уже слетали на задание, и второй раз надо лететь. Опять девяткой, звеньями. Идем уже к самолетам все вместе. Командир как раз нашей эскадрильи, Голицин, – ведущий группы был. Еще как бы уточняет задание, что-то говорил.
А этот Бобров снова свое начал – что опять ему слева лететь. И чего-то командир так в его сторону резко повернулся, глянул так.. Запомнился мне этот взгляд, как-то так недобрым взглядом посмотрел на Боброва. Прошел еще несколько шагов и говорит: «Хорошо, Чорный – летишь левым ведомым, а ты – правым. Понятно?»
Понятно.
«Есть» - ответил. Глянул на Боброва – он как бы делает вид, что не замечает моего взгляда.
А все это сказано было буквально уже по самолетам расходиться. Мы так всей группой шли. Все экипажи идут вместе. Не все, но многие слышали и разговор, и команду эту.
Взлетели, построились в группу по звеньям – полетели.
***
Подходим к линии фронта. Ведущий поднял группу на высоту, на которой планировали переходить передовую. И где-то еще над линией фронта – в самолет Боброва прямое попадание снаряда. Причем не то, что пробил насквозь – а именно разорвался внутри самолета, где-то почти по середине.
Он же летел справа от меня – рядом. На расстоянии не больше двадцати метров каких-то. Два крыла по восемь где-то метров и три метра – обычная дистанция между плоскостями.. Да там и трех метров не было, уже перед линией фронта всегда метра по полтора начинали держать расстояние в строю.
От хвоста впереди летящего самолета и между крыльями соседних самолетов - расстояние всегда почти одно и тоже. Не больше трех метров. Если летчики опытные, то уже подлетая к линии фронта строй так сжимается и уже дистанция между самолетами может становиться только меньше. Самолет водит туда-сюда, но одна и та же дистанция удерживается в пределах полуметра.
Если летчик не опытный еще, то первое время он, конечно, не способен такую дистанцию держать, вываливается из строя.
***
Тут этот взрыв – это ж мгновение. Неожиданность полная, никаких перед этим других взрывов не было. Как это обычно, когда зенитки пристреливаются, рядом взрываются снаряды.
Тут же в один миг взрыв и самолет Боброва на три или четыре куска сразу разлетелся, и вниз все это полетело. Крыло одно отдельно, передняя часть с другим крылом, хвостовая часть и еще что-то. Или это кто-то из экипажа выпал сразу.
Там тяжело разобрать. Оно бахнуло совсем рядом – звук оглушающий, краем глаза я даже увидел в разломе самолета огонь – где-то между местом штурмана и стрелка-радиста. От испуга аж пригнулся, свой самолет воздушной волной подбросило, его удержать надо.
А обломки самолета – они сразу вниз падать начинают. Сколько сумел рассмотреть, что на три части такие разлетелся самолет. С обломками весь экипаж так и упал. Сразу их всех поубивало или как.. Ни один парашют так и не раскрылся.
Это ж рядом со мной – справа от меня все случилось. Крыло в крыло летели.
Как нас осколками не зацепило – тоже еще удивительно. И тех, кто впереди летели и сзади.
Наше звено как раз посередине летело. За нами еще звено летело, они тоже все видели.
***
У самого такое состояние от того, что произошло, - передать трудно. Одно - оглушило, снаряд рядом взорвался. Хотя в шлемофоне наушники закрывали уши, но все равно. Снаряд этот, не знаю, из зенитки ли выстрелили. Похоже, что это был артиллерийский снаряд. Мы летели на большой высоте, зенитка туда не достала бы. Хотя кто там знает, что там был за снаряд.
От взрыва рядом артиллерийского снаряда – контузия бывает. А тут взорвался на расстоянии не больше двадцати метров. С одной стороны - такое состояние.
А с другой - там я должен был лететь. Мы с этим Бобровым вот так - крыло в крыло сколько пролетали. Если бы нас не поменяли местами, я летел бы точно на том же месте.
Теперь я на его месте лечу. А его, на моем, уже нет – со всем экипажем.
***
В эфире молчание, никто ни одного слова не произносит. Я, как бы прихожу в себя, и начинаю осмысливать произошедшее, и что происходит.
***
Обычно, если кого-то собьют или что-то такое происходило в воздухе – то перекидываются словами между самолетами. Хотя такие разговоры запрещались. Но в такие моменты всегда начинались разговоры. Там летчик скажет, там стрелок. Кто что видел, чего заметил. А тут никто ни слова. И мои тоже – ни штурман, ни радист ничего не говорят.
***
Иногда летим – а рядом истребители бой ведут или другие бомбардировщики, те же «Илы» работают, их атакуют. Тоже начинают обмениваться мнением. Если самих еще не атакуют. Когда начинают атаковать истребители, тогда уже не до разговоров становится. Хотя тоже свои выкрики начинаются.
А если со своими что-то случилось – то обязательно кто-то что-то скажет, другой ему ответит.
Иногда даже командир, когда начинают все сразу галдеть, то прикрикнет, даст команду прекратить посторонние разговоры в эфире.
***
А тут молчание в эфире.
До меня начинает доходить, что такая ситуация, что я могу тут попасть в какое-то дурное положение среди своих товарищей.. Все это по-разному может повернуться. Как я тут буду себя вести, как другие все это восприняли.
Я со всеми ребятами в полку был в нормальных отношениях. С летчиками в первую очередь, но не только. С летным составом. И с техниками, хотя техники они как бы отдельно от нас были, у них больше как бы свой коллектив.
Были как друзья с кем-то, с другими в приятельских отношениях. Но не было таких, чтобы я с кем-то не разговаривал. Как было у других - кошка какая-то пробежит между ними.
А тут начинаю понимать, что все, что произошло, еще свой вопрос, как оно скажется на отношении других ко мне.
На фронте тоже разные взаимоотношения были. Погибнет экипаж, кто-то так скажет, как вроде обрадовался, что кого-то убило. Что ему более теплое место в землянке теперь досталось или что-то такое. Иногда никто и не скажет ничего. А смотришь – уже от такого как-то сторонятся. Не все, но уже косо поглядывают. Или другое что-то. Разные ситуации возникали, кто, как сделает, что скажет – и меняются отношения.
***
Летим дальше, а до меня вся эта ситуация тоже не сразу доходить начала. Чувствую по этому молчанию в эфире, что какое-то общее настроение такое, что никто как бы и слово сказать не спешит.
Это пока мы еще в воздухе, а когда прилетим, что будет. Начинает у меня это все в голове закручиваться, начинает доходить, в какую я ситуацию попал. И чего теперь делать. Как себя повести, чтобы не восприняли за какого-то там, не знаю кого.. В чем моя тут вина, есть ли вина. Начинаю вспоминать, кто и что говорил, когда Бобров заводил разговор о том, чтобы его поставили летать правым ведомым.
***
Такие прямые попадания – редкость была, очень редко такое происходило.
Да еще прямо посередине самолета снаряд взорвался - тут уже никаких сомнений, кто бы там не летел. Оно если бы подбили, загорелся, то еще выпрыгнули бы.
Да если б даже не выпрыгнули, все равно это не так воспринялось, как такое прямое попадание со взрывом.
И никого больше ж не задели осколки – хотя, казалось бы, зона поражения. И мой самолет, и командир нашего звена, и который за нами летел. Для командира третьего звена еще меньше расстояние было с самолетом Боброва. Да и для других.
Эти осколки от снаряда самолет не мог в себе задержать. Такие осколки насквозь прошивают. А на таком расстоянии и броня не поможет, это ж не танк – пробьет тоже.
***
Когда прозвучала команда: перестроится, - тоже такой момент.
Это ж не то, что персонально прозвучало – «Черному занять в строю место Боброва», а тому-то то-то. В воздухе команды звучат такие – что уже все знают, кому и куда передвигаться надо будет. Персонально называть никого не надо.
Какое-то время прошло, пока командир произнес: «Заполнить пустое место».
Такие слова команды не один раз звучали. Взлетели, у кого-то неисправность с моторами, или еще что-то с самолетом, возвращается. А группа летит дальше. Сбили кого-то, то же самое.
Но тут какой-то другой смысл в этих словах. Может, еще и то, как эта команда была сказана. Как мне услышалось. Во всяком случае, как мне запомнилось. Не знаю, как для других. Я никого потом не расспрашивал и со мной никто не затевал на эту тему разговора.
***
Для того же командира – это ж он дал команду поменяться местами.
А теперь произнес слова новой команды. У него, видно, тоже свои чувства какие-то и он понимал, что этой командой он меня опять на мое старое место отправляет.
Тут тоже – для того же командира – он мог и не подавать этой команды. Видно, поэтому и не сразу сказал, наверно, раздумывал тоже. Что другие о нем подумают и скажут.
Летные уставы вроде бы диктуют, но командир мог и не подать этой команды. Я бы так и летел левым ведомым. Хотя если летит группа, а в середине строя образовывается пустое место, то положено перестроиться. Если время позволяет. Когда уже близко к цели, тут кого-то сбивают, перестраиваться некогда. На боевом курсе уже так и летят. Потом при отходе подается команда. И тоже, если истребители атакуют, то не до этого. Командир определяет и решает в зависимости от обстановки в воздухе.
***
Тут до цели далеко, никто не атакует, но он не сразу приказал. Да еще у этой команды такие слова для именно такой ситуации.. Наверно, командир тоже несколько раз про себя их повторил, пока раздумывал, говорить их в эфире или нет. Это ж уже все услышат, кто в воздухе.
Тон голоса, когда он подавал эту команду, как мне тогда показалось самому, какие-то интонации – свое ударение он сделал, когда произнес в эфире:
- Занять пустое место.
С какой-то своей как бы злостью это произнес, или не знаю, недовольством. На меня вроде ему нечего было злиться.
***
Как положено, перестроились, чтобы место занять. Свой порядок был. Справа или слева сбили. Если слева потеряли самолет, то из звена, летящего сзади, – левый ведомый догоняет и дополняет звено.
Если справа сбили, тот, который летел слева уходит на место правого ведомого. А из заднего звена уже левый ведомый догоняет и пристраивается.
Чтобы в последнем звене, остался правый ведомый, а не левый.
***
По-видимому, это и было причиной, почему Бобров задумался о своем месте в строю, был недоволен и завел этот разговор.
Тактически так лучше для сохранения боевой мощи группы, для уменьшения возможности попаданий от зениток противника. Тогда уже замыкающее звено как бы не полное летит. Иногда, если большая группа, то пустое место в середине остается, чтобы от истребителей сзади все-таки три самолета отбивались.
В каждом случае командир решает и подает команду – по его команде это совершается. Или не дает команды – так и летят.
***
Команду услышал: перестроиться, - ушел на место правого ведомого.
Из заднего звена левый ведомый догнал, подошел, крылом в крыло опять стали.
Я опять – правым ведомым лечу.
***
В такие моменты каждое слово, часто и обычное, а звучит по-другому.
Звенит другим смыслом.
Оно все это и не долго вроде бы. Какие-то минуты прошли. Но за эти минуты свои моменты как бы доходят.
Пока летели так, я несколько раз на место правого ведомого взгляд бросаю. Это ж как привычка уже. По плоскостям следить за дистанцией. А тут.. Вот было рядом крыло – по нему равнялся и прижимался только что. А теперь там пусто.
А как бы уже непроизвольно все время бросаешь взгляд, чтобы видеть крыло другого. В воздухе все время голова крутится во все стороны. Все время так летаешь – уже привычка.
А тут уже и не надо контролировать, а все равно край глаза пытается найти справа другое крыло.
***
Пока летел до команды, тоже самому думалось – что теперь должен опять туда как бы стать. Согласно принятому порядку.
Если б это от меня зависело, скажем, было б так установлено, что летчик сам, без команды ведущего группы, может занять пустое место в строю для сохранения боевого порядка или остаться на месте – я б не стал, наверное, перестраиваться.
Тут же – мое дело слушать приказ командира. Приказ прозвучал – я выполнил.
Уже по привычке начал левым глазом ловить крыло другого самолета. А справа уже нечего контролировать.
Пустое место в строю заполнили.
***
Отбомбились. Зенитки как всегда обстреляли, но ни в кого не попали.
Летим все назад. Чего-то там уже, после бомбежки, в эфире начали какие-то слова звучать. Как бомбы попали, такое. Но тоже – не как обычно.
А у меня все продолжает крутиться в голове. Кто, что говорил, когда. Кто-то из других летчиков что-то раньше на эту тему высказывался. Чтобы как-то понять, как себя вести.
Вообще эта команда в воздухе как бы и определила для меня – что мне делать. То, с какими интонациями она прозвучала. Приказ такой был.
***
Прилетели, зарулили. Из самолетов повылазили. Постояли немного, чтоб всем вместе идти к столовой, на обед.
Идем, а все молчат. Все это время, пока собирались и шли – опять молчат, как и тогда в воздухе.
Никто ничего не говорит, как обычно. Замечаю, что на меня с разных сторон ребята поглядывают. Не то, что рассматривают, а краем глаза так глянут. Многие слышали разговор и приказ поменяться местами перед вылетом. И видели, как произошло: сзади летящих самолетов – летчики, впереди – стрелки, штурманы.
Все понимают, что вот идет тот, который уже не должен был бы идти. Счастливчик, вроде. Им интересно, что у меня там, на лице – какая радость, мол, играет. Или что я начну говорить.
***
Я иду, тоже молчу. Вроде, это не я должен был погибнуть. Просто перед собой смотрю, чтобы не переглядываться ни с кем. Так произошло – что тут говорить?
Командир тоже идет, молчит. Хотя это он дал в последнюю минуту команду поменяться местами, буквально, перед тем как уже расходиться по самолетам.
Вот оно, как бы, так и прошло - никто ничего не стал говорить, обсуждать.
Никто в моем присутствии не высказывал какого-то сожаления или чего-то такое о том, что ребята погибли. И я тоже никому ничего не стал говорить.
Что тут говорить.
***
Но в нашем полку после этого всякие разговоры про то, что кому-то не нравится его место, то ли чтоб звено не летело замыкающим – прекратились.
До этого были такие случаи. Чтоб звенья менялись, которое последним лететь должно. Истребители всегда с хвоста атаковали, поэтому последнее звено больше всего под огнем оказывалось. Хотя тоже, где там опаснее место было – это все такое. Но так считалось, как и с тем же - левым ведомым летишь или правым.
Но после этого случая - уже до конца войны - никто не заводил подобных разговоров в нашем полку.
----------------------------------------------------------------------
16. Рожденный в «рубашке»
***
Коли один живий з усіх, хто клином йшли єдиним,
Коли летиш і падаєш на землю кличем соколиним.
***
Некоторое дополнение по данным эпизодам и приведенным раньше -
из воспоминаний Чорной (Кольцовой) Лидии Васильевне
***
Черная (Кольцова) Лидия Васильевна (15.05.1921 – 21.06.1992)
Чорна (Кольцова) Лідія Василівна.
Родилась в с. Беззаботовка, Александровского р-на, Донецкой области. Окончила педагогическое училище в 1939 г. Работала учителем начальных классов в школе с. Беззаботовка. Член КПСС с марта 1941 г.
Вольнонаемная, находилась в Советской Армии с 2.03.1942 г. по 15.12.1945 г., в составе 452 отдельного батальона аэродромного обслуживая 1-й гвардейской авиационной бомбардировочной дивизии (ГАБД), работала поваром в основном в столовой, которая обслуживала летный состав нескольких полков авиадивизии, включая 82-й ГБАП.
Награждена четырьмя боевыми наградами – медали: «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За взятие Берлина».
Всего была награждена 10 правительственными наградами.
Умерла 21.06.1992 г., похоронена на Байковом кладбище, г. Киев.
***
Живое тянется к живому,
Глаза в глаза смотреть должны..
Нам не придумать по иному -
Иначе мы не рождены.
***
Про Васю многие летчики - которые сами летали на задания - говорили как о том, который в «рубашке родился». Со стольких он заданий живой возвращался, когда все думали, что погибнет.
***
Несколько раз было так, что задание какое-то.. Посылают один экипаж – он погибает. Посылают другой – тоже. Несколько экипажей туда посылают, чтобы выполнить приказ - ребята погибают. А задание не выполнено, а задание-то нужно выполнить.
Черного посылают – если уже и он не выполнит, значит, никто уже не сможет. Поэтому про него так и говорили сами летчики, что он в «рубашке» родился.
Так по народному поверью считается, если ребенок рождается в «рубашке», когда пленка такая не разрывается при родах, - значит, счастливый, удачливый.
Причем было так, даже когда не могли выполнить приказ летчики из другого полка. Нашей же дивизии.
Я с ним тогда еще сама не была знакома, но от других слышала о нем такое. А кто из них Черный - даже и не знала.
***
Несколько раз было так, что его самолет один возвращался из всех самолетов, что летали на задание. В один из таких случаев, когда он один вернулся из всех, кто улетел, меня как раз к нему на аэродром послали.
Самолет был весь в дырках, как решето..
Ко мне тогда начальник столовой подошел, говорит: «Лида, давай, собери обед в котелки и отнеси на аэродром, надо одного летчика накормить».
А я: «Чего это еще, что сам прийти не может, что ли?». Потому что ребята из летного состава всегда в столовую сами приходили, и командиры полка, и кто в штабе. Если кого-то нет – то из других экипажей с собой заберут, чтобы передать, потом посуду принесут.
А мне начстоловой говорит, мол: давай, делай и не спорь. Надо. Тут такое дело - несчастье в полку. Погибли все, кто на задание летал, а один только экипаж вернулся. Штурман с радистом пришли, пообедали, а летчик там, возле самолета, сидит уже несколько часов.. На обед не пришел. Командир полка приказал Черному обед туда отнести. Ищи самолет, на хвосте которого шестерка нарисована – там его найдешь.
А я и не знала тогда, кто это. Фамилию слышала в каких-то разговорах. Как и о других летчиках – а в лицо их и не знала. Кто из них кто. Девчонки-официантки, которые на столы накрывали, убирали, - они еще знали, а мы их и не видели почти.
Собралась я и с этими котелками, первое в термосе, не самый большой, но тоже здоровый такой, чтоб горячим донести, для компота тоже – пошла на аэродромную стоянку.
Прихожу, нашла, а он сидит возле самолета. Спиной прислонился к шасси, сидит и плачет..
Я к нему – давай, я тебе есть принесла.. Молчит и плачет.. Я налила супу, ему протягиваю, а он меня как пошлет: иди отсюда …
Я стала в стороне со своими бебехами, а он сидит.. Коленки согнул, голову на руки положил.. Постояла, постояла, еще раз спросила: будешь есть или нет?.. Молчит и не смотрит. Оставила все возле самолета и пошла назад в столовую.
А самолет весь в дырках был. И крылья, и фюзеляж - везде. И некоторые большие были такие дырки……
***
Да, пришла тут «матчасть» с обедом… Девчонок всех из обслуживания, которые при штабе, санчасти были - мы тогда между собой «матчастью» называли.
***
Я несколько раз так - один возвращался на свой аэродром из всех, кто на задание летал. Хуже нет, когда вот так - один прилетаешь.
***
16.1. Один из пятерки
***
(Степной фронт, 23 августа 1943 г., день освобождения г. Харькова).
***
Из доклада на встрече однополчан в г.Умани в мае 1977 г. «Боевой путь 82-го гвардейского бомбардировочного авиационного, орденов Суворова и Кутузова, Берлинского полка»
«Для подавления сопротивления немцев в населенном пункте Буды - ю/з Харькова – вечером 23.08.1943 полк повел к-р АП майор Пчелкин (всего 12 самолетов).
Перед вылетом командир 1-й авиаэскадрильи (АЭ) Голицин сказал: «Нас осталось 5 экипажей, но это одни старики (Голицин, Новиков, Николаев, Черный, Костин), надо в бою стоять друг за друга, сражаться до последнего».
Боевое задание выполнили, но в тяжелом неравном бою погиб к-р полка майор Пчелкин, а из пятерки 1-й АЭ пришел домой один самолет».
***
Один раз вернулся не то, чтобы совсем один из всех полетевших на задание, а один из всей своей эскадрильи. Тогда как раз командир полка погиб, майор Пчелкин. В 43-м под Харьковом, в районе Березовки бомбили.
Тогда в полку и так потери были большие. Это ж как раз окончание боев на Курской дуге - операция по освобождению Харькова. В нашей эскадрилье только пять экипажей осталось. Как раз всей эскадрильей и полетели вместе с другими.
Всего группа в 12 самолетов. Командир полка – ведущий. А это чуть ли не весь полк и был.
До этого столько в полку потерь было, а в этот вылет - как-то так произошло, что почти всех сбили. А летчики все были уже опытные - к тому времени молодых летчиков ни одного не было в полку. Такие потери за это лето 43-го года были.
***
В полку тогда уже 3 эскадрильи было. Это в начале войны полк из двух эскадрилий состоял. А к тому времени уже по три эскадрильи стало.
В каждой эскадрильи – где-то по девять самолетов - 3-и звена. Звено управление еще - где командир полка. В полку должно было быть 30 самолетов в боевом расчете.
Перед началом и во время Курской дуги бои были такие, что потери были среди и опытных летчиков. А молодое пополнение, которым пытались все время доукомплектовать...
Приходит пополнение: летный состав, самолеты – вроде количество самолетов в эскадрильи как положено. На первом же задании – все пополнение погибло, сгорели. Хорошо, если один-два останется.
Так в следующий вылет их собьют. Два-три вылета и никого из пополнения не оставалось.
А в этот период обстановка на фронте такая была, что часто в день по три боевых вылета дела. По два вылета - утром и после обеда - это почти обязательно. Что летом, что зимой. Если погода только совсем не позволяла.
***
В эти месяцы 43-го года полк в полном составе так и не был почти никогда. Пополнение и новые самолеты не все сразу в один день прилетают. Пока следующие, 3-5 экипажей, через день-другой прилетят, первых уже нет - погибли. Опять полк не полностью укомплектован.
Не успевали ни фамилий запомнить, ни даже лиц. У молодых летчиков опыта нет, они толком и летать в строю не научились. А тут в пекло сразу. Где нужно успевать следить за всем, что вокруг твориться, и сверху и снизу. Голова все время крутится должна не просто на 360 градусов, как у той совы. Сразу в двух осях и на 360 градусов во все стороны должна крутится.
А летчики молодые - неопытные, они летят и все их внимание, чтобы в строю не столкнуться с рядом летящими своими же самолетами. Он и не видит больше ничего потому, что для него до этого просто лететь в строю было самое страшное. Тех навыков пилотирования, которые нужны, не имели. Все его внимание - на расстояние между самолетами. Боится столкнуться.
***
Такой летчик просто и не мог лететь, чтобы выдерживать ту дистанцию между самолетами, которая была принята для боевого порядка «пешек». Опытные летчики не больше трех метров между плоскостями самолетов и впереди летящим держали. Это еще когда к линии фронта подлетаем.
А когда истребители начинали атаковать, то еще плотнее сжимались. Иногда так атакуют, что смотришь - между крыльями с соседним самолетом меньше метра расстояние. Хотя там, на глаз, не очень определишь, конечно, - все-таки крыло почти восемь метров. Смотришь иногда - просвета уже не видно между плоскостями. И еще прижимаешься или рядом летящий жмется к тебе. Иногда не видишь, а просто уже из опыта чувствуешь, что там до сантиметров пятидесяти доходит, что называется, почти соприкасаешься. Но если рядом опытные, хорошие летчики летят - то ни один из них такого сближения не боится.
Идут вместе крыло в крыло потому, что знают и не сомневаются, что если даже снаряд взорвется рядом от зенитки - воздушная волна толкает же, даже если и осколки попадут - и тот и другой удержат самолет. Сумеют сманеврировать так, что самолет только слегка как бы качнется - не больше. Реакция, опыт управления - штурвал никто не дернет.
***
А молодые еще не освоились даже со страхом от близости, когда между самолетами 10 метров. Через это все летчики проходят - первые полеты в строю на расстоянии несколько десятков метров, а кажется, что вот сейчас и столкнешься с кем-то.
Это когда нас еще учили, которым - хотя тоже по сокращенной программе закончили училище - все равно, больше времени было отведено для обучения. Мы тоже так не летали в училище, как потом на фронте. На том расстоянии, на которой в действительности в боевых условиях летали в строю на «Пе-2», - в училище и не разрешалось даже летать. Чтобы почувствовать хотя бы, что это такое. Да даже в том же Резервном полку, куда попал после училища, и то так не летал. Не разрешали. Тоже, конечно, подготовка была...
***
Что тут говорить о тех молодых летчиках, которые уже во время войны поступали и заканчивали училище - и сразу попадали к нам как пополнение?
Это если просто лететь звеном - он и то еще не способен держаться на расстоянии даже пяти-трех метров. Шарахается в сторону от испуга. Любому летчику время надо, чтобы освоится, полетать надо определенное время. Еще когда нет никаких взрывов от зениток, тех же истребителей, он боится просто в строю лететь.
А тут в бой со всеми вместе - у него ни привычки, ни навыков пилотирования. Когда начинаются рваться снаряды от зенитки, а если еще и близко попадают - воздушной волной самолет толкает, его надо уметь удерживать. Неопытный летчик, когда еще без зениток, уже так штурвал дергает, что самолет из стороны в сторону кидает. То ли три, то ли пять метров - он еще этих расстояний не чувствует штурвалом.
И то же самое с «газом» - он не может двигать ручки «газа» так, чтобы на полметра-метр самолет мог подойти к впереди летящему, а потом опять отойти до трех где-то метров. Он думает, что только слегка передвинул «сектор газа», а его на несколько метров кидает сразу. Нет еще нужных навыков.
А когда рядом начинают взрываться снаряды, то с испугу он может такое учудить, что и сам не понимает, что делает.
***
«Пе-2» в управлении послушный был самолет. На малейшее движение штурвала «пешка» реагировала не хуже, чем у тех же «яков». Опытные летчики, даже если рядом взрывался снаряд и воздушной волной его толкало на соседний, - легко удерживал самолет на том же расстоянии. Чуть штурвал в нужную сторону достаточно повести - и все, никаких резких движений или штурвал куда-то в сторону тащить.
Буквально, миллиметры какие-то надо штурвалом повести, чтобы компенсировать такой воздушный удар. В такие моменты штурвал не за эту полубаранку сверху держишь, а под ней, причем тремя пальцами. Не в кулаке, а именно пальцами. Правая так на штурвале, а левая на рычагах газа. Их два рядом – для левого мотора и правого. Их тоже все время трогаешь, то оба одновременно надо, то по одному. Самолет слушался прекрасно.
***
Иногда смотришь, когда опытный летчик рядом летит, его качнуло в твою сторону, а он еще и дожимает в ту же сторону, еще ближе - потому что истребители атакуют. Что называется, чувствует и расстояние и самолет. А главное, обстановку вокруг себя видит и понимает. То, что его от взрыва кинуло на соседний самолет - это не страшно. Страшно и, действительно, опасно как раз уйти в другую сторону. «Мессеры» мгновенно атакуют и уже попасть у них - шансы увеличиваются сразу в несколько раз.
***
В этом и сказывался опыт.
Кроме того, что расстояние между самолетами в боевом порядке надо удерживать - когда зенитки стреляют, снаряды рвутся рядом - истребители немецкие тоже могли атаковать в этот момент. Хотя истребители в основном атаковали в воздухе так, чтобы самим не попасть под огонь своих же зениток. У них тоже была отработана своя тактика. Для них самое главное было не столько сбить кого-то из нас, как заставить нас сбросить бомбы, не дойдя до цели.
Когда зенитки начинали стрелять, то истребители отходили, а продолжали нас атаковать уже на отходе.
Но все равно при полете в строю, главным образом внимание ни за расстояниями по плоскостям и впереди летящим, да и не за зенитным огнем - а именно за тем, что истребители делают.
Это разница между опытным уже летчиком и молодым. Молодой пугается тех разрывов, которые еще и бояться нечего. И с испугу дергает штурвал. Да так еще дергает, что не только в сторону, а куда-то и вниз, а то и вверх уходит. С какой стороны, сверху или снизу этот взрыв произошел - он, ничего не соображая, от него штурвал и дергает в другую сторону.
***
Во время воздушного боя не за расстоянием между самолетами следить нужно было - для опытного летчика это как бы машинально происходит: постоянный контроль по плоскостям и хвосту ведущего. Вроде ты и не смотришь, а просто постоянно это видишь. Потому что это уже настолько отработанное движение головы и глаз. И за взрывами зенитки нечего особенно следить – мало что можешь сделать, если в группе летишь за командиром. Это уже командир лавирует, как обойти огонь зениток, его опыт и умение маневрировать, менять высоту, направление. Все остальные повторяют и идут плотным строем за ним.
Маневрировать от зенитного огня уже никто не может, кроме командира. Ты следишь за истребителями. Не только за тем, который тебя атакует, но и соседа твоего и других. Потому что один вроде атакует, а собьет другой.
***
В такие моменты своя техника пилотирования - для неопытного летчика она просто еще не доступна. С истребителями, чтобы не дать им прицельно атаковать - идет игра в перемещениях самолета на уровне метра-полтора, а то и меньше. Это свои мгновения игры в «волки-овцы», которые ты должен видеть и успеть сделать маневр.
Немец только вроде бы вышел на ту позицию, с которой еще чуть-чуть сманеврирует и может атаковать, а ты уводишь самолет в сторону хотя бы на метр, да даже на 50 сантиметров - как бы прячешься в глубину строя - ему уже надо еще маневрировать, чтобы опять выйти в нужную точку. С которой можно перевести самолет под нужным углом атаки и открыть огонь.
А возможности у него тоже не всегда есть продолжить - по нему же целятся и ведут огонь и стрелки, и штурманы из своих пулеметов. Причем не только с той «пешки», которую он атакует. А и с тех, которые впереди летят.
Иногда смотришь - и такое случалось в бою - кто-то начинает стрелять по истребителю даже из летящих сзади самолетов. Бывало, стрелки вылезали наружу - у них там вверху был лючок такой. Он откидывался и человека как бы прикрывался от воздушного потока. Пулемет туда вытащит и ведет огонь.
А немец между этими трассами маневрирует, подбираясь к нужной для атаки позиции. Он же на месте не стоит, не просто висит рядом с тобой, а болтается с крыла на крыло все время, лавирует. Чтобы в него тяжелее прицелиться было. И подбирается к нужной точке для атаки.
***
В этом и была в основном тактика воздушного боя группы бомбардировщиков с истребителями - такая себе игра «волки-овцы». У бомбардировщиков главная задача как можно плотнее лететь всей группой и вести плотный заградительный огонь. А истребители старались кого-то подбить из этой группы.
Вроде немец подобрался так, что сейчас ему можно будет начать атаку и открыть огонь - ты самолет увел, чаще всего, в сторону, в глубь строя, а то и к впереди летящему подходишь так, что винты сейчас хвост ему, того и гляди, отрубят - немцу надо уже опять дотянуть. Он начинает опять «газом» дотягивать - а ты опять переместился, но уже назад.
А немец же все время под огнем маневрирует - ему жить тоже хочется. Испугался летящей в него трассы - резко отклонился, значит, уже ушел со своего боевого курса. А то и сразу вираж сделал и ушел.
Пока он опять вернется. Да еще не известно, к тебе ли вернется или другого будет атаковать, а может и совсем улетит - горючее уже на исходе. По-разному в бою могло быть. Не угадаешь.
***
Ушел из-под атаки истребителя - опять на свое место стал, метров по полтора между самолетами. Во время воздушного боя это было обычное расстояние.
Если нормальные опытные летчики рядом летят и ситуация позволяет, когда ты начинаешь уходить из-под атаки, прячешься как бы в глубь строя, то летящий рядом тоже отходит в сторону. Дает тебе еще немного места.
Дает тебе возможность на время еще глубже спрятаться. Этого времени нужно буквально на полминуты. Как правило, не больше минуты, чтобы сорвалась эта опасность атаки..
Немца более прицельной очередью отпугнули за эти секунды. А то немец, если такое видит - а по нему же стреляют все время, - как правило, сам сразу уходил из-под огня. Поискать, может, другие не так умеют маневрировать, взаимодействовать. Чтобы там провести атаку.
Буквально за 20-40 секунд все это и меняется, если успеваешь сделать нужный маневр. Вот этот опыт у летчика, что он способен видеть, понимать происходящее и вовремя сделать такой маневр, - он во многом определял, целым останешься или собьют.
Редко когда это дольше тянется - бывали такие упертые, висит и продолжает маневрировать между трассами от наших пулеметов. Пока уже не пуганут его хорошо или не собьют, если удачно прицелиться получилось. В основном просто отпугивали немцев - попадали не так часто.
Хотя в бою чего только не было. Один только отскочил, а другой начинает атаковать тут же.
***
Если рядом хороший летчик, что называется, боевой друг, то так и летишь с ним. Его начинают атаковать, а тебя нет - сам уходишь в сторону на метр-полтора. Больше и не надо.
Было полтора метра, еще полтора ты ему уступил, сам из строя как бы вышел - он метра на два в середину зашел, на те же какие-то десятки секунд - и все. Атака сорвана. Все живы и целы. Даже если немец огонь откроет - по краю плоскости попадет - это не страшно. По мотору попасть уже у него не получиться так просто. Не говоря уж, чтобы и по мотору, и по летчику попасть одной очередью. Он тогда должен вылезть, чтобы сверху над «пешкой» находиться - почти под прямой огонь из пулемета штурмана. На такой риск не часто кто шел из немцев, хотя и такие были.
***
Поэтому немцы в основном атаковали так, чтобы попасть по мотору - левому или правому. А чтобы сразу по летчику попасть, немецкие истребители не часто пытались атаковать. Хотя тоже бывало. Но это редко, особенно после того, как у штурманов пулеметы поменяли на более мощные.
Позицию для атаки на «пешку» всегда старались занимать одну - сзади, немного сверху и со стороны: слева или справа. Это было отработано и все знали - и немцы, и мы,- что тогда не так опасна прицельность огня для немецких истребителей.
Было такое, как бы «мертвая» зона, куда почти не могли вести огонь ни со стороны штурмана, ни стрелок. Хотя чего-то там мудрили и стрелки особенно, и штурманы, придумывали, чтобы увеличить угол обстрела. Или еще чего-то новое, для немцев неожиданное. Иногда что-то удавалось.
А немцы свое тоже придумывали
Но эта «непростреливаемая» зона из того самолета, который немец и атакует. А те, которые впереди летят - они и могли, и вели огонь тоже. Взаимодействие и помощь были отлажены. Стрелки, штурманы сами соображают, в зависимости от ситуации - огонь переносят с одно стороны на другую.
В воздушном бою именно они стреляют. Летчику стрелять почти и не нужно - редко когда кто-то выскочит под пушки впереди. Хотя прицел всегда включен был - мало ли что.
Летчики участвовали в воздушном бою с истребителями именно тем, что маневрируют, способны менять положение самолета в строю на уровне нескольких метров и на протяжении десятков секунд каких-то. А для этого нужно чувствовать, на сколько ручку «газа» переместить, штурвал повести. Для таких маневров нужен был опыт.
***
Если так плотно строем летят, отлажено такое взаимодействие, огонь группа тоже плотный ведет - немцам не очень легко было подобраться, чтобы провести успешную атаку. А если еще и группа большая.
Хотя даже девятка «пешек» это уже сильная общая огневая мощь была. «Девятка» способна была успешно обороняться, если все экипажи опытные. Не только летчики. Стрелки-радисты, которые уже умеют вести прицельный огонь, штурманы, у которых пулемет как раз посильнее был.
У стрелка радиста такой же мощный пулемет стоял для ведения огня в нижней полусфере. Так называемый пулемет Березина. А для ведения огня в верхней полусфере у стрелков стояли ШКАСы. Они их могли переставлять с борта на борт. На левую или правую сторону, в зависимости от того, где самолет летел в строю.
Но совместный огонь получался сильный - в этом смысле у «Пе-2» вооружение не плохое было.
Вначале войны, вооружение самолета хуже было. Тогда и потери как раз тоже из-за этого были такие, не только потому, что летчики, которых переучили со старых бомбардировщиков, не умели еще летать на таком самолете.
ШКАСы везде стояли. И оба курсовые, которые впереди у летчика были, и у штурмана, и у радиста. А когда поставили «пулемет Березина», немцы это сразу почувствовали. Как люковый пулемет радисту-стрелку - вниз и назад вести огонь, правый курсовой у летчика, и штурману - немцев быстро отучили так смело вести себя во время воздушного боя, подходить так близко.
Их тогда тоже посбивали не мало, пока они не поняли и не поменяли свою тактику. А расстояние увеличилось, уже другая прицельность – не так часто немцы стали попадать.
***
А если молодой летчик, он летит совсем на другом расстоянии от группы - где-то в стороне. Его уже и общий огонь не так защищает.
Не та уже плотность огня получается. Хотя все это понимают и стараются, насколько можно помочь выжить такому экипажу. Стараются пока могут.
А когда еще дальше шарахается с испугу от взрывов снарядов зениток, метров за десять-пятнадцать от строя летит - куда там помочь.
Поэтому именно неопытные летчики и погибали в первые же вылеты почти все. Такого в строю видно было сразу. Он летит где-то в стороне от всех. И немцы таких сразу определяли - у них летчики опытные были. Они сверху сначала, сзади заходят - все видят перед собой. Потом уже начинают разбиваться, чтобы с разных сторон атаковать.
В зависимости, сколько их, сколько наших истребителей прикрытия. Они сначала наших истребителей должны были увести, завязав воздушный бой. А потом оставшиеся - атакуют бомбардировщиков.
***
Опытного летчика сразу видно. Даже когда группа только собирается над аэродромом. По очереди взлетают и пристраиваются, в строй собираются.
Когда стали летать большими группами, наблюдал такое. Со своей дивизии в трех полках еще как-то знали друг друга, чаще вместе летали. А когда группу формируют из экипажей не только из разных полков, но и разных дивизий - и не знаешь, кто рядом летел. Не знаешь, кто рядом будет лететь и как он летает.
Но видно сразу - как самолет подходит, чтобы занять свое место. Рядом с тобой.
Хороший летчик, настолько уже отработано у него выравнивание скорости рычагами «газа», расстояние чувствует - он подходит так, что сразу становится крыло в крыло. Три метра между крыльями. Не дергается, как бы тычется, чтобы подойти - сразу одним движением становится рядом.
А выравнивает скорость так, что его в кабине даже качнет самого немного вперед. Такое впечатление, как на машине подъехал и затормозил рядом с тобой. Это считался определенным шиком. Если так умел уже делать.
Были и такие, которые, чтобы как бы для себя выяснить, кто с ним рядом будет лететь, насколько опытный, не на три метра становился, а около метра между крыльями. И на тебя смотрит – проверяет, как ты реагируешь. Иногда на него посмотришь, а то и делаешь вид, что не замечаешь, что он глядит.
Сам я так никогда не делал, чтобы проверить, с кем рядом будешь лететь, если с ним не знаком.
***
С этого свои отношение в воздухе устанавливаются. Потом в бою уже выясняется, что летчик ты, может, и хороший, а как человек... С говнецом, как говорится, или нормальный человек.
Товарищ просто или боевой друг, хотя, может, с ним никогда больше ты и не будешь вместе летать. На задание слетали вместе - и ты понимаешь, что это такой летчик, который как друг с тобой рядом летал. Помогал тебе выжить, а ты ему - между собой и словом не перекинулись, а тебе понятно, что это был для тебя боевой друг.
Если через какое-то время опять рядом окажешься - уже понятно, кто рядом с тобой.
***
В тот вылет - 23 августа, день освобождения Харькова - одни «старики» в полку остались.
А самолетов в полку 14 или 15 осталось. Это ж было окончание Курской битвы. За время боев на этой дуге полк понес большие потери. Не только наш полк, такое положение во всех полках было всего нашего корпуса. В действительности, это уже и не корпус по количеству самолетов, а дивизия была.
Это с учетом того, что нас пополняли в ходе боев не один раз. В резервных полках тогда почти никого не осталось – такие потери были, что всех на фронт отправили. Пополнению уже неоткуда было взяться.
Поэтому в полку остались все только опытные летчики - «старики», как тогда говорили.
В нашей эскадрильи – половина от положенного количества. Остались все, кто уже по году воевали, а то и больше.
Чупраков Коля, штурманом со мной тогда летал, после войны в статье для газеты тоже вспоминал этот эпизод . А стрелком-радистом был Коля Серебрянский.
***
В группе из 12-и самолетов - пять из нашей, 1-й эскадрильи: Голицин, комэск, – ведет, Новиков, Николаев, Костин и я.
Прикрытие слабое, пара истребителей только на нашу пятерку. И на тех, что впереди летели тоже только звено. Еще к цели не дошли, «мессеры» начали атаковать. И много их налетело.
Наших истребителей сразу сдуло. Они друг за другом начинают сразу гоняться – один немец один наш.. А тут по два «мессершмитта» на каждого из наших «яков» - сразу куда-то в сторону за собой потащили кувыркаться. И впереди звено – тоже закрутились в воздушном бое. «Коля-Петя, прикрой – атакую!..» - и понеслись, и там им уже ни до кого дела больше нет.
Воздушные дуэли, когда между истребителями начинаются – это уже все. Даже когда с нами «маленьких» больше летит.
«Маленькими» - так среди летчиков любые наши самолеты-истребители называли: и «яки», и те же «кобры» американские и другие. И сами летчики-истребители, которые на них же летали. Иногда было, где-то встретишься, спрашиваешь: «На каких самолетах летаешь?».
- На «маленьких», - почти все так из истребителей отвечали.
***
Наши ввязывались с немцами в воздушный бой - дальше мы летим уже сами.
Так часто было. Особенно в первые годы. Немцев всегда больше – одна группа с нашими истребителями начинают бой, а другая – атакует уже нас. Редко когда кто-то из наших «маленьких» опять вернется для прикрытия. Даже собьет немца, тут же следующий с ним начинает дуэль. Из воздушного боя истребителю – если уже влез туда – просто так не выйти.
***
Прикрытия нет – остальные все «мессеры» на нас. А мы еще с бомбами летим.
Немцы с разных сторон заходят. Своя у них тактика была. Чтоб и друг другу не мешать, не столкнуться, но и не давать вести прицельный огонь по какому-то одному из них. Заходят и с той и с другой стороны. Стрелки мечутся из стороны в сторону тоже.
Штурманы, пока есть время, – тоже отстреливаются, и них пулеметы хорошие стояли. Они в основном вели огонь в верхней полусфере. А когда надо бомбить, то они уже не могут. Им свою подготовку надо сделать перед сбрасыванием бомб, потом еще прицелиться должны, если с горизонтального положения бомбометание, когда уже на боевой курс становишься.
Наша эскадрилья замыкала строй, а я в последнем звене летел. Практически вся группа была впереди меня - мог все видеть.
«Мессеры» налетели с разных сторон и как-то у них быстро получилось. На удивление.
Костина и Николаева подбили. Потом разделываются с Голициным. А мы еще до цели не дошли, еще бомбы не сбросили.
Самолет командира полка Пчелкина, ведущего всей группы, тоже загорелся, резко начал падать - так и ушел в землю. Со всем экипажем. Еще кого-то впереди подбили, задымился, начал в сторону так уходить, бомбы тут же сбросил.
Строя уже как такового нет. Как бы две или даже три группки отдельные уже летят.
Сбросили бомбы, кто остался. Где-то дотянули близко до цели. Какое там уже прицеливание - в таких случаях, когда строй разваливается, да еще ведущего сбили - уже сбрасывают бомбы кто как может. Штурман именно ведущего группы в основном обеспечивает прицеливание в таких случаях.
После бомбометания и разворота - еще больше разошлись. Кто-то строй оставил - сам начал уходить прямо с боевого разворота. То ли мотор начал барахлить, то ли решил спасаться - там уже не поймешь.
На отходе опять «мессеры» продолжают атаковать. Новикова подбили, его самолет начал резко падать.
Слышу, мой стрелок-радист, Серебрянский, замолчал. Убит или заклинило пулемет, разная может быть причина.
Кричу: Стрелок, почему замолчал?.. чего там у тебя, Коля?
Молчит.
Штурман мне кричит: Стрелка ранило.
А, может, убило – там не поймешь сразу.. Он уткнется в своей «полусфере» и не шевелится, а живой или уже нет – иногда только на земле можно понять. Штурман со своего места еще может увидеть, что там с радистом..
***
Нашей эскадрильи уже нет.
Общего строя практически нет - группа развалилась. Несколько самолетов впереди еще летят, вроде, вместе. После боевого разворота - они как-то так в стороне, и не близко уже от меня. До них дотянутся - это время надо. Еще один - в другой стороне, но как бы ближе для меня.
Их догонять, чтобы пристроиться к ним.. А кого из них догонять? Когда сзади уже стрелка нет, а «мессеры» атакуют. Немцы ж видят, что перестал сзади стрелять – им уже никто не мешает атаковать.
Кто-то из передних как бы начал уходить в сторону, а двое еще вместе. Уже все - каждый начинает спасться, как может..
***
Свалил самолет в пикирование, у верхушек деревьев вышел - и пошел сначала на «бреющем» полете над лесом. Это когда над самыми верхушками деревьев летишь - а снизу по самолету, по центроплану эти верхушки постукивают. Сверху деревья не все одной высоты. Тоже свой рельеф есть – маневрируешь тоже, чтобы как можно ближе все время находиться к самым верхушкам. В таких случаях важно, чтобы ни винтами не зацепить по какой-нибудь из веток, ни в радиаторы не забились листья с ветками. Иначе вода закипит, моторы быстро перегреются, заклинить может. В тот же лес и упадешь.
На таком «бреющем» над лесом пролетел, лес закончился - еще ниже прижался, уже к земле до предела – что называется, на предельно малой высоте. Над линией фронта на «бреющем» – и к себе на аэродром.
***
За мной как-то никто из «мессеров» и не увязался. Может, горючее уже на исходе у них было. У истребителей баки не такие были как у «пешки», меньше времени в воздухе могли находиться.
При подходе к аэродрому – красную ракету выстрелили: раненый на борту. Сели, Серебрянского в госпиталь увезли, серьезное ранение получил.
Хороший такой парень был Коля Серебрянский. Нравился он мне очень - воспитанный, начитанный. Из Москвы родом был. И молодой еще, сразу после школы пошел на курсы стрелков-радистов.
Жалко было, когда он погиб. Позже уже, когда не со мной стал летать. После госпиталя вернулся, просился опять в мой экипаж. А у меня уже другой стрелок-радист. Я и не против был, чтобы Коля вернулся, даже просил командира, чтобы Серебрянского опять в свой экипаж взять. Но - нет, с другим пусть летает.
Он перед тем, как со мной, в экипаже Москвина летал, а с месяц-полтора до своего ранения со мной стал летать. Не знаю почему, что там было причиной. Командир полка приказал моего стрелка в экипаж Москвина отправить, а Серебрянского - в мой.
Москвин со своим экипажем как раз погиб за день до этого, а Серебрянского - ранило.
***
Так оно и получилось. 22-го августа погибли два экипажа: Горелова и Москвина - оба самолета с экипажами в землю ушли. А перед этим за несколько дней экипаж Боброва погиб от прямого попадания.
А мы 23-го полетели группой в 12 самолетов.
Тогда один из всех нашей эскадрильи и вернулся. Еще от того случая с прямым попаданием не пришел в себя, а тут уже другое.
Хотя из 12-и самолетов еще несколько прилетело. Кто чуть раньше меня сел, кто позже. Еще кто-то на вынужденную сел, потом вернулись.
Не все и погибли из тех, кого сбили. Кто-то дотянул до своих и выпрыгнул. Новиков так вернулся, еще кто-то. Другие к своим сумел пробраться – перейти линию фронта. Так Голицин через неделю где-то или больше вернулся.
***
16.2. Один из «девятки»
***
Своих друзей прекрасные черты - Сквозь лик войны
дано в миг разглядеть… Не раз глядеть иначе.
Когда один живой из всех, кто клином шли единым,
Когда летишь и падаешь на землю криком соколиным, -
Лицом войны к лицу друзей ты обращаешься и плачешь.
***
А другой раз – тогда вообще один вернулся из всех, кто полетел. Никто больше из девятки не прилетел.
Этот вылет вообще был непонятным. Так и осталось темным все это. Потом были слухи, что вроде какое-то предательство было, где-то в штабе, что сообщил кто-то немцам. Но так оно и осталось не ясным. Хотя не знаю, просто, что такое случайно произошло – может, конечно, и могло так все совпасть. Как другие рассуждали, которых там не было.
Но мне до сих пор не вериться, что так оно все произошло из-за случайного стечения обстоятельств.
Так - как оно все происходило.
Вот и тогда сразу и сейчас сидит в голове, что немцы именно нас ждали. Потому что их не два-три истребителя, как обычно они летали, а именно такое количество, вроде как специально собранная группа. Поскольку ждали именно девятку «пешек» и два звена истребителей прикрытия. Прикрытие сразу оттеснили от нас. Потому что все шесть наших «яков» сразу в карусели закрутились – на каждого по немцу было. А те «мессеры», что остались, тоже не один или два.
Когда девятка «пешек» идет, то совместная огневая мощь такая, что если немцев одна-две пары истребителей, то они и не пытались обычно атаковать. Хотя это от разного зависело – начинают атаковать или нет: откуда они летят, какой запас у них горючего и другие причины могли быть.
***
А тут чуть ли и на каждого из нас по паре «мессеров». На пары разбились и атаковали один за другим. Причем самолеты эти немецкие какие-то разрисованные были на всю длину. Чего там намалевано было – рассматривать некогда было, но не «бубны»-«трефы», как до этого встречались.
Это одно. А другое – как они находились в воздухе по отношению к нам в тот момент, когда мы встретились.
Они находились так, что им и маневра никакого практически не нужно было делать. Для того, чтобы начать атаковать. И по высоте и по расположению, направлению полета - просто лучшей позиции для атаки не придумаешь.
Выше нас как раз, идут не встречным курсом, а наискось, поперек как бы нашего курса. Не надо время ни набрать высоты для атаки, как обычно, ни облететь – немцы атаковали обычно, чтобы сверху и сзади зайти на «пешку». Снизу атаковать редко какой брался.
А тут еще они находились именно и со стороны солнца. Ну, просто идеальный вариант.
***
Буквально, чуть только довернули и пошли атаковать, что называется, минуты не было у нас, чтобы сообразить, чего делать. Мы только из облачности - а она такая, плотная была, темно там было - вылезли на солнце. Солнце прямо в глаза бьет, ослепило просто на какое-то мгновение – этих немцев не сразу и рассмотреть можно было. Они почти со стороны солнца как бы так летели.
Первая группа атаковала истребители наши – и увела их. А вторая группа прямо следом за первой – на нас.
***
И как оно все так сложилось.. Не могу поверить, что все это случайно. Тем же немцам, если бы так случайно встретились, тоже надо было время сообразить, между собой чего-то переговорить. Кто там одной группой «яки» наши атакует, а кто во второй группе – на нас.
Сколько осталось в памяти, даже никаких слов или команд на немецком не слышал в эфире. Может они на какой-то другой частоте, конечно, были. Хотя и до того и после, обычно – мы их слышим, они – нас. На одной волне все говорят. Поэтому такое впечатление, что они и ждали, и знали, сколько нас летит и на каком курсе и в какое время. Где мы линию фронта будем переходить, и на какой высоте.
***
Мы взлетели, причем все девять ушли нормально. Когда столько взлетает группа, часто у кого-то чего-то забарахлит. Пока запасной взлетит вдогонку – его подождать надо, круг - а то и несколько - над аэродромом делается.
А в этот раз все нормально. Причем над нашей территорией облачность. И большая такая, между нижней и верхней кромкой расстояние как раз захватывала выбранный эшелон пролета линии фронта.
В таких случаях всегда в облака уходили.
Ближе к линии фронта мы в туда в облака спрятались, на заданную высоту ушли, и как раз с земли не видно. Вроде повезло, удачно для нас получалось.
А дальше… Линию фронта только вот перелетели – облака, словно, как отрезал кто.
Прямо из облачности вылетаем – небо чистое, солнце сверкает и немцы – справа и выше как раз на той высоте, с какой им лучше всего и атаковать. Они вроде как вдоль линии облачности летели. Так под углом немного.. Специально будешь рассчитывать – лучше почти и не придумаешь.
***
Истребители всегда стараются командира сбить, ведущего группы. Не так просто это. Командира всегда защищают – это закон. Но если получается - тогда уже почти всегда весь строй развалится. Если летят ведомыми опытные и сильные летчики, которые и как командиры опытные, еще есть шанс. Или хотя бы один такой летит ведомым, но и то – все равно.
Хороший, сильный командир – это 50 процентов успеха в бою, если не больше. Если командира сбили, обстановка в группе сразу меняется. И настроение, и готовность выполнять команды другого. Немцам сразу настолько проще становится разбить на отдельные части группу. А потом, когда все по отдельности, им легче и атаковать, и прицельно вести огонь.
***
Тут же чуть не с первого захода подожгли самолет ведущего нашей девятки. Они парами заходили. Может, вторая пара зажгла. И, похоже, в летчика попали, потому что самолет сразу как-то клюнул вниз. Так еще любой летчик нормальный старается тянуть в строю, сколько может. Особенно если ведущий. А ведущим тоже не любого ставили.
А тут немцы парами друг за другом на нас. Одна пара отстреляла – попала, нет - уходят опять на набор высоты, а следующая пара атакует. Одни на передних в группе, а другие на задних. Оно почти как бы одновременно.
Видно, опытные все летчики у немцев подобраны были. И не просто опытные, а, что называется, чувствуют друг друга. Хорошо знают, какая пара как работает, то есть вместе не первый раз так летали.
Ведущий «мессер» из пары целит, чтобы самолет зажечь или летчика убить, а ведомый старается подавить огонь штурмана или стрелка-радиста. Штурман со своего места стреляет назад, верхнюю полусферу закрывает.
Стрелок сбоку стреляет, откуда атакуют. Стрелки-радисты переставляли свои пулеметы на левый борт, или с правой стороны вести огонь. Иногда могли этим же пулеметом и верхнюю полусферу полностью обстреливать - им надо было в верхний лючок тогда вылезть. Но так редко кто делал.
***
Экипаж начинает стрелять в того, кто по ним стреляет. А первый тогда не так боится подойти ближе, прицелиться. Они же не по прямой совсем заходят на цель, тоже маневрируют, крутятся в воздухе, чтобы в них не так легко попасть было. Висит над тобой сверху, со стороны так - левой или правой. И вроде, как танцует с крыла на крыло. От трасс, которые летят в него, уклоняется, виляет все время. Подбирает момент, когда ему можно под углом атаки изменить полет, огонь открыть, в прицел словив мотор. По моторам они главным образом целили. А если повезет, то попасть по летчику – это лучше всего
***
Наши - один за одним - начали вспыхивать как спички. Ну, буквально, за несколько минут, может, за пять минут – строя нет и все горят. Время в такие моменты совсем по-другому воспринимается – на часы не смотришь ведь.
Иногда такие минуты бывали – и не поймешь потом, сколько их было.. Пять или двадцать..
Я в третьем звене был, все это происходило, что называется, у меня на глазах. Кто начал бомбы сбрасывать – чтоб маневренность появилась. Несколько куполов парашютов в разных местах вроде заметил. И самому ж надо уворачиваться, закрутилось тут все со всех сторон.
Когда все загорели, сколько мог увидеть – может так показалось, в такие моменты всего не упомнишь – понял, что надо уже самому как-то спасаться. Когда строй развалился – все, тогда уже каждый спасается, как может. Да тут он и не развалился. Просто всех в этом строю и перебили.
Вроде кто-то впереди тоже сбросил бомбы и начал переводить самолет в пикирование. И я за ним. Бомбы сбросил – там уже не важно куда, спикировал. Под углом чуть ли не под 90 градусов.
В такие моменты от страха сам не соображаешь, что делаешь. Градусов 80, наверное, точно. Самолет легкий, без бомб.
***
Обычно, пикировали под углом в 60 градусов, иногда и круче получалось, градусов под 70. Это когда бомбометание с пикированием.
Бывало, пикируешь на цель согласно нужного угла атаки, а тут снаряд зенитки рядом как даст, или пулеметная очередь трассирующими – видно как она идет прямо туда, куда и ты летишь.
Штурвал тогда или на себя тянешь, или от себя. Когда от себя штурвал отжимаешь, только не перестараться было. Так тоже бывало.
Были случаи – так в землю за бомбами вслед и уходили.. Особенно, молодые летчики, которые приходили с подготовкой «взлет-посадка», опыта никакого..
Не в нашем, а в другом полку, но нашего же корпуса вообще был уникальный случай. С молодым, неопытным летчиком. После сбрасывания бомб, при выводе из пикирования бомба легла на плоскость крыла. Поднырнул под нее, а потом она и легла ему на крыло.
Как эта бомба не взорвалась. У него еще получилось ее сбросить и вывести самолет из пикирования – живыми остались. Хватило запаса по высоте, чтобы успеть.
***
Когда в момент захода на цель и прицеливания, при бомбометание с горизонтального положения, начинаешь маневрировать, штурман начинает там кричать. Штурман целится и корректирует, чтоб боевой курс выдержать, куда довернуть, самолет выровнять. Если только летчик начинал отклоняться, у штурмана цель сразу уходила из прицела. Иногда штурман кричит, а ты его не слушаешь – он уткнулся в прицел и ничего уже не видит. Что уже прямо по курсу снаряды начинают рваться.
При пикировании уже сам прицеливаешься.
Хотя, в любом случае, и при пикировании - чтобы попасть, надо выдержать курс.
В любом случае, штурмана слушаешь, пока слушается.. Он же не смотрит по сторонам, как от зенитки взрываются снаряды, как с земли трассы летят. С земли палят - из чего только могут. Иногда, штурман кричит: «уходит, уходит цель!» - а ты ему в ответ: «Бросай бомбы». А бывало и так, что приходилось и повторно на цель заходить. Задание надо выполнить, совсем мимо бомбы не станешь сбрасывать. За этим тоже следили и могли наказать.
***
Даже при горизонтальном полете, если выдержать курс и нормальному штурману дать возможность прицелиться, то точность попадания была неплохая.. А при пикировании, по дотам или в окопы по пулеметным «гнездам» – прицелились и прямо туда – плюс-минус метр, не больше разброс.
По тем же танкам попадали. Если правильно упреждение на скорость движения танка сделаешь – башни у танков отлетали. Не часто так получалось, но попадали.
«Пешка», в смысле точности бомбометания при пикировании, – сильный был самолет. Если и летчик, и штурман уже опытные, вместе уже хорошо слетались, притерлись, точность попадания хорошая была.
А если начинаешь маневрировать, то тогда уже не так точно.. Но – в пределах точности, как между собой в таких случаях оценивали..
Иногда спросишь штурмана: как бомбы легли? – если пришлось крутить.
- В пределах точности, командир.
Потому что штурман кричит: уходит цель, левее или правее… Иногда крикнешь в ответ: кидай - не командуй. А то и не отвечаешь, не до того.
***
Когда с горизонтального положения – то там хуже, конечно. Зенитки бьют, а тут надо боевой курс выдержать. В таких случаях по-разному было.
От командира много зависело, как он группу ведет в таком случае, как на цель заводит, маневрирует или никому не дает. Были такие – всех за собой как баранов ведет прямо на взрывы от зениток..
Или другое – под углом поставит всех, чтобы уменьшить площадь попадания, высота разная уже опять же – и с такого положения и бомбы скидывают. Куда они так уже попадают. Были и такие. Особенно уже ближе к концу войны.
***
А тут в пике свалил самолет. Когда без бомб, то и под 80 градусов можно. Особенно в такие моменты. От страха все настолько сжимается. Да когда другие, рядом с тобой летящие, погибают. Это если один-два из группы. А когда вот так – все и практически сразу. Потому что впечатление, что все это происходит в одно мгновение. Хотя оно, может, и минут десять этот бой длился.
За мной двое погнались, когда ушел в пикирование. Ни «мессеры», ни «фоккеры», да вообще, любые, и наши тоже, истребители под таким углом пикирования, как «пешка», не могли лететь. В штопор срывался самолет, становился неуправляемым.
Поэтому как бы на своем предельном углу пикирования сверху по курсу начали лететь, чтобы потом, когда из пике выходить будешь, сверху опять напасть. Но это мало кому удавалось, если опытный летчик на «пешке».
***
Разница в скорости еще. Они как бы вперед залетают, хоть и пытаются сбросить скорость. Но пикируют же тоже – скорость не очень уменьшишь. А курс выдерживают, по которому должен выскочить под них, если так прямо и лететь будешь.
Поэтому чаще всего мы не просто из пикирования выходили, а с разворотом, чтоб с этого курса уйти. Самые опытные немецкие летчики, поэтому, начинали доворачивать немного влево.. Потому что левый боевой разворот – это все так летали. И у нас, и у немцев – только в левую сторону боевой разворот.
И в училище так всех учили разворачиваться, и на тактических занятиях только такой вариант разворота рассматривался. А я себе как-то еще раньше сообразил, отчего только влево, почему тоже самое - вправо нельзя сделать.
***
Подумал, и как-то на «охоте», когда «мессер» погнался за мной – так от него ушел. Спикировал, он за мной летит и влево забирает, а я через правое крыло с разворотом. Он меня и потерял тут же.
Потом если один летал – всегда так уходил.
***
Даже без пикирования - тот же боевой разворот только через правое крыло. И сколько раз я так не делал, ни один немец за мной этого не повторял.
А если с пикированием, то они вообще теряли из виду. Потому что начинают сразу слева искать. По времени, вроде, должен уже выскочить под ними где-то. А тебя нет - они еще левее доворачивают. Не в землю же ты спрятался, должен вынырнуть, если не по прямому курсу, то левее. После пикирования скорость больше чем у них – должен их обогнать, то есть появиться под ними.
Они тогда сверху опять догонят и уже прижмут – не уйдешь. Только на «бреющем» тогда нужно уходить.
***
А «бреющий» полет – это своя опасность, свои там еще и варианты, и хитрости. Причем, это ж на предельно малой высоте нужно лететь, чтобы у них не было возможности атаковать. Если высота метров 50, а то и меньше даже, хороший истребитель может рискнуть и успеть сверху успешно атаковать. Под нужным углом вниз самолет поставить, и сам потом от земли увернуться.
***
А так вправо развернулся и ушел.. Я поэтому даже больше любил именно в одиночку летать, когда на «охоту» посылали потому, что если группой, то такое уже не сделаешь. Хотя большинство летчиков считали, что когда один на «пешке», то это гораздо опаснее летать, чем группой. Но были и такие, которые понимали, что одному даже лучше – когда ты сам себе командир. Для летчика, который уже имеет свой опыт и умение, свои отработанные приемы ведения боя, свой почерк, как любят говорить в таких случаях, когда никто не командует - лучше всего.
***
И от этих двоих я таким же приемом ушел. Из пикирования – с боевым разворотом через правое крыло. Они, видно, меня совсем из виду потеряли. Им сверху, когда ты над самой землей – разглядеть тяжело.
Так и вернулся один.
Зарулил на стоянку. Моторы выключил. Вылезли с ребятами. Стрелок-радист раненный, задело легко, а штурман – целый, нормально. Самолет весь в дырах. Фюзеляж, плоскости крыльев, и левая, и правая, где кабина летчика – все изрешечено. По дыркам видно, что насквозь пробивало и слева направо, и справа налево. Хотя сразу не рассматривал особенно. Просто глянул на весь самолет, на кабину свою.
Потом уже еще рассматривали, на следующий день. Видно, что не только одиночные попадания были, а просто очередями целыми были попадания. Сколько их таких очередей – чего уже там считать. Но не одна и не три. Некоторые от носа и почти до хвоста – дырки на одной линии. А некоторые снизу вверх. И так, и так попадали. То с одной стороны самолета входные, а с другой уже на вылет дырки. То наоборот.
Как ни в кого из нас не попала ни одна пуля – странно даже. Там же в пушках не пулеметные даже пули, почти снаряды уже.
Действительно, самолет был как дуршлаг вот этот, что на кухне используют..
Штурман и стрелок пошли вместе в медсанчасть. Вроде рана, что и в госпиталь не отправят, может быть, но – кто знает. Сразу после боя – раненый и не всегда соображает еще, больно или нет. Упадет по дороге.
***
Когда я вылез из самолета… Тут самого так настреляли, всего колотит… А как увидел на стоянке вещи разбросанные, ребята оставили.
Перед вылетом мы все вместе лежали на траве возле самолетов, пока ждали команды лететь, прямо на стоянке. Уже конец весны где-то был, все зелено, и солнце уже пригревало. Кто на какой-то куртке сидит, кто шинель взял и лег. Нас же много было – девять экипажей по три человека.
И кто во что горазд, как всегда в такие моменты… Кто там дремал, кто какие-то байки травил, кто какой-то соломинкой щекотал кого-то. Кто-то в чехарду, друг через друга прыгали, смеялись. Ну, дурачились, как дети. В таких случаях всегда так было, когда надо ждать приказа, погода хорошая. Возраст-то по 20 с небольшим лет у всех, а стрелки-радисты еще моложе были.
***
Вылез из самолета на стоянке. Увидел все эти вещи ребят, они их так и бросили, побежали по самолетам – вся эта картинка перед вылетом у меня в глазах встала: я их голоса, смех слышу еще, кажется…
Все это было каких-то минут сорок назад. Даже меньше. И все…
Только их вещи лежат.
Стоянка пустая, один мой самолет на стоянке..
Это ж все были друзья, товарищи, почти со всеми много месяцев и жили, и на задание летали вместе.
Что-то такое нахлынуло, даже объяснить тяжело. Обида, какая-то горечь такая… Внутри как-то аж запекло, сжало не сердце, а в середине где-то.
Говорят – на душе тяжело, а тут – не тяжело, а как именно душу запекло и, вроде, как кто-то сжал в кулак до боли. Не знаю, чего там душа есть.. Но оно не сердце схватило, а чего-то другое. И горло так перехватило – вздохнуть не можешь, кажется.
Не только за всех ребят, что только что сгорели. Как бы понимал, что, может, не все погибли – несколько парашютов видел. Хотя «мессеры» могли успеть добить из пушек уже, пока на парашютах висели. Выпрыгнул и парашют раскрыл живым, а приземлился мертвым – такое не раз случалось.
Увидел эти их вещи, но как-то не только за это сегодняшнее стало невмоготу, а вообще, за всю эту жизнь нашу всех вместе, свою жизнь такую почти с детства, как мать умерла и мачеха появилась. Что-то так сжало внутри, просто, как кто-то в кулак сжал как-то изнутри.. Как перевернулось что-то, оборвалось..
Сел возле шасси тут же. Штурман с радистом еще звали с собой. Махнул им рукой: уйдите, сами идите – они и ушли..
***
Не знаю, сколько я там просидел.
А тут приходит какая-то «матчасть».. Какие-то котелки мне тычет с едой.. Тут не то, что есть не хочется, тут..
Уйди отсюда, говорю.
***
Я Лиду до этого как-то даже и не видел вроде. Девчонки, которые как официантки столы накрывали, посуду убирали – те еще знакомы по лицам были. А которые на кухне поварами – их и не знали.
***
А хуже нет, когда вот так один из всех прилетаешь...
***
17. Козацька честь - Гвардейская честь
Были какие-то такие задания, которые так и остались какими-то... непонятными, что ли. Что за задания такое, для чего оно нужно было – такое впечатление, что специально кто-то что-то делал, как вредительство.
Может, это оттого, что в результате этого происходило. Если бы все нормально было, то так не стало бы казаться, такие бы мысли не закрадывались. Но все равно, даже если бы и все нормально закончилось, все равно какая-то странность, непонятность в таких заданиях была.
***
С тем же заданием, когда Немашкал, командир полка, погиб.
Оно мало того, как это все само было, но потом еще и свое продолжение все это получило. Еще во время войны история произошла. Своя такая ситуация, настолько неприятная, столько переживал.
А уже после войны, когда уже демобилизовался и в Киев переехали жить, оно еще по-другому узналось.
Когда встретились с Сапегами. Был у нас такой летчик Виктор Сапега. Он, как летчик, такой себе был – из тех, кто летал только тогда, когда уже весь полк должен был лететь. Обычно, его сами командиры старались не ставить в те группы, которые летали на задание. После войны он женился на Рите , которая при штабе, в нашем же полку, писарем каким-то была.
А Рита была по-своему такой любимицей, если так можно сказать, в полку. Ее все знали и хорошо относились. Она была как колокольчик такой для всех. Всегда что-то тараторит, не останавливаясь, как-то так весело, смеясь. Даже если настроение плохое, ее встретишь - все равно улыбнешься. Хотя не то, что она балаболка была какая-то. Но умела вот так со всеми разговаривать. Неунывающая никогда.
***
Когда уже в Киеве случайно встретились, стали по каким-то праздникам встречаться, то Рита заставила меня как бы по-другому взглянуть на то, что тогда произошло, когда Немашкал погиб.
Когда, кажется, на 9 Мая надел форму с наградами, в гости к ним пошли, и Рита меня первый раз увидела при этом параде, то так удивленно спросила: «Вася, а ты разве не Герой Советского Союза».
Я так, пожав плечами – нет. А она мне: «Странно, я сама видела, как Немашкал подписал представление на тебя – на Героя. Отдал его мне положить в папку для отправки, как раз в тот день, когда и погиб».
Я ей сказал, что ничего не знал об этом, никто мне не говорил. Первый раз от нее тогда только услышал, что было такое представление. Представление, это еще не значит, что и наградили бы, но тут другое.
Как-то так поговорили, выяснять дальше я не стал. Такая тема, видно и Рита тоже не хотела больше говорить, чтобы мне не досаждать таким разговором.
***
Немашкал недолго был командиром полка. Он стал командиром после гибели майора Тюрина в Умани. А случилось это где-то в середине апреля 44-го года – тогда вместе с Тюриным еще многие погибли. Своя трагедия была тогда в полку. Немашкал стал комполка, а сам погиб в конце лета.
***
В Умани тогда произошла, что называется, трагическая случайность. Тоже судьба еще. Девчушка, которая как оружейник была, сидя на бомбе, что-то сделала, что бомба взорвалась. Это как раз начали придумывать, как немецкие бомбы использовать. Где-то захватили при отступлении немцев. Вот она как раз с такой немецкой бомбой и возилась возле самолета.
Девчонка эта, как оружейник, недавно и появилась в полку. Месяца два прошло, как прибыла в полк. Говорили потом, что ей лет 18 было. Сидела сверху на этой бомбе – а бомба большая, аналог нашей 500-килограммовой. Готовила эту бомбу, чтобы подцепить к самолету
Командир полка вместе с другими командирами - в основном техники, оружейники, но были и летчики, - как специально, как раз почему-то осматривали самолеты.
Шли большой группой по стоянке, человек до тридцати. Они до нее, до этой оружейницы, не совсем дошли. Если бы рядом оказались – в живых вообще, наверно, никого бы не осталось.
Человек около двадцати погибло. Одних сразу убило, а другие позже, уже в госпитале, скончались. А из летного состава – именно из командного состава – погибли сразу. Те, которые впереди шли, рядом с комполка. Больше, конечно, из техников, оружейников погибло.
В центре Умани в братской могиле так и похоронили всех, кто сразу погиб.
Вот судьба – на войне и не знаешь, где погибнуть можешь. Тот же Тюрин, и погибший комэск Скоробагатов, да все там погибшие летчики – это были те, кто выжил, пройдя через такие бои. Почти все с 41-го года на фронте были.
А тут на своем же аэродроме, вроде бы и не в бою.
Так всех вместе с этой оружейницей и похоронили. Хотя от этой девчушки практически ничего и не осталось. От тех хоть было, что хоронить, а от нее… Те, которые занимались этим сбором останков, говорили, что какие-то кусочки красные с пол-пальца величиной находили. Сидела сверху, как на коне, на этой бомбе – как рассказывали те, кто видел и остался живым.
***
После гибели Тюрина, Немашкал стал командиром полка. Когда Немашкал погиб, после него командиром полка и стал Голицин. Он дела принял.
Не известно, отправили это представление – оно уже получается, что при Голицине должно было уйти. Или не стал этот Голицин отправлять, положил под сукно. Похоже, что так и сделал, порвал и выкинул то, что Немашкал на меня написал и подписал.
Хотя было такое на фронте, что все, что погибший командир - какие там награждения, отпуска – подписал или объявил, выполнялось. Тот, кто вместо него становился командиром – должен был обеспечить выполнение, как приказов, погибшего командира.
Но это так – как бы принято было так делать, в память о командире. Нигде это не прописано было, а как бы вопрос чести того, кто принял командование вместо погибшего.
***
Но Голицин, видно, выкинул это представление на меня. Так себе стал понимать уже тут, после демобилизации, в Киеве.
***
Иначе тогда объясняется и та перепалка, которая возникла тогда у меня с Голициным на одной гулянке, еще во время войны.
Это произошло уже через нескольких месяцев после гибели Немашкала. Когда мы чуть ли не подрались друг с другом. До драки, конечно, не дошло, не знаю, чем бы оно тогда закончилось. Если б драка уже по настоящему произошла. А так меня схватили хлопцы за руки, его тоже держали.
Голицин – командир полка, а я - командир звена. В условиях войны, во время боевых действий - кто-то командира полка ударил. В таких случаях кто там разбираться будет особенно. Трибунал, разжаловали бы. В лучшем случае, не отправили бы в штрафбат, а оставили летать, в другой полк перевели.
***
И с этим тоже какая-то странность.
Все равно, конечно, доложили тому же командиру дивизии, а то и Полбину, он еще живой тогда был. Тот же комиссар полка – ему положено было сообщать, а там еще и другие были, кто могли доложить.
Что лейтенант – а я тогда уже старшим лейтенантом был - бросил в лицо не только майору, старшему офицеру, а командиру полка тарелку со стола. В присутствии практически всего офицерского состава полка.
В полку была организована какая-то такая общая пьянка, почти все мы тогда сидели за столом. Летный состав, офицеры. Стрелки-радисты, как сержантский состав, не участвовали.
Не могли не доложить о таком ЧП. Это же не то, что огрызнулся каким-то словом. Даже на такое обращали внимание. Если что-то такое происходило, переводили в другой полк. В этой же дивизии или в другую дивизию. А то совсем отправляли на другой фронт, чтобы уже и не встретились.
Были такие случаи – известно было. Особенно, если младший по званию на старшего что-то там сказал. Просто словесная перепалка – через какое-то небольшое время, если оба живы, смотришь, кто-то из них куда-то переведен. Не всегда тот, кто был младшим по званию.
А если не просто со старшим по званию, а с командиром какая-то стычка происходила, это еще быстрее делалось.
***
Тут же все так и осталось. Не то, что хотя бы понизили в звании до лейтенанта. Мне даже взыскания не объявили. Вообще, это тоже свой показатель. Хотя и не понятно, почему так было.
Не знаю, как оно там и куда докладывалось, кто и что выяснял. Но я так и остался в полку летать, тем же командиром звена. А Голицин командиром полка тоже так до конца войны и был.
Вообще, тоже странно, что так все и осталось, после того, что произошло между нами.
***
Все это одно с другим если соединить, то вот странно это все получалось. Какое-то непонятное все от начала и до конца.
***
Немашкал погиб в конце лета 44-го.
Мы с ним вместе на то задание полетели. Вот тоже - само это задание. Что это было за такое задание? При том, как это все происходило. Мне сразу как-то странным показалось. Само поведение Немашкала.
Я тогда же не знал, что он, буквально, в этот же день отдал подписанное на меня представление для награждения Героем Советского Союза.
***
С самого начала непонятно все как-то было. И так одно с другим сплелось, что еще непонятнее стало. Что это было за задание такое, от кого, зачем?
Посыльный сообщил мне, чтобы явился на КП к командиру полка.
Докладываю, что прибыл, Немашкал мне говорит: «Будь готов, иди к самолету, сейчас вдвоем с тобой на задание полетим».
И все, что за задание такое, куда летим – ничего не объяснил. Причем, говорил это, а сам как-то нервно так себя вел.
В глаза не смотрел, какие-то бумажки перебирал. Обычно он так себя не вел. У нас с ним вроде отношения неплохие были, всегда так по-доброму разговаривал со мной. Когда другие задания давал, задачу ставил – не один раз так было. А тут как бы суетиться что-то, глянет на меня и вроде бы глаза прячет.
На это сразу как бы не очень внимание обратил, но все равно запомнилось.
Вышел от него пошел на стоянку к своему самолету. Посыльному сказал, чтобы экипаж позвал и техника к самолету. Пошел сам и еще тогда себе подумал, что это за задание такое, что командир полка сам летит, а с ним только один ведомый. Мы ж не истребители, парой «пешки» почти никогда не летали.
В начале войны такое бывало. И то редко, на «пешках» парой летать – это хуже всего. От такого быстро отказались.
Если на «охоту» лететь – только одним самолетом. Парой на «охоту» никогда не летали.
А так, одно звеном – принятая боевая единица была для «пешек». Да и то, в то время – это ж середина 44-го года была - уже так не часто летали. А тем более, если командир полка летел.
***
Начиная с командира полка, и все выше командиры – им запрещалось взлетать самим, если взлетало меньше две трети личного состава, находящегося под их командованием. А вообще, любой такой командир если взлетает – то все летят с ним. Командир полка – весь полк, командир дивизии – вся почти дивизия и летит. Кроме всего прочего, эти все самолеты обеспечивают и безопасность командира. При этом и истребителей прикрытия тоже свое количество положено.
А тут и не понятно, что значит - вдвоем полетим. Истребители прикрытия будут или нет.
***
Мой техник возле самолета оказался. Самолет заправлен, боекомплект тоже, самолет готов. Тут бегут штурман и радист. Спрашивают, куда летим. А я и сам не знаю, что им сказать. С бомбами летим или нет. Ничего не сказал.
Объяснил ребятам, что летим с комполка двумя самолетами. Они тоже так - как бы удивились. Ждем командира, наше дело телячье. Бомбовоз никакой не едет, значит, без бомб полетим, на какую-то разведку.
Смотрим, самолет командирский тоже готовят техники, экипаж туда подошел.
Через какое-то время на машине подъезжает Немашкал и, не подходя, не подзывая к себе, показывает, чтоб запускал моторы - за ним взлетать. Сам с экипажем своим в самолет полез. Мы тоже.
Прогрели моторы, Немашкал первым на взлет порулил, я за ним – взлетели друг за другом. Тут ни строиться не надо, сразу почти одновременно взлетели и пошли к линии фронта.
***
Через какое-то время подошло звено истребителей. Уже легче как бы. Есть прикрытие.
Облачность была. Как всегда в таких случаях, если была возможность даже и не большое облако, то в него залазили. Особенно, если один летишь, то так из одного облака в другое и прячешься. И с земли не так видно, и те же истребители, может, не заметят.
А тут такая хорошая облачность, так, что над линией фронта в облачности прошли. Вроде нормально.
Куда летим – не знаю.
За ведущим лечу. Куда он - туда и ты, как бы особенно и знать не обязательно. Хотя, как правило, всегда объясняли, хотя бы в общих чертах. Даже, когда большой группой лететь должны были. Мало ли что, хоть знать что делать, какая задача поставлена перед группой.
А тут два только самолета, а я ничего не знаю.
***
И тоже, как в том вылете, когда один из девятки вернулся.
Оно, конечно, когда с Немашкалом летели не совсем так, что вот немцы нас уже как бы ждали.
Мы из облачности как раз вылезли, а через небольшое время «мессеры» появились. Летели они как бы нам навстречу. То есть туда же летели, где и мы оказались. Случайно так или нет. На войне все, что угодно могло произойти. Если б это не командир полка летел такой парой со мной, то это можно было бы считать случайным совпадением.
Так с истребителями встречаться приходилось, и не один раз.
***
Но то, что тут летел командир полка, даже не звеном, а именно в паре, как-то сомнения и брали, и продолжали у меня оставаться, что эти немцы появились не случайно. Тем более, сколько их летело. Если бы пара, как они обычно летали тоже на «охоту», да пусть даже две пары «мессеров» - это одно.
А то их группа летела – шесть штук. Причем именно сами летели, никого не сопровождали. В то время истребители немцев уже редко летали такими группами. Они в основном только парами летали. Именно, чтоб истребители сами по себе летели.
В то время уже такие группы «мессеров» появлялись только, если своих бомбардировщиков прикрывали.
***
А тут, как специально. На три наших «яка» – три их, а остальные три «мессера» - на нас двоих. А две «пешки» против трех «мессеров» - это, в смысле ведения огня по истребителям, почти тоже, что ты один летишь.
Звено «пешек» - это уже не малая огневая сила. Даже без прикрытия – атаки двух-трех истребителей может успешно отражать. Если все экипажи сильные, опытные. Нет ни одного необстрелянного, ни среди летчиков, ни среди стрелков или штурманов.
А две «пешки» - это хуже, чем ты один летишь. Особенно, если ты не ведущим, а ведомым летишь. Сам уже ничего не можешь делать. Должен только все повторять за ведущим, чтобы сохранять нужную дистанцию.
***
Тут я ведомый. Моя задача - держаться командира. Все, что он делает, должен за ним повторять. А немцы нападают с хвоста. Задний самолет оказывается под прицелом как бы в первую очередь.
Когда взлетели, поскольку мне Немашкал ничего не сказал, каким ведомым мне лететь, я занял место правого ведомого. Хотя, когда не звеном летишь, то уже не так важно, справа или слева летишь.
А когда тут начали атаковать, то совсем уже прямо в хвост летишь. Не сам маневрируешь, а повторяешь то, что ведущий делает.
А атаковать-то начинают того, кто задний.
***
Поэтому парой на «пешках» летать было хуже всего.
Если хотя бы звено, три самолета, они плотно идут, если умело, прицельно отстреливаются – к ним значительно труднее подобраться, чем к паре.
Если один летишь, то уже сам маневрируешь, сам можешь решать, как действовать.
Пусть этих немцев и три будет – они все три одновременно не станут атаковать. Атакует все равно один. Второй, может, как бы рядом идти, с другой стороны. Если первый отскочит, чтобы сразу тоже начать. А если третий, так тот будет совсем в стороне, сзади, лететь.
Одному от двух «мессеров», не говоря уже о «фоккерах» - можно было уйти. К тому времени уже не один раз такое было со мной, уже имел опыт.
И не так уже и пугался этого. Свои приемы были, знал, как немцы действуют, как мне надо. Смотря, какая высота, как мы летим друг по отношению к другу. Это же разные все варианты. В зависимости от этого и действия разные.
А когда две «пешки», да еще летишь ведомым – хуже не придумаешь. Тебя атакуют, а ты не можешь маневрировать, должен идти за хвостом ведущего. Получается, ты зависишь полностью от того, как умеет маневрировать ведущий. Насколько он опытный.
***
Наши истребители оказались связанными в воздушной дуэли, а три оставшихся «мессера» начали нас с Немашкалом атаковать.
Правильно Немашкал делал или неправильно – можно рассуждать. Он же на «охоту», как я, не летал, у него этого опыта не было. Хотя тоже, не просто стал командиром полка - летчик опытный был. Но такого опыта, когда ты один летишь – у него не было, конечно. Он - именно как «охотник» - и не летал, наверное, никогда за все время войны.
А тут, что ты один летишь, что двумя самолетами – разницы почти никакой. Главное, чтобы ведомый успевал все делать за ведущим.
Не знаю, почему Немашкал так начал делать.
Ну, как привык, когда строем летели. А это же не строй. Если бы я был ведущий, сразу бы спикировал. Второй за мной и оба ушли бы. Тем более высота позволяла.
А так, Немашкал впереди летит, я за ним – уже прямо в хвост ему иду. Он маневрировать начал, я за ним повторяю, чтобы не отстать и не потерять его.
А начали атаковать меня. Кручусь, чтобы понять, с какой стороны будет тот первый, который начнет атаковать.
Двойка этих немцев как бы с двух сторон начинает подбираться. Они всегда так делали, и не сразу поймешь, кто из них первый будет стрелять. Да они и сами не всегда точно знали, кто начнет атаковать первым. Хотя кто-то из них тоже командир, кто-то ведомый. Но если у командира не получается что-то, а другому в прицел попадался – тут же огонь открывал.
Два эти «мессера» с двух сторон именно на меня как бы нависают, а третий сзади подальше летел. Не собирается атаковать, а как бы контролирует, чтобы неожиданно наши истребители не появились. В бою можно было так увлечься атакой, что не замечали, как их самих атаковали и сбивали. Это известно было.
***
Как точно оно там было, вспомнить и нельзя. В такие моменты все так напрягается, начинает вертеться. Ты вроде видишь сразу во все стороны и, одновременно, не все последовательно.
Сколько запомнилось, который слева как бы пошел на меня, вроде даже огонь открыл, очередь выпустил. Или даже и не стал стрелять по мне. То ли штурман, то ли стрелок из командирского, впереди летящего, самолета, как мне показалось и так запомнилось, его пуганул очередью.
Потому, что он как бы в сторону вильнул, а скорость уже набрал – газ добавил. Как бы проскочил вперед мимо меня.
Как только он проскочил дальше, что ему уже нельзя по моему самолету открыть огонь, - сразу почти все внимание на другой истребитель. Он стал самой главной опасностью в данный момент.
И тот, с другой стороны, сразу же начал меня атаковать. Видит, что первый «мессер» не сумел провести успешную атаку, сразу сам перешел к более активным действиям.
***
Поэтому я за тем, первым, уже не так наблюдал, на другую сторону голову закрутил и не видел всего, как оно было. Похоже, немец так проскочил мимо меня и оказался так, что самолет Немашкала ему можно атаковать. И он провел атаку, и успешно.
Мало того, что попал, а попал еще видно не только по мотору, но и ранил летчика. Не убил, а ранение, и тяжелое.
Такое становилось понятным по тому, как самолет начинался управляться.
***
К тому времени уже большой опыт был, пришлось насмотреться много разных случаев, как самолет падает. Убило сразу летчика или тяжело ранило.
Если летчика убивало, то самолет сразу начинал заваливать. Полная потеря управления. Там еще рука отпустила перед смертью штурвал или наоборот зажала.
Тоже по-разному.
А если ранение и тяжелое, то летчик еще пытается управлять. Самолет в таких случаях как бы то падает, то продолжает еще лететь. То сознание теряет, то, видно, вскинется, опять штурвал потянет, чтобы выровнять самолет.
Видно это и сразу понятно, что произошло. Не понятно, куда попало, но что летчик тяжело раненный - по самолету сразу видно.
Иногда по нескольку раз так самолет то заваливается, то выравнивается, пока летчик совсем сознание не потеряет. Или умер.
***
К тому времени уже пришлось насмотреться разных таких случаев, уже было и знание, и понимание того, что если так самолет начинает лететь – летчик уже не сможет спастись: ни выпрыгнуть, ни самолет посадить. Были и такие случаи – сам самолет вроде и не подбили, а в летчика попали – ушел в землю. Хорошо, если не весь экипаж.
***
Самолет Немашкала вот так и начал падать. И левый мотор задымился, не очень сильно, но сразу заметно. А главное, начал резко падать. Вроде заваливается на крыло, потом как бы выровнялся, но все круче уходит вниз. То вроде нос начал выравниваться, то опять клюнул.
Понятно, что летчик теряет уже сознание, но еще пытается управлять самолетом – тогда самолет именно так начинает лететь.
В таких случаях почти наверняка можно было говорить, что летчик уже не сможет покинуть горящий самолет. И управлять уже не сможет. Опытный экипаж в подобных случаях покидал самолет без команды, летчик уже ее и подать не всегда способен, ту команду.
Когда в группе строем летят, в таких случаях, если это самолет командира, уже не летят за ним следом. Когда группа летит, то уже только наблюдают: выпрыгнет кто-то – не выпрыгнет.
***
Оно, действительно, к тому времени уже разного насмотреться пришлось, опыт уже был.
И ведущих сбивали так, самолет начинает так падать, а сам самолет и не горит. За моей памятью, ни разу в таких случаях летчик уже не выпрыгивал. Экипаж или кто-то из экипажа еще успевал выпрыгнуть. А чаще всего, если летчика убило сразу – почти всегда так все вместе с самолетом и врезались в землю.
***
Но это когда группа летит, и командира сбили.
А тут мы парой летим. Да к тому же командир полка.
Я за ним тяну, хотя меня этот справа атакует. А тот третий тоже подтягивается сразу, слева заходит. Первый отстрелялся, попал – ушел с разворотом, теперь он станет в позицию третьего – будет ожидать, и контролировать ситуацию в воздухе.
***
Самолет Немашкала стал все больше и больше заваливаться. Из него еще какое-то время и штурман, и стрелок вели огонь по немцам, которые меня как раз продолжали атаковать.
А сам самолет как бы в пикирование уходит и, одновременно, с креном на левое крыло.
Для меня это и лучше, я за ним ухожу тоже в пикирование. Не такое крутое, как можно, но все равно - немцы уже не могут меня атаковать.
Несколько раз попытались обстрелять, но не попали. Попали, вернее, по самолету, но все целы. Запросил по связи - и штурман, и радист отозвались: целы. Когда по самолету попадает – оно слышно, как вроде на барабане дробь выбивают.
А самолет командира все круче вниз падать начинает, видно уже – все. Уже нет этих дерганий штурвала, летчик потерял сознание. Или умер уже. Кто уже скажет, что там и как было.
Никто не выпрыгивает из самолета. Ни от штурмана, ни от стрелка-радиста уже никто не стреляет – огоньков не видно.
По связи ни от кого из экипажа Немашкала ничего не слышно – не знаю, почему. Летчик погиб, стрелок-радист мог связаться. Не знаю, слышали меня, но ничего не отвечали.
***
Самолет уже так начинает падать, что и не выпрыгнет никто, даже будет пробовать. Скорость такая, покинуть самолет тоже не на всякой скорости можно. Пока горизонтально или близко к такому положению летит, выпрыгнуть можно, а если уже падает круто – от такого самолета не отделиться. А когда в штопор входит – уже все.
И тогда, самолет практически уже в штопор начал входить. Но никто не выпрыгивает.
Что тут делать? На хвосте три немца продолжают висеть, выжидают, что буду делать.
Они ж видят, что я не ухожу, продолжаю лететь как ведомый за падающим самолетом.
***
Штурману и стрелку крикнул, чтобы следили за самолетом Немашкала, докладывали, купола парашютов будут или нет. Сам - отжал штурвал, переводя самолет еще больше в пикирование. Хотя высота уже не совсем большая была.
Но хоть еще немного оторваться от немцев.
И штурман, и радист докладывают, через каждые там десять-пятнадцать секунд: нет куполов, нет куполов, нет куполов...
Никто значит уже так и не выпрыгнет.
***
- Самолет в земле, парашютов нет – не помню, штурман или радист сообщил.
Еще при выходе - опять же, как я всегда уже так делал, чтобы оторваться после пикирования от немецких истребителей, - ушел с правым боевым разворотом при выводе из пикирования, но довернул так, чтобы над местом падения пройти. Вдруг не заметили, а кто-то выпрыгнул, успел.
Чтоб своими еще глазами убедиться, мало ли что. Это ж командир полка погиб с экипажем. Будут выяснять обстоятельства гибели. Тем более, полетел на какое-то задание такое – двумя самолетами с небольшим прикрытием.
Кроме нас - свидетелей нет.
Немцев не расспросишь, а наши истребители и не понятно, где оказались. А, в действительности, кроме меня никто всего и не видел. Мой экипаж, и штурман, и стрелок-радист, назад смотрят, тем более - вели огонь по «мессерам», им некогда было следить за самолетом командира.
Над местом падения прошел так, с набором высоты. Хотя не стал специально набирать сразу большую высоту.
Самолет чуть в стороне догорает, нигде никаких белых парашютов на земле не видно.
Немцев тоже не видно – потеряли.
Ушел на высоту, опять в облачность спрятался - и к себе на аэродром. Уже над своей территорией пробил нижний край облачности и прилетел один.
***
Все эти разбирательства были. Несколько раз спрашивали, куда сам летел, когда наши истребители нас покинули.
Но так и осталось мне необъяснимым, что это за задание такое получил Немашкал, от кого оно исходило, что именно двумя самолетами мы и полетели. Почему он именно меня взял с собой.
Тогда я не знал, что оказывается, Немашкал почему-то на меня - именно в этот день - передал для отправки представление на Героя. Хотя такие представления не пишутся за полчаса. Наверное, он раньше написал его. А подписал в тот же день, когда отдал на отправку, или раньше?
Не знаю, когда подписал, но отдал на отправку, получается, в тот же день, когда и погиб.
Конечно, может, совпало так.
***
Какие-то такие вопросы, ответы на которые… И не знаешь, у кого спросить. Непонятность самого этого задания, да еще при этом погиб командир полка - само по себе сидело бы все время в голове.
А тут еще как продолжение к этому то, что с Голицин у нас произошло.
Тоже еще – вроде сам летчик, вроде командиром был давно. Командиром эскадрильи все же долго был. Причем, я же именно в этой 1-й эскадрильи и летал больше всего.
А тогда уже - он командиром полка стал.
***
В чем причина, что он такое позволил себе сказать, не знаю.
Как бы у нас и отношения были нормальные. Казалось бы, был командиром эскадрильи, в которой я летал. Друг друга хорошо знали.
После гибели Немашкала уже время прошло. По фронтовым понятиям – не мало. Не помню, почему эта общая гулянка была организована. Практически все офицеры полка. То ли 7 ноября уже отмечали. Наверное. Это ж уже 44-й год был, уже другая была ситуация и настроение. Наши войска наступают, победа близко.
Стол такой общий организовали в столовой – составили П-образно все столы и чем-то там накрыли. Все за этим столом уселись. Почему решили такую пьянку устроить – не знаю. Такое запрещалось устраивать. Возможно, из-за этого как бы и шума потом никакого не было. Не знаю.
***
Я так сел, что где-то в середине одного из краев этого стола сидел. Как бы поближе к месту, где Голицина посадили. Он, как командир, сидел во главе стола, для меня с левой стороны. Ну, метров так пять-шесть между нами было. Рядом с ним еще кто-то по бокам сидел. Начштаба, наверное, комиссар наш.
Практически только летный состав, но без стрелков-радистов. Они сержанты, а тут это было придумано для офицеров. Кто-то из техников-офицеров еще были.
Сидели все, какие-то тосты говорили. Еда была - почти все, как обычно. Может, немного там девчонки что-то сделали такое. Праздничное. Салаты какие-то, всякая ерунда такая.
Веселья особенного не было. Уже выпили по несколько стопок. Такой начался общий разговор, шумно так за столом стало. Как всегда, когда в разных местах по несколько человек начинают одновременно говорить.
Голицин сидел, с кем-то разговаривал. Не помню, кто там рядом с ним был. Наверно, начштаба или кто подсел. О чем они там разговаривали, не знаю. Я не прислушивался. Сидел чего-то закусывал, тостов не говорил. Кто-то что-то скажет – выпью со всеми. Такое какое-то настроение было.
***
Оно уже как бы и к концу эта пьянка шла. Некоторые там курить пошли, а я как раз вернулся с перекура. Опять сел, и как бы потянулся взять то ли салат, то ли еще что-то такое. Помню, в такой глубокой, большой тарелке. Оно, скорее, как тазик даже был.
И как раз в этот момент Голицин заговорил. И причем так громко, как бы привлекая внимание.
Ну, командир говорит, другие как бы примолкли. Что он начал говорить, я как-то не обратил внимание. Что-то про погибших, про тех, которые еще не доживут до победы. Что-то такое завел.
Я взял эту тарелку общую, чтобы себе положить. И вдруг слышу его слова..
- Есть среди нас и такие, которые своих командиров в бою бросают… Командир погибает, а они живыми остаются. Мы, мол, знаем таких…
***
Сначала я даже не понял, что это обо мне. С этой тарелкой вожусь. Все сразу затихли за столом, я глаза от тарелки отрываю, а многие на меня смотрят. Я на Голицина взгляд перевел – оказывается, он эту последнюю фразу говорил, глядя на меня.
Я не видел сразу этой всей ситуации, время какое-то прошло, пока догадался. Пока до меня дошло, что это он меня имел в виду. Если бы я видел, что он это говорил, глядя на меня, он бы, наверное, и не договорил всего, что успел сказать.
Но по тону слышал, как он это произносил. Он еще так всегда гундосил слегка. Не сразу понял, что, глядя именно на меня, он эти слова и произнес, что, мол, есть тут такие, которые бросают погибающих командиров в бою.
Поэтому все тоже стали на меня смотреть.
Пока я это сообразил, что это он обо мне такое сказал, намекая на случай с Немашкалом – из командиров за последние полгода, а, может, и больше, только Немашкал погиб.
Чувствую, кровь в голову прямо ударила.
Вот откуда-то снизу, от живота такая волна - просто в голову. Не знаю даже, такого до этого и не было никогда. Ярость какая-то или как это назвать.
У меня как был в руках этот тазик, как тарелка такая. Я в сторону Голицина это так и бросил.
***
Меня сразу с двух сторон за руки схватили, от стола потащили. Я еще чего-то попытался вырваться. Что-то кричал еще, там уже не вспомнишь.
Заметил, что Голицин тоже вскочил на ноги. Его окружили, тоже за руки держали, не давая и ему ко мне броситься.
Не знаю, попал я в него этим салатом или он увернулся. Он не так уж и далеко от меня сидел, метров пять, может чуть дальше.
***
Пьянка на этом, конечно, закончилась. Я уже к столу не вернулся, с этими же хлопцами, которые меня за руки схватили, так и пошли вместе к себе, где жили.
Не знаю, там еще кто остался, продолжали пить-гулять или нет.
***
На следующие дни не мог понять, так и осталось, почему этот Голицин тогда сказал мне такое. Еще было бы понятно, если бы сразу такое сказал. Пусть там, не в тот же день, когда погиб командир полка, а через несколько дней.
Меня тогда расспрашивали, что и как произошло. Это всегда так, особенно если командир какой-то погибнет. Даже прилетал какой-то подполковник то ли из дивизии, то ли из корпуса. Сначала донесение составили о гибели, причем этот же Голицин в этом и участвовал. А через день или два прилетел этот подполковник и еще раз меня расспрашивал обо всем, записывал за мной.
Пока все эти расспросы были, я ни разу даже намека не заметил, по вопросам, по тону, как вопросы задавались, чтобы кто-то вроде сомневался, что я правду рассказываю. Что сам убежал, а командира оставил с истребителями самого, его и сбили.
Ни от кого я не почувствовал, кто меня тогда спрашивал, и тот же Голицин присутствовал, что какие-то такие мысли у кого-то мелькают. Что я бросил в бою командира, сам стал спасаться. Я и место указал на карте, где самолет Немашкала воткнулся в землю. Штурману еще специально сказал, чтобы отметил на карте.
Какая бы там ни была горячка в бою, понимал, что все это будут выяснять и спрашивать. Уже сталкивался с такими выяснениями. Когда всех, кто там был, спрашивают, каждый свое место рисует. Эти данные еще и не совпадают зачастую.
Кто там чего видел, и как ему запомнилось.
***
Прошло столько времени, это у него, получается, внутри сидело такое. Что он, подвыпив, вдруг такое сказал. Хотя он и не был таким уж пьяным. Как и остальные, и я сам, не так уж много выпили тогда.
Причем, в присутствии всех, можно сказать, офицеров полка. Кто-то вышел тогда, но большинство были тут же. Если не сидели за столом, то рядом стояли.
Если бы у меня на тот момент в руках не это блюдо было, а пистолет, а бы, наверное, застрелил бы его.
Или, во всяком случае, выхватил бы его. На такие пьянки оружие мы с собой не брали. Хотя у нас такой пьянки общей и не было до этого. Чтоб весь полк участвовал. Но какие-то такие небольшие случались. Человек десять, может пятнадцать. То ли день рождения, то ли награды или звание обмыть.
И всегда кто-то из тех, кто постарше, сразу - оружие сдать, куда-то спрячет. Садимся за стол. Потому, что было известно, как такие гулянки могли закончиться, если пистолеты при себе. А так, даже если повздорили, потом уже на трезвую голову разберутся.
В тот раз тоже кто-то скомандовал, чтобы личное оружие с собой не брали, оставили там, где жили. Мы тогда по хатам каким-то жили.
***
Если бы был тогда пистолет с собой, не знаю, удалось ли мне сделать хоть один выстрел, или опять же руки заломили бы и вывели. Но помню, когда пришли к себе в хату эту, еще была мысль взять пистолет и пойти пристрелить его. Ребята соображали, пистолет мой тут же кто-то забрал. Самого меня не оставили – через час-другой уже как-то остыл. Протрезвел, хотя тоже не такой и выпивший был.
Оно, наверное, как и тот же Голицин, был не очень трезвый. Но и не пьяный.
Так оно и есть, что у пьяного на языке, то у трезвого на уме.
***
Тогда так и осталось мне непонятным, почему этот Голицин позволил себе так сказать. С чего он такое взял в голову – это одно. И почему только через такое время у него вырвалось это.
Мы с ним были не в каких-то приятельских отношениях, конечно. Но вроде бы нормальных. Он командир, я у него в эскадрильи. Сначала простым летчиком, потом командиром звена. Это ж мы не один-два месяца вместе пролетали, воевали рядом. Почти два года к тому времени в одном полку. Да больше года в одной эскадрильи. Казалось бы, кто может лучше его и знать.
***
Он старше был и по возрасту, и по званию. Начал войну уже старшим лейтенантом, кажется, и командиром звена. Но между нами вроде бы ничего не было такого, чтобы, как говорится, искры полетели. Нигде мы так не сталкивались, пока он был и командиром нашей же эскадрильи, и когда комполка стал.
И вдруг такое сказал. Что я из тех, кто бросают командира, чтобы себя спасти. Да еще с таким, то ли из-за гнусавости своей, тоном каким-то таким, как мне показалось.
Я понимаю, комиссар бы там такое сказал. Он почти не летал и мало что понимал в этом. Или техники какие-нибудь.
Но Голицин был опытным летчиком. Видел не меньше моего, что значит - самолет потерял управление. Находиться в таком состоянии неуправляемого полета, когда, фактически, начинается вхождение в штопор.
***
Мне что, надо было вслед за Немашкалом в землю врезаться? Тогда бы я не покинул командира до конца - так что ли?
***
А после разговора с Ритой, когда я узнал, что Немашкал перед своей гибелью на меня наградной лист отдал для отправки, понял, что Голицин тогда так и не отправил, по-видимому, это представление.
Не знаю, какие у него там были свои соображения сразу. Наверное, начали готовить документы на отправку и ему, как начавшему выполнять обязанности командира, эти документы, подготовленные еще Немашкалом, показали.
Он уже начинает за это все отвечать.
Похоже, что он спрятал под сукно это представление, а потом выкинул. Или сразу порвал, не знаю. Потому такое и сказал через несколько месяцев. Оно ему сидело в голове, хотел самому себе доказать, наверное, что он справедливо поступил.
***
Не знаю, насколько тут правильно догадываюсь. Уже ничего не выяснить, почему так было.
Немашкала не спросить, почему он так сделал с тем же представлением на звание Героя, что это было за задание такое. Почему он так как-то нервничал, как мне показалось, даже глаза как-то в сторону отводил. Что-то непонятное во всем этом было.
***
Какая-то загадка во всем этом так и осталась для меня. Что командир полка сам полетел с одним ведомым. Почему меня именно взял? Ладно, комэска не хотел брать – если что случиться, сразу два командира погибло. Заместителя комэска возьми – более опытный летчик, все равно так считалось. Из всех - меня почему-то выбрал.
Да при этом еще с этим наградным листом.
И эти немецкие истребители, которые, как специально, навстречу нам летели. Шесть истребителей, которые сами по себе летели – куда они так летели. Немцы в то время уже так почти перестали летать. Получается, они на нашу территорию куда-то летели, если думать, что они случайно нам встретились.
Мы почти сразу, как только перелетели линию фронта, вылезли из облачности. Но если они летели куда-то на нашу территорию, собирались тоже перелететь через линию фронта, почему не летели в этой же облачности?
Непонятным все это так и осталось, что произошло тогда, на задании с Немашкалом, и позже.
***
-----------------------------------------------------------------------------------------
18. Встреча с американцами
***
Когда к награждению представляли, только боевые вылеты учитывались. Как будто только во время таких полетов могли погибнуть. А во время других не погибали, что ли. Сколько самолетов разбилось и экипажей погибло при перелетах с одного аэродрома на другой. Когда полк перебазируется, перелетает на новое место.
Не только молодые, а опытные летчики разбивались. А как вылеты и не считались.
***
С той же Ритой , как она рассказывала. Когда на новый аэродром перелетали, то все, кто были из наземных служб, часто старались с кем-то на самолете перелететь на новое место.
Быстрее устроиться, лучшее место занять. Такое. Запрещалось это делать. В таких случаях всегда определялось небольшое количество техников, оружейников, кто вместе с полком перелетают. На первое время, чтобы не сорвать выполнение боевых заданий. А чаще – заранее отправляли как бы передовой отряд, подготовить там.
А потом полк перелетал. Остальные позже уже добирались.
Поэтому некоторые хитрили, кто старался договориться с кем-то из летчиков, чтобы если не в самолет взял, то хотя бы в бомболюк. А некоторые сами старались туда спрятаться. Залазили в бомболюк, оно там закрывается, так и перелетали.
Все летчики знали это, проверяли такие места – обычно выгоняли. Было, и перевозили так. Если кого-то берешь так в самолет, даже по приказу командира, экипаж уже парашюты не одевает. Всё уже - чтобы не произошло, так вместе уже и будем. А произойти могло все, что угодно.
Летишь так и уже как-то не так себя чувствуешь. На одну возможность спастись у тебя уже меньше, надо только садиться на вынужденную, если что.
Вот и с Ритой тоже. Она залезла так без спросу, как рассказывала. Время было к вечеру, думала, в темноте ее не заметят. Или летчик не станет проверять.
А летчик пришел и вытащил ее оттуда. Хороший вроде бы и летчик был, этот парень. Он не из нашей, из второй эскадрильи был. Рита его фамилию называла, уже не помню.
Она начала упрашивать его: «Санечка, миленький, возьми меня, пожалуйста».
Он ее отгоняет, а она проситься.
Пока он ее не взял за плечи и, глядя в глаза, не сказал: «Рита, тебе еще жить нужно», - повернул и в спину толкнул еще так. Не то, чтобы сильно, со злостью, а как бы наоборот.
Она еще обиделась на него за это.
А этот экипаж так и не прилетел – разбились. Погода была плохая, облачность низкая, да еще вечерело. В тот раз несколько экипажей при перелете на вынужденную сели.
А этот Саша разбился, все погибли.
Потом эта Рита долго вспоминала его взгляд, когда он ей сказал, что «тебе еще жить нужно». Он на нее не ругался, а как-то так на нее посмотрел, как вроде просил ее уйти, чтобы живой осталась.
***
Погибали не только при боевых вылетах. Самолеты разбивались. Тот же экипаж Амбросимова сразу после окончания войны разбился. На парад Победы несколько самолетов из нашего полка надо было перегнать в Москву. Полетели и где-то в Карпатах воткнулись в гору.
Войну прошли, живыми остались. А тут погибли.
После этого нас отправили перегнать самолеты в Москву для парада уже из какого-то запасного полка, который и не участвовал в боях. Меня как раз командиром этого отряда назначили. Ехали поездами через Германию, Польшу, через Львов – со своими приключениями. Из-за поляков чуть под трибунал не попали.
В параде мы не должны были участвовать, а наша задача была пригнать в Москву самолеты, на которых участники парада должны были лететь.
Это с разных полков тогда так собирали самолеты для участия на параде в Москве.
***
Или тоже, самолет сел на вынужденную, посылают его забрать. Чтобы на аэродром прилететь на нем. Несколько раз так отправляли. Какой-то экипаж сядет в поле, а забрать самолет и прилететь уже других посылают.
Один раз нас так с Костей, штурманом моим, отправили, чуть живыми остались.
Причем даже не нашего полка был самолет. Из соседнего полка сели, а забрать самолет нас отправили.
***
Поехали мы с Сафоновым и еще техника нам дали. Несколько бочек с горючим, чтобы заправить. Чтобы оттуда до аэродрома долететь, около часу лету. Как бы рядом.
Команда, как всегда, на месте разберешься и определишь, можно взлететь или нет. Не рискуй, но постарайся, мол, прилететь.
Добрались туда. Эти ребята из соседнего полка от села недалеко так сели. Они уже в темноте садились, может, и не совсем разобрались, что возле села упали.
В первый день, как туда приехали, под вечер где-то, сразу пошли к самолету. Техник начал смотреть, что и как с самолетом. Я тоже с ним смотрел.
***
А ребят настреляли где-то, весь в дырках самолет. И фюзеляж, и крылья – очередями прошивали со всех сторон. Досталось им, конечно.
Садились не на шасси, самолет от удара об землю тоже пострадал. Обшивка где-то оторвалась, заклепки в каких-то местах не выдержали.
Но посмотрели так с механиком - вроде бы самолет не очень поврежден. Бензопровод надо заделать, еще что-то. Но такое, что можно починить и сделать такой подлет небольшой.
Механик до темноты там возился, чтобы утром меньше было, а мы с Костей еще пошли смотреть, как можно взлететь. В темноте уже особенно не разглядишь, но все равно.
***
Ходили-рядили, как ни прикидывали, а получается единственная возможность – это взлетать по дороге, которая между хатами проходит.
Еще весна такая ранняя была. Снег только сошел, земля вся мокрая. Посмотрели – по полю никак не получиться. Увязнет, перевернемся. Там овраг еще, там косогор. Получается, только по этой улице между хатами можно разбег сделать. Она как раз прямая такая и как бы по ширине подходит, ничего не мешает. Вроде так прикинули, а решать уже на следующий день будем.
***
На следующее утро механик сразу к самолету, а мы с Костей начали уже прикидывать более точно. Одновременно какого-то дядьку местного привлекли, он как председатель колхоза. Без руки, вернулся недавно – это село под немцами было. В селе одни старухи почти.
Попросили этого председателя собрать кого можно – надо самолет на шасси поднимать. Потом протащить ближе к началу улицы. Каких-то двух коров нашли, чтоб подтащить. Это наш механик и этот дядька всеми командовали.
А мы с Сафоновым шагами по нескольку раз вымеряли длину разбега, ширину в разных местах. Как не мерили, а мешает дерево. Тополь как раз так в конце этой улицы рос. Высокий такой, не сможем взлететь, заденем.
Надо его спиливать.
***
Вот это с утра, чуть рассвело, как началось, мы уже и не обедали, хотя нас звали поесть. Старались успеть, чтобы засветло взлететь и к себе прилететь. Еще такая погода, что вот-вот дождик пойдет, тогда уже не взлетишь. Так, хотя бы это дорога уже подсохла, а так и ее развезет. Придется несколько дней куковать.
Хотя тоже, казалось бы, зачем спешить. Быстрее на боевое задание попасть – никто особенно не стремился. На следующий день взлетели б. Пошел бы дождь - через несколько дней полетели. Но все равно – спешили побыстрее вернуться. Задание выполнить.
Пока самолет подняли, пока там механик еще прикручивал, пока на этих коровенках самолет подтащили. Дерево пока спилил – уже дело к вечеру. Меня в шею никто тут не гнал, сам как-то настроился улететь именно в этот день. Сафонов, кажется, даже и говорил что-то, что, может, не нужно спешить, завтра полетим.
***
Вроде все приготовительные работы сделали. Моторы запустились. Приборы как бы все нормально показывают. Те, которые работают. Какие-то не работали, но они и не нужны были для такого полета. Вроде, самолет слушается штурвал, можно лететь.
Мы с Сафоновым залазим в самолет, механика не берем.
Он еще начал было проситься, но я ему сказал: «Куда ты лезешь уже. Не видишь, по какой улочке да между хат мы будем пробовать взлететь. Если погибнем, то хоть не все уже. Доберешься сам в полк».
Он и отстал, понял, что лучше на попутках добираться, чем так рисковать.
***
Немножко подрулил еще самолет. Начал разбег, набирать скорость.
Когда шагами мерили, казалось достаточная ширина улицы. Какие там, в селах, дороги между хатами. Два воза чтобы разъехались, да еще немного с двух сторон.
Когда самолет начал набирать скорость, дорога-то не очень ровная, ямы какие-то. Да еще сверху как бы подсохло, но глубже глина мокрая. А самолет тяжелый.
Начинает самолет юзом водить из стороны в сторону. Секторами газа выравниваешь самолет и добавляешь газа, а у самого все стынет.
В такие моменты всего колотит, а надо плавно управлять и рычагами газа и штурвалом. Сильно дергать нельзя.
Правой рукой штурвал держишь, а левой рычаги газа передвигаешь. Два эти рычага слева находились. Их надо одновременно передвигать. И то один, то другой чуть больше – чтобы выравнивать самолет. Пальцами так по чуть-чуть.
Когда тебя начинает тащить самолет, там, в дерево какое-то или сарай, хочется до упора дать газу, чтоб взлетел самолет, а именно этого и нельзя делать. К тому времени уже много раз в таких условиях взлетал, когда самолет вот так не отрывается от земли, начинает из стороны в сторону водить. Но это на аэродромах полевых все равно было. Там тоже какие-то деревья или овраги часто бывали. Но все равно, это же в поле. А тут между хат этих. Заборы какие-то, деревья возле хат. Чтобы зацепиться и перевернуться – много не надо.
При таких взлетах сразу, то левое крыло, то правое крыло уходит вперед, вот-вот ударишься, зацепишься то ли за дерево, то ли еще за что-то. А тут с двух сторон, в какую-то из хат врежешься.
Спасло, что уже был опыт таких взлетов. Не один раз уже приходилось взлетать, когда никто не летал. Когда самолет вот так крутит, но, правильно регулируя обороты на моторы, уже умел выравнивать самолет и взлетать. Даже с бомбами. Но то на аэродроме, все равно какая-то взлетная полоса там есть. А тут же между хат разбег надо сделать.
***
Страшно еще больше добавлять газ, а если не добавить – не взлетишь. Обмирает все внутри, а толкаешь все больше рычаги газа, обороты добавляешь.
Конец улицы уже набегает, а там пень этот от тополя торчит. А за ним еще какая-то хата или сарай. Хочется до упора сразу рычаги отжать, уже расстояние предельное, а нельзя. Надо понемногу добавлять, чуть сильнее передашь – уйдет самолет в сторону, гореть будешь в заборе том или в деревьях возле хат.
***
В такие моменты, когда чувствуешь, что нельзя, а сам делаешь и понимаешь, что вот еще немного и уже не остановишься. Или ударишься, зацепишься – или взлетишь.
Чудом каким-то самолет удержал на прямой и скорость успели набрать. Оторвался самолет, сумели над хатой, которая за этим спиленным тополем стояла, пролететь. Тоже тогда в миллиметрах от смерти пронеслись.
Хорошо, что эта хата боком так стояла, не торцом крыши, а в длину. Показалось, что даже шасси слегка коснулись крыши хаты. Качнуло так вверх. Видно, за счет того, что шасси крутнулись, так и удалось перескочить. Если б не крутились – там бы были. Или немного выше шасси касание было бы, что не прокрутилось, зацепились и все.
Как всегда при таких взлетах – сразу мокрый весь: и спина, и задница. Чувствуешь, как струйки пота текут, и минут пять-десять приходишь в себя. Всего колотит, сердце в горле, кажется, бьется.
***
Самолет набирает высоту, еще как бы в себя не пришел, но глаза уже по приборам пробегают. Смотрю – давление воды падает. Когда на земле смотрели, запускали моторы – на холостом ходе вроде все нормально. А когда полетели, давление поднялось, а где-то водопровод от удара согнулся, какая-то, видно, трещина образовалась – и уже в воздухе вода из системы охлаждения начала вытекать. Надо срочно садиться куда-то.
Лететь можно не больше десяти-пятнадцати минут. Штурмана спрашиваю, куда ближе всего можно сесть. Он говорит, как раз должны успеть на аэродром, где стояли недели две тому назад. Дал мне направление, на этот курс легли. Сафонов еще так говорит: «Вот, хорошо, сейчас прилетим, пойдем к своей хозяйке, поужинаем хорошо».
Мы на этом аэродроме долго стояли. В одной хате у тетки вместе с Костей жили, она к нам хорошо так относилась, вроде как к своим детям.
***
Аэродром знакомый, поэтому только из-за леса выскочили сразу на посадку. Не как обычно, а с другой стороны сели. Уже когда покатились по полосе, смотрим, а какие-то самолеты не наши стоят. Несколько штук, но большие такие.
Что-то вспомнил, что говорили нам, что американцы, самолеты дальней авиации, должны начать бомбить Германию. С аэродромов во Франции или откуда там будут взлетать, а после бомбежки у нас садиться где-то будут. Опять заправляться, бомбы брать и отсюда опять лететь бомбить Германию, чтобы потом там сесть. Челночные такие полеты.
Когда уже сели, эти самолеты увидели, вспомнил, что нам говорили, чтобы мы не садились на этот аэродром. Не объясняли почему, но приказ – садиться на такие-то аэродромы запрещено. Несколько аэродромов называлось, наверное, американцы выбирали какие из них подойдут. Запасной еще.
Похоже, они как раз тогда делали первые пробные полеты. Проверяли аэродромы, хватит ли длины полосы. Качество взлетных полос.
***
Зарулили на стоянке на свое привычное место, хотя можно было куда угодно – пустая стоянка была. Не успели мы со штурманом вылезть из самолета, едет легковая машина. Джип, тоже американский. Выскакивают из него два полковника. Один в летной форме, а второй – «красноголовый».
Этот общевойсковой полковник с матом на нас, какого вы тут сели, не знаете, что запрещено сюда приземляться. Это аэродром только для американских самолетов. Нарушаете приказ самого главкома, секретный объект гитлеровцам хотите раскрыть.
***
Такое говорит, что и не поймешь, что ему сказать.
Откричался, я докладываю им. Смотрю больше на этого в летной форме, что выполняем такое задание, переправляем самолет с вынужденной посадки на свой аэродром, в воздухе была обнаружена неисправность, требуется ремонт водопровода.
Опять этот начал кричать, снова ругается. А в летной форме полковник как-то молчит. Выяснили, что у нас вода вытекает, лететь не можем. За пятнадцать-двадцать минут полета воды почти не осталось. Надо отремонтировать, заправить водой, а потом сможем улететь.
Опять: вашу мать, перемать, какой ремонт, улетайте.
Смотрю на них – два полковника, конечно, но куда лететь. Взлететь и через пять минут в землю воткнуться.
***
Что-то они отошли от нас, поговорили между собой. Потом этот летчик или кто он там был: сколько вам воды надо. Сказали.
- Хорошо, стойте возле самолета. Сейчас приедет заправщик, воды зальете и улетайте. Никакого ремонта.
***
Что-то еще добавил, что если не послушаемся, то, чуть ли не под трибунал пойдем.
Сели в свою машину и уехали. Мы с Костей стоим, друг на друга смотрим. Сафонов еще так выразился: «Ну вот, прилетели. И поужинали, и переночевали».
Не знаю как у Сафонова, а у меня даже какая-то обида внутренняя была. За что так накричали, обругали? Тут, чуть живые остались, когда взлетали, успели сесть, чтобы самолет сохранить. На тебе, прямо в шею выталкивают – лететь на неисправленном самолете, уже темнеет.
Что мы голодные, воды некогда было попить, торопились успеть, чтобы засветло прилететь – это никого не интересует.
***
Что делать, не сообразишь. Своему командиру попробовать доложить, не дадут позвонить. Улетать – может, и сумеем долететь. Осталось лететь минут тридцать до своего аэродрома. Но можем и не успеть, двигатель заклинит в воздухе. На вынужденную опять куда-то надо будет садиться. То же еще своя история будет…
Стоим, ждем, когда приедет заправщик.
***
Смотрим, как раз по направлению к нам идет какая-то группа людей. Они ближе подошли, видим - идут человек восемь и какие-то не наши. Догадываемся, что американцы, экипаж идет к своему самолету. Может, не только экипаж.
Все в одинаковых светло-коричневых кожаных комбинезонах. Красивые такие комбинезоны, карманов много, на молниях. Один в фуражке, остальные кто в пилотке, кто в шлемофоне. Подошли к нам, остановились.
Мы с Сафоновым стоим возле самолета, они так рядом. Смотрим друг на друга, они больше самолет наш разглядывают, на нас поглядывают только.
Почти все американцы уже не молодые, уже за тридцать лет всем, а нескольким и больше. У одного уже и седина, может, командир. Все высокие, на голову выше нас с Костей.
***
Они на нас поглядывают, а мы на них. Союзники. Встретились. Я понимаю, что они на нас как на детей смотрят.
Мы стоим в наших этих черных комбинезонах, матерчатых. У меня где-то метр шестьдесят пять, после ранения, когда спину сломало, я сантиметров пять роста потерял. А Костя еще и пониже меня ростом был. Возраст у нас – по 23 года.
В основном на самолет смотрят. По глазам видно, что им не приходилось еще видеть такие пробоины у самолета. Еще и сами не знают, что значит - побывать под таким огнем. Каких-то улыбок, что шуточки между собой говорят – не видел.
Эти же американцы не знали, что это не нас так обстреляли немцы. Просто видят, что самолет в дырках весь. А мы рядом стоим. Значит, это мы остались живые после такого.
Хотя после нескольких заданий и мой самолет такой же прилетал.
***
Кто-то из них даже обошел с другой стороны. Между собой что-то тихонько перекидывались словами, но больше молчат. Молча рассматривают наш самолет, иногда на нас поглядывают.
Мы тоже молчим. Мне еще как-то так за комбинезон Сафонова не удобно. Старый уже был, скоро должны были новые выдавать, поэтому у него со всех сторон какими-то лохмотьями висело, дырки.
Я еще как-то старался, если сильно разорву, зашить свой, а Костя никогда иголки в руки не возьмет. Оторвется, клок висит, так и ходит.
Да еще пока лазили по этой глине – замазались, и сапоги, и сами перепачкались. И на коленях ползали под самолетом. Помыть даже руки времени не было, спешили. Вид у нас с Костей по сравнению с этими американцами, конечно, еще тот был.
***
Американцы эти стояли, никуда не спешили вроде. Пока они на нас так смотрели, самолет наш рассматривали, ни разу никто из них не улыбнулся. Наоборот, как мне показалось, они как бы не верили, что можно было остаться живыми с такими пробоинами. Наверное, они еще такого и не видели никогда. Понимают, что самолет только что из боя. Снизу еще там висело, оторвано было так, что внутренности видно. Без шасси посадку совершали. Когда на вынужденную посадку садились, на «брюхо», всегда что-то отрывалось, отлетало.
***
Тут едет заправщик. Выскакивают несколько человек, начинают нам воду заливать. Горючее тоже залили. Под завязку залили и воды, и горючего. Все готово, ничего не жалко – только улетайте.
Американцы эти чуть в сторону отошли по направлению к своему самолету, когда начали заправлять. Но недалеко так остановились и продолжали стоять, видно, хотели посмотреть, как взлетим. Может, не верили, что на таком самолете можно взлететь.
***
Залезли с Костей в самолет. Моторы запустил, прогревать уже не надо. Не так давно только сели. Спасибо этим полковникам, остыть еще не успели.
Такое настроение из-за этих полковников, которые наругали ни за что, что вот так заставляют лететь. А тут еще американцы такие разодетые, ухоженные. Из-за них - ты хоть разбейся, никому нет дела.
Сам себе думаю: ну, ладно, сейчас я вам покажу, как мы летаем. Аэродром был знакомый, мы там долго сидели, хорошо изучили. Как стоял самолет, не стал выруливать на взлетную полосу, чуть повернул, и прямо поперек взлетной полосы и взлетел.
***
Как раз это было в нужную сторону, чтобы в воздухе уже не доворачивать, время не терять.
Долетели с Костей, успели на свой аэродром, еще даже и не совсем в темноте садились. На пределе видимости. Задание выполнили и с американцами тогда так повстречались.
***
С этими американцами, их полетами, тоже было дело. Позже, когда они уже стали летать своими группами. День какой-то был такой теплый, солнечный. Нас человек двенадцать, наверное, в траве лежали на солнышке. Команды на взлет ждали. На аэродроме, но не совсем так рядом с самолетами. Как бы все спокойно, а тут слышим гул самолетов.
Что значит паника.
Казалось бы – все летаем. Самолеты знаем, отличаем свои - немецкие. Американские как бы не очень знали. Но все равно. Кто-то глянул вверх и крикнул: «Немцы».
А эти самолеты летят, ромбом у них такое построение, как и у немецких бомбардировщиков было. Большая такая группа летела и уже близко над нами.
Один крикнул, кто-то один сорвался бежать, и все побежали, кто куда. Самим бомбить опыт уже был, а от бомб прятаться – опыта не было. Кто в кусты какие-то запрятался, кто стал чуть ли не землю рыть руками…
Когда кто-то присмотрелся, крикнул: «Это американцы. Отбой воздушной тревоги», - собрались вместе и стали друг над другом смеяться. Потом еще долго вспоминали и подшучивали, кто куда бежал, кто кого обогнал, какой травой или ветками пытался замаскироваться от бомб.
Опыта, как у той же пехоты не было, куда надо прятаться при бомбежки. Когда сам бомбы бросаешь, еще не означает, что умеешь от них прятаться.
***
Среди этих американцев, может, кто-то из родственников тогда летал. Это уже после войны узнал, что - мне они троюродные или какие там - два брата были американскими военными летчиками.
Отец мой, дед Иван, рассказал, что когда его отец, мой дед Павло, ездил на заработки в Америку, то во вторую поездку с ним поехал его брат двоюродный. То ли по матери, то ли по отцу, не знаю. Дед Иван что-то объяснял, но так и не понял. Вроде не по отцу – у него другая фамилия была.
А дед Иван, оказывается, поддерживал связь, даже переписывался с кем-то. Когда уже хрущевские времена наступили, даже какие-то хустки получал посылкой.
Дед Павло со своим этим братом как раз оказались в Чикаго на заработках в шахтах. В то время, когда там известные волнения рабочих были.. То, что потом стало отмечаться как первомайский праздник.
И принимали участие тогда в тех волнениях рабочих в Чикаго. Вроде бы, сам дед Павло не очень там был активным участником, а его этот родственник, брат двоюродный, чуть ли не как один из организаторов был.
Когда полиция начала искать его, чтобы арестовывать, то этот брат убежал в Бразилию. Сначала его хотели арестовать. Когда он убежал, то деда Павла тоже хотели арестовать, как родственника. Кто-то его предупредил, и ему пришлось тоже убегать, но он вернулся домой, в Украину.
А тот брат через какое-то время вернулся опять в Америку. Туда же в Чикаго. Женился на какой-то местной девушке, так и остался там с семьей. Там у него родилось два сына, которые оба стали американскими военными летчиками.
В годы войны они уже не молодыми должны были быть. Не знаю, по сколько там лет, но вроде, должны были еще и летать. То, как мне отец рассказывал, прикидывали возраст, получалось, что старшему где-то около сорока лет было к концу войны, может за сорок.
По возрасту, они во время войны должны были еще служить в армии. Их отец помоложе был, чем дед Павло. А женился, когда сам уже был в возрасте, не молодым. То есть его дети получались младше, чем мой отец – Иван Павлович,- но постарше, чем я, лет на десять-пятнадцать. Они были мне как троюродные дядьки, или какие там.
То есть они, как военные летчики, вполне могли принимать участие в боевых операциях американской авиации.
Интересно, конечно, по-своему. И они, и я стали летчиками. Какая-то одна линия получилась. Родственники все-таки.
Может, тогда один из тех американцев и был моим родственником, кто знает.
***
19. Разные мелочи бывают
19.1 Мышь-пикировщица
Как-то в нашем самолете завелась мышь. И долго она с нами летала. Месяца два-три. Хлопцы ее даже прикармливать начали. Особенно стрелок-радист. Команда: «по самолетам», залазим, включаем связь, приборы, моторы прогревать – он сразу докладывает: «командир, мышь на месте».
А бывало, запрашиваешь экипаж о готовности, а стрелок молчит. Взлетать уже надо. Потом отзывается, что он еще не успел подключиться, мышь эту искал, какие-то крошки подбрасывал. Поэтому и не отзывался на вопрос, готов экипаж или нет.
Поверье это, оно, правда, о крысах, но все равно: что если крысы покидают корабль, то он погибнет.
Ну и здесь, если мышка в самолете с нами, значит, не собьют.
И так и летали. А как-то иду к самолету на задание лететь, а штурман с радистом стоят уже возле самолета. И такие какие-то непонятные. Хмурые, головы вниз повисли.
Я подошел к ним, спрашиваю: «чего вы такие, случилось что-то»
Сначала отмалчивались. Времени нет расспрашивать – лететь надо. Штурман, Сафонов Костя, говорит: «Командир, мышь пропала».
- Куда пропала?
- Нет ее в самолете, я уже все места обыскал, - стрелок-радист говорит.
Посмотрел на них двоих – стоят, как вроде их водой облили.
- Да, ладно тут разводить поверья старух всяких, ерунда это все – говорю им, - полетели.
Нормально вроде бы слетали. А еще несколько недель все как-то и у самого на душе муторно было. Что мышь не так просто пропала. Такие вещи, они как бы улучшают настроение, а потом – другое получается. На подобное лучше не очень обращать внимание.
19.2 Чиряки.
Не знаю, из-за чего это было. Может заражение какое-то. Хотя доктор потом говорил, что это и на нервной почве могло быть. Это уже 44-й год был, в летние месяцы.
В начале лета, жарко уже стало, чиряки такие появились. Или фурункулы их еще называют. Сначала на спине несколько. Один пройдет, а другой появится. Большие такие какие-то, с белыми головками такими, насколько я там мог рассмотреть. Не знаю, откуда оно взялось. Какое-то время так на спине только были, а потом все больше. Со спины ниже пошли. Оно может с месяц так тянулось или побольше. А потом уже и на заднице, и на ногах все больше стало этих чиряков, да так, что и летать стало невозможно.
Я еще какое-то время так и продолжал летать. Больно, сесть нормально не мог, а пойти к врачу как-то неудобно. Тоже мучался. Одно дело там за стол сесть, а другое в самолете. Даже придумал из двух парашютных чехлов такие валики сделать. Под ноги с двух сторон себе так подсовывал, и получалось, что не сидишь в кресле, а как бы на весу. Так и летал какое-то время.
Тоже было, надо взлетать, а я в кабине как та курица на насесте взмащиваюсь. Штурман видел, что я чего-то там каждый раз перед вылетом вожусь, а больше никто и не знал. А оно уже и теми ремнями нельзя, как надо, к креслу пристегнуться. На какие-то задание летал, даже вообще не пристегивался. А это тоже могло закончиться плохо.
Недели две или сколько там тянулось так, пока в одном из боев не прихватили истребители так, что надо было по-настоящему крутиться. Уже не до этих чиряков стало. Эти «валики» из-под себя выкинул, чтобы в кресло сесть как надо…
***
Когда я крутился во все стороны, оно там, видно, все раздавилось. Во время боя ничего не чувствовал и не болело ничего. А уже когда к своему аэродрому начали подлетать, начал в себя приходить – чувствую мокро у меня все. Такое впечатление, что вроде как обделался. Сначала еще так подумалось: неужели и у меня «желтая кровь» потекла. Как между собой на фронте шутили. Такое случалось на фронте, особенно если молодые, в первые вылеты.
Вроде ничего такого уж необычного в бою этом не случилось, тут уже столько отлетал. Ни разу такого не было, а вроде как «желтая кровь» потекла.
Потом как бы начало доходить, что это, наверное, раздавил эти чиряки и на ягодицах, и на ногах, и на спине. Почувствовал, что жжет еще и болит там. Прилетели, зарулил на стоянку и я сразу пошел в санчасть. То все было как-то не удобно, а тут уже чувствую, деваться некуда. Зашел в санчасть, к доктору. Там еще были две медсестры, я их выпроводил. А этот врач – мужчина у нас был, капитан кажется.
Рассказал этому лекарю. Он мне – раздевайся. Я снял и гимнастерку с нательником, и штаны с кальсонами. Оно все в крови и с этим гноем. Этот доктор начал меня тогда ругать. Потом уже позже говорил, что мне еще повезло, что так все закончилось. Могло заражение крови начаться.
Запретили мне летать по предписанию этого доктора. Он командиру полка сразу сообщил и тот меня отстранил от выполнения заданий. Из боевого расчета вывели. Лечение назначил – уколы. А лечение такое, ни в какой госпиталь не отправили, тут же на месте. Нахожусь со всеми в полку, но не летаю.
И так недели две, наверное, я не летал. Как-то неудобно перед ребятами, что не летаю. Не раненый, вроде бы. Я, было, начал, чтобы продолжать на задание летать, мне тогда доктор и объяснил, что хорошо еще, что живой остался. Если заражение крови началось бы, то и переливание крови бы не помогло. Тем более на фронте возможности делать такие переливания крови и не было. Что эти уколы одни и помогли - тоже своя удача.
Пока это лечение было, каждый день на уколы надо было приходить, перевязку делать. Я старался, чтоб не очень другим на глаза попадаться. Что не говори, а все равно как-то неудобно перед другими. Ребята на задание летают, а я тут же хожу, в столовую ту же. Поэтому утром на уколы пойду, потом в столовую так, чтобы уже никого не было. И куда-то уходил на целый день.
Уколы сам доктор делал, а перевязку медсестра должна. Я договорился, что сам буду делать. А то каждый раз штаны перед этой «матчастью» скидывать. Девчонки молодые, хихикают. Куда-то пойду и сам себя бинтую. Тоже занятие такое.
От этих уколов, оно к концу второй где-то недели, старые сошли, зажило. Еще какое-то время покололи – и опять разрешили летать. Если бы куда-то в госпиталь отправили, то хорошо было бы. Лето, погода хорошая. Когда уже на поправку дело пошло, уже и позагорать, и покупаться можно было. А так на глазах у всех. Хотя я тоже куда-нибудь на целый день уходил. Иногда даже и на обед не приходил, после завтрака уколы получил и уже целый день свободный. Поужинаю, когда уже почти все поели, и сразу иду спать.
***
Был такой курорт у меня во время войны. Отпуск не отпуск, но все равно отдых получился. Даже и покупался немного, был там такой ставок недалеко от аэродрома. Один раз там и погибнуть мог.
Тоже такое, не знаешь, где можешь смерть найти. На войне постоянно нужно было быть внимательным, что вокруг происходит. Даже не во время боя, то само собой. Вроде бы совершенно спокойная обстановка, а все может повернуться по-другому. Много таких случаев было, что стал понимать, что погибнуть можно и у себя на аэродроме, вроде в тылу. Если не обращаешь внимания, не замечаешь, что вокруг тебя происходит. Всегда надо было быть начеку.
Хотя это не только на войне так нужно.
***
Это уже почти заканчивалось это лечение. Пошел на это озеро, думал, может, искупаюсь. Жарко было, день солнечный. Озеро было такое не очень и маленькое, но и не большое – ставок такой. Я уже там купался несколько раз до этого. А тут на противоположном берегу двое из нашего полка чего-то там возились. Из наземной службы, один механик, а второй связист какой-то.
Мне как-то не захотелось при них купаться. Так ополоснул лицо, по пояс водой облился. А те двое присели и там что-то делали. Издалека не видно, что они там мудрили. И уже начал уходить оттуда. Наверное, метров на тридцать или побольше отошел уже от берега, когда за спиной у меня как ахнуло.
Взрыв такой сильный, от неожиданности, конечно, присел, но и оглянулся. Это ж пугаешься. Я когда оглянулся, то еще заметил – озера нет, на месте озера дно вижу, а темное какое-то такое вверху. А потом это сверху все: вся вода и мул – так и накрыла. Сразу не можешь сообразить, что случилось, потом только начинает доходить.
Стою и не могу понять, что произошло. Потом смотрю, те двое откуда-то из-за бугра вылезли. Тоже мокрые, как и я. Смеются как бы, кричат. Понял, что они рыбу пришли глушить. Гранаты они там взяли или что. Почему оно так взорвалось, не знаю. Наверное, какие-то снаряды или боеприпасы туда в озеро бросили. То ли когда еще наши отступали в 41-м, то ли когда немцы уже отступали. Потому что от гранат оно так поднять озеро до дна не могло, конечно.
Не знаю, эти двое меня видели или нет. Или как только связку эту сделали, сколько там этих гранат, так и бросили сразу. Если бы у самого берега еще стоял, наверное, меня бы этим потоком смыло и затянуло туда бы на дно этого озера. А так окатило всего, и по склону берега вода эта с грязью скатилась. Но тоже так, поток такой был, почти по колено воды этой было, где я стоял. Хотя это не вода, а мул уже такой был.
Посмотрел на этих двух дураков, плюнул и ушел, не стал ни говорить ничего, ни ругаться. Сходил на озеро, помылся, называется.
Никому не стал рассказывать, что случилось. Хотя могло все и хуже закончиться.
***
Какие-то случаи такие, что нельзя предугадать, где эта опасность. Как в той же Умани, когда бомба взорвалась прямо на стоянки возле самолетов. Девчушка эта, оружейница, и сама погибла и еще около двадцати человек вместе с собой погубила.
Или уже почти перед самым концом войны было. Грузин он какой-то был, не знаю. Солдат, рядовой. Появился у нас незадолго до этого. Откуда-то перевели его или не знаю. Вроде и не такой уже молодой.
Тоже так, после обеда как-то. Возле столовой. Там какой-то такой погреб был, он сверху этого погреба, как бы в стороне, чего-то ковырял. Не гранату, какой-то взрыватель, как я себе потом понял. Из офицеров я только оказался рядом. А там еще какие-то солдаты. Бочки какие-то или что-то перегружали.
Тоже у меня за спиной взорвалось. Кто упал, кто присел. Сразу не поймешь. Оглянулся – вроде все живы, что взорвалось – не понятно. А этот грузин или кто он там был, тоже стоит так в стороне. Руки за спиной, но смотрю, лицо белое такое стало, как мелом измазано.
Я к нему: что случилось? Он молчит, смотрит только на меня. Я уже как бы собирался повернуться от него, потом смотрю, а у него сзади между ног что-то капает так. Присмотрелся – кровь.
- Покажи руки,- ему говорю. Он стоит, молчит и не показывает. Еще несколько раз приказал, он руки из-за спины показывает – пальцы оторваны, кровь течет.
Стоял крутил не знаю что там, в руках у него взорвалось. Калекой остался. На двух руках пальцев нет, или как там – не знаю. Особенно некогда было рассматривать. Но, похоже, у одной руки совсем кисть оторвала, а на второй там что-то от пальцев болталось. Точно также и лимонку какую-нибудь мог крутить. И такой случай был. В соседнем полку. Взорвалась лимонка и те только сам, но и еще кого-то убило.
Из-за таких случаев у меня уже был и опыт, и свое внимание к тому, что происходит. Одно дело в воздухе, когда на задании, в бою. Но и на земле, вроде среди своих – а смерть могла найти и находила. На фронте постоянно надо было уметь контролировать и замечать, что вокруг происходило. Если замечал, то уходил от таких куда-то в сторону, подальше. Если солдаты что-то такое начинали делать, то можно было еще прикрикнуть, остановить. А когда свои же, что им сделаешь, не прикажешь. Поэтому всегда нужно было уметь и заметить вовремя, и уйти в сторону. Хотя не только на войне нужно быть таким внимательным и уметь предусматривать опасность.
И все равно какие-то такие моменты происходили. По глупости, по неосмотрительности можно было погибнуть. И погибали.
19.3 Осколок со спичечную головку
Иногда вроде бы и ерунда какая-нибудь случалась, а если это в бою сразу уже все не так. Если какое-то ранение, даже легкое, это сильно сразу на все влияло. Особенно если что-то не понятное происходило, сразу как-то теряешься. И на внимательность влияло, и на то, как начинаешь действовать.
Как-то было, что мне в нос попал маленький осколок. Тоже случай уникальный по-своему. Зенитки стреляли, и как оно так получилось – трудно представить даже. Если представить, что это ж в самолете летящем находился, осколки эти разлетаются. Что так оно совпало, что этот кусочек стали, величиной не больше спичечной головки, попал мне прямо в левую ноздрю. И не пробил, а застрял там.
Сразу я этого не понял, конечно. Потом уже когда прилетели. А сначала, зенитки стреляют, огонь плотный ведут. Мы уже на боевой курс вышли и тут чувствую, что-то из носа течет. В такие моменты некогда на такое внимание обращать. Никакой боли, что что-то попало, я как бы и не почувствовал. Сначала даже и не подумалось, что это кровь потекла из носа. Потом в какой-то момент присмотрелся – кровь капает, из носа чувствую. На большой высоте такое бывало, когда без кислородных масок на самую предельную высоту залазили. Но у меня и на высоте не так часто такое было, как это у других происходило. А тут и высота не такая вроде бы – а кровь из носа потекла.
Не понимаешь, почему это, из-за чего это происходит - сразу как-то уже не так себя начинаешь чувствовать.
Когда уже отбомбились, назад летим, а кровь продолжает литься. Не то, чтобы сильно, но течет, как если бы по сопатке кто-то ударил. Когда там, в детстве, дрались, кровь из носа потечет, но потом останавливается. А тут и не останавливается. Я уже и крагу с руки снял, чтобы зажать нос, кровь остановить. Не останавливается, а почему не могу понять. Если бы сразу понял, то не так бы все это воспринимал.
Непонятное оно как-то больше пугает и сразу все меняет. Хотя вроде бы и мелочь, что с тобой происходит – а если непонятно, теряешься. Ждешь еще чего-то худшего.
Сели на аэродром. Даже та же посадка - уже по-другому все воспринималось. Это случилось, когда уже большой опыт был. А если бы во времена, когда только начинал воевать, подобное порождает панику, неуверенность.
Поскольку кровь течет и течет, то пошел в медсанчасть сразу. Доктор взял там фикстулу какую-то свою, в нос залез, посмотрел. Потом пинцетом достал этот осколок и говорит: «На - смотри, каким тебя осколком ранило».
Вместе с ним смотрим, это и осколком назвать вроде бы нельзя. Как бы и смешно вроде бы. А вот такое ранение. Хотя с другой стороны, пусть даже такой кусочек стали, если бы на большей скорости летел, и буквально на какие-то сантиметры по-другому попало бы – пробило бы голову. В тот же глаз или снизу под подбородок куда-то.
Надо же было так в воздухе совпасть с этим кусочком железа. При том, что у самолета тоже скорость не маленькая, где-то около 400 км/час. В тот раз с горизонтального положения бомбили.
Если представить, что в воздухе что-то просто висело бы, такое как камень, а ты на него мог бы напороться, тоже бы убило. Этот осколочек, видно, броню пробил все-таки, и на самом излете попал. И именно в ноздрю и попал. Тоже уникальный по-своему случай.
Но тогда я хорошо запомнил, как сразу какая-то растерянность появляется, когда ты не понимаешь, что с тобой произошло. А когда понятно – вроде ерунда. Доктор вытащил эту пиндюльку, пока ее рассматривали, кровь уже почти и перестала течь. Пока в столовую дошел – уже все. А до этого никак не останавливалась. А вроде ерундовина, когда уже понимаешь, что это и почему. Но когда летел, а кровь из носа хлыстала, то мысли совсем другие, паника сразу начинается какая-то.
Вроде мелочи какие-то, а во время войны, особенно во время боя они иногда могли сильно повлиять, не можешь нормально действовать или, вообще, как бы перестаешь соображать.
_________________________________
20 Штрафники
(июль-август 1943 г., Воронежский фронт )
Над передовой, когда пролетали, всегда старались высоту набрать. Если приходилось так, что на малой высоте линию фронта надо было проскочить, всегда это было ожидание смерти.
Был у нас штурман Каримов, из Казани, татарин. Одно время я с ним летал, когда он уже вернулся из штрафбата. Не очень долго, но вылетов двадцать, наверное, вместе сделали. Так он всегда, когда над линией фронта пролетали, со своего места встанет, сзади так голову просунет и туда вниз на землю смотрит. Каждый раз так, туда смотрит, прямо глаз не может оторвать, кажется, и все приговаривает: «Ой-йо-йой, если бы ты знал, что там творится. Если б ты только знал, какой там ад. Посмотри, как там стреляет…».
Я ему как-то, было, сказал, мол, что ты туда вниз смотришь, тут сейчас нам самим так настреляют, что только держись. А он мне: «Нет, то, что тут стреляют – это даже сравнить нельзя с тем, что там, на земле, твориться, когда бой идет. То, как там страшно, у нас тут совсем не так».
Когда в штрафбате был, узнал что такое пехота. После ранения вернулся опять в полк. Восстановили в звании и опять штурманом летать. Даже думали его штурманом эскадрильи сделать, но он не захотел ни в какую. Только рядовым штурманом, в крайнем случае - штурманом звена соглашался летать. А до этого уже летал штурманом эскадрильи. Штурманом был сильным, грамотный, память хорошая. Но так и не согласился. После того случая, когда попал под трибунал вместе со своим командиром - Зотовым. Зотов как лидер завел группу из десяти «яков» на немецкий аэродром. Попутали Таганрог с Ростовом. В Таганроге немцы еще были, а в Ростове уже наши.
***
Рассказывали, что наших летчиков, которые сели к немцам, потом сами же немцы похоронили с воинскими почестями там же в Таганроге. Три «яка» сели сразу, увидели, что к немцам попали, первый из приземлившихся летчиков выскочил из кабины самолета, начал остальным сигналить, чтоб не садились. Другое звено уже на посадку заходило, начали уходить, а немцы из зениток открыли огонь. Тоже их сбили. До этого не стреляли, поняли, что заблудили, немецкий аэродром за свой приняли. А тут открыли огонь и сбили тут же еще три «яка». А оставшиеся уже спаслись, на аэродром в Ростов прилетели. Тогда почему-то в полку неразбериха получилась. Еще один экипаж из нашего полка тоже, как лидер, заблудились, не туда привели. Но у них самолеты только побили, никто из истребителей не погиб.
Тогда шум большой был, не только в нашем полку. По всему корпусу. Наш корпус обеспечивал передислокацию какого-то истребительного чуть ли тоже не корпуса. Выделили целую группу самолетов с разных полков нашего корпуса, которые как лидеры должны были обеспечить перелеты групп истребителей.
Но именно то, что с Зотовым и Каримовым случилось, чуть ли не как предательство им ставили в вину. У других, которые тоже как лидеры вели истребителей, таких потерь не было, только самолеты побили. А у Зотова с Каримовым шесть человек погибли, да еще два самолета у немцев оказалось. Среди них комэск и два - командиры звеньев, кажется.
Они сели первой тройкой, в плен не сдались. По слухам, по разговорам, как будто, один застрелился сам, этот комэск, который и сигналил остальным, другого немцы убили. Они, вроде начали стрелять по немцам из пистолетов. Первые двое приземлившихся успели выключить моторы, а один еще не успел, который последним из этих трех садился. Когда начали сигналить, что немцы, видно, пытался взлететь, мотор не заглушил. Его на взлетной и подожгли, так и сгорел с самолетом.
А тоже, когда совершали этот перелет, боекомплекта у этих «яков» не было. Вроде, не нужно потому, что не на задание летели, а со своего аэродрома на свой же. Будто это в глубоком тылу перелет. Так может хоть те, которые в воздухе остались, как-то смогли бы помочь.
Неприятность тогда большая такая была. На весь корпус. А в нашем полку, буквально вслед за этим, чуть ли не в этот же день, еще одно ЧП случилось. Группа из нашего же полка уже вместо Таганрога в Ростов пришли и по своим окопам бомбы сбросили. А группу командир полка вел.
Почти одновременно это все произошло. Тогда в полку большое разбирательство было. Наказали и виноватых, и невинных. Как всегда в таких случаях.
Оно еще все так случилось, что Полбин незадолго до этого только стал командиром корпуса. В самом конце марта Судец сдал корпус Полбину, а через несколько недель все эти ЧП случились. Судец – генерал-лейтенант, с повышением ушел на командующего воздушной армии, а Полбин – полковником тогда был. А тут начали, плохая подготовка штурманов, летного состава.
Может, из-за этого тоже какая-то неразбериха. Всегда, когда командиры меняются, такое бывает.
***
Насколько тот же Каримов виноват был. Конечно, Зотов там был виноват. Но тогда не только летчика и штурмана, лидером летавших, разжаловали и в штрафной батальон отправили. А и командира полка Анискина сняли с должности, куда-то перевели, начштаба сняли. А Скоробагатова, штурмана полка, отправили стрелком-радистом на «Ил-2». Стрелком-радистом на «Ил-2» - это почти то же самое, что и в штрафбат было попасть.
Каримов вернулся потом. Ранило его сильно. Правое бедро, даже не бедро уже, а выше. Оторвало, что называется, ползадницы - видно, большим осколком от снаряда. А тогда в штрафбате воевали до первой крови. Если повезет, что не убьют, а ранило, то считалось, что искупил вину кровью. Переводили воевать уже не в штрафные части, если оставался не инвалидом.
Зотов, кажется, и погиб в штрафниках. А Каримов после госпиталя назад к нам вернулся. Как раз тоже, помню, прилетели с задания, заруливаю на стоянку, смотрю - кто-то бежит, прихрамывая так на правую ногу, и руками машет, улыбается во всю. Сначала не понял, тем более, что так хромает, вроде чужой, а потом присмотрелся – Каримов. Штурману говорю: «Смотри – Каримов бежит». Он еще не поверил. Причем, почему-то именно к нашему самолету он так бежал. Хотя нас целая группа тогда заруливала на стоянку. Мы с Каримовым до этого как бы не очень дружили. После того, как он вернулся, уже больше как-то стали общаться. Даже и полетать уже вместе пришлось одно время.
***
Каримов, когда вернулся, рассказывал, как получилось, что они вместо Ростова на Таганрог группу «яков» завели. Они в облаках заблудились, погода плохая была, облачность низкая. А Ростов и Таганрог с воздуха тогда не так легко различить было. Похожие были сверху, потому что и тот и другой был практически в руинах. А так по размерам одинаковые почти города были. Да и на речках так одинаково располагались.
Как Каримов рассказывал, он еще говорил Зотову, когда они из облаков вылезли, что это не Ростов, а Таганрог похоже. Развалины одни, ориентиров каких-то нет, но увидел все-таки, что что-то не то. Он, действительно, хороший штурман был.
А этот Зотов тоже еще такой был, других не очень любил слушать. Часто так было, все от других отмахивался, слушать не хотел. И в тот раз тоже, что-то такое этому Каримову ответил: не пори, мол, ерунды. Хотя Каримов тогда уже был штурманом эскадрильи, на должности более высокой, чем Зотов. Но в таких случаях всегда летчик - командир. Хотя Зотов и по званию младший был. Нормальный бы летчик послушался бы штурмана, дополнительно круг бы сделал. Таганрог же возле моря – сразу бы сообразили. А этот подал команду «якам», те и пошли на посадку.
***
Они еще не успели прилететь, а их уже на аэродроме особисты ждали. Может быть, с ними б не так поступили, но еще были разговоры, что там пьянка была. Как раз в землянке, где и Зотов находился. Погода не летная была, думали, что не будет полетов. А их все равно на задание послали. И вроде бы, что они пьяные полетели, поэтому и попутали своих с немцами. Они там не всю ночь пили-то, да и сколько там выпить могли, чтобы пьяными такими быть.
Может, кто-то из них сам придумал это потому, что им там какую-то ерунду вообще старались приписать, в предательстве обвинить.
Но тогда оно в полку все одно к одному собрали и – этих за «лидерство» под трибунал отдали, и командиров тоже наказали, что по своим отбомбились..
***
Когда Каримов вернулся, побывав на передовой, в окопах, он спокойно уже никогда не мог пролетать над линией фронта. Оглянешься на него, когда он так из-за правого плеча торчал – глазами туда вниз просто впивается во все те взрывы, весь там, кажется. В носу самолета, как бы для летчика под ногами, там было сделано такое, как окно, тоже. Туда смотрит и только приговаривает: «Что там делается, ой-ё-ёй, что там твориться только».
Оно на войне везде не сладко было, но правду говорят, что те, кто в пехоте эту войну прошли, страшнее этого ничего не было. Не говоря уж о том, чем их кормили, в каких условиях спать приходилось. По сравнении с такими, как мы, кто летал, и говорить нечего.
У нас – обязательное трехразовое питание, тот же шоколад давали. Кто курит, шоколада меньше давали, но все равно. Каждый вечер в столовой водку давали. Сто грамм спирта на человека, почти стакан водки получался. А если экипаж сбивал самолет, то еще литр на экипаж полагалось. Дополнительно к обычной норме. Как правило, такую водку экипаж сам не пил, с другими делился.
После вылетов, вечером выпьешь, уже оно и заснуть легче. Хотя были и такие, кто не каждый раз пил, отдавал кому-то. Бывало и по-иному. Не пили по нескольку дней, собирали на какую-нибудь пьянку уже вечером, после ужина. Хотя это запрещалось, и по-своему командиры следили, но, все равно, за всеми не уследишь. Смотришь, за каким-то столом сливают эти порции куда-то. То в грелки какие-то, то еще чего-то придумывали. Понятно, что пьянку будут организовывать. День рождения у кого-то или еще что-то. Самогонку доставали, такое было.
Но это не часто так делали. А чтобы там этот «ликер шасси» кто-то пил – как показывают – я такого не встречал. Может, техники и делали, и пили, но из летного состава никогда не видел. И так хватало – почти по стакану водки каждый день. Есть полеты, нет – рацион один.
Если что-то случалось – перебазируется полк, из батальона обслуживания отстали, вовремя не приехали, - что летному составу не успевали приготовить обед или ужин, наказывали. Тех, кто в батальоне обслуживания за это отвечал. Причем никто из нас самих никогда не шумел, если что-то случалось такое. Сухим пайком все равно выдавали. Было такое, что по нескольку дней так приходилось питаться. Никто из летчиков или штурманов обычно и не возмущался. А с теми, кто должен был нормальное питание обеспечить, потом разбирались, наказывали.
Куда там, чтобы такое было для тех, кто в пехоте воевал. Даже то, что им положено было по солдатской норме и то не всегда попадало. При том, что это солдатский паек, а у нас офицерские нормы. Даже когда такие как я сержантами были, паек офицерский полагался. И для тех же стрелков. Всему летному составу - одинаково.
А для Вани-пехоты быть голодным по нескольку дней – это было обычное дело. А чтобы там горячее, первое какое-то поесть – это вообще редкий случай. А у нас попробуй, чтобы на сухом пайке несколько дней прошло. Чуть ли не командир корпуса прилетал разбираться, кто виноват.
***
22. О геройстве.
Геройство на войне это такое дело… Оно в кино показывают: «добровольцы, два шага вперед»,- и почти все выходят. Или после ранения из госпиталя убегают раньше времени на фронт. За всю войну я такого не встречал. Может, где-то было такое, не знаю.
Если получалось, что можно было не идти в бой, никто не рвался. В тех же госпиталях, там и так никого не держали, чуть только зажило – отправляли сразу на фронт.
Вообще, которые на словах геройство показывали, чаще сами на фронт так и не попали. Не знаю, в силу каких причин. То ли хитрили как-то, то ли так судьба распорядилась. Несколько таких случаев знал. На каких-то собраниях, когда война началась, но еще не фронте, в резервном полку, выступали. А до дела когда дошло, так на фронте и не были. В тылу, в каких-то резервных частях так и отсиделись, как узнал уже после войны.
***
Помню, у нас один был такой. Мы как раз вместе с ним попали на такую комиссию. Или как там ее назвать. Уже после училища, когда в резервном полку находились. А там было такое, перед тем, как будут формировать группы из летчиков уже прошедших подготовку в этом резервном полку, чтобы на фронт отправлять. Как бы аттестация, что закончил подготовку и готов уже летать в строевой части.
Всех вызывали и при этом как бы спрашивали, где хотите служить, в действующей армии или где-то в частях, которые не воюют. Оно вроде можно было отказаться идти на войну. Не знаю, были ли такие случаи. При мне такого не было. Там все отвечали одинаково. Понимали, что на фронт будут посылать.
Который председатель, он не совсем один и тот же вопрос задавал. Одного спросит: «Хотите на фронт, воевать?». На такой вопрос один ответ: «Так точно!». А другого спрашивал: «Где хотите служить?». Еще как-то по-другому. Он задает эти вопросы – смысл один, и каждый отвечает тоже по-своему.
И была такая ситуация у меня с одним из таких же как я. Мы в один отряд попали в этом резервном полку. Он у нас как бы комсоргом или таким комсомольским групоргом на время был. Нас такими небольшими группами запускали. Сначала меня вызвали. Там кто-то зачитывал, какое училище закончил, мы там из разных были, уже и повоевавшие были, которые попали переучиваться летать на Пе-2. Какие оценки получал, сколько часов налетал - такое. И этот председатель потом спрашивает: есть личные просьбы, где хотите проходить дальнейшую службу.
А меня он так спросил: «Где желаете служить, младший сержант?». На такой вопрос я ответил: «Готов служить в любом месте, где командование посчитает нужным». Всё – свободный. А куда тебя направят, потом будет известно.
В том резервном полку своя кухня была. Приезжали, так называемые, «купцы». С разных частей, с разных фронтов, а некоторые - из тыловых частей. С того же Дальнего Востока. Каждый что-то там отбирал себе. Одному надо эскадрилья, для другого звено или сколько там. Было и такое, что целый полк формируется сразу. Крутилось там по-разному.
И вот после этой комиссии этот комсорг из нашего отряда, в курилке так, подошел и спрашивает меня, а почему я так ответил, почему, мол, не сказал как другие, что хочу на фронт, воевать.
Не помню уже, что ему тогда ответил. Что если сочтут нужным на фронт отправить, буду воевать. Никто не отказывается воевать. Он еще что-то начал опять, что я не так ответил, как надо было. Разошлись с ним тогда, а потом уже нас распределили в разные места. Его куда-то направили, а меня оставили в этом же резервном полку инструктором.
Некоторых, которые отличные оценки получали и хорошо себя зарекомендовали, могли оставить летчиками-инструкторами там же. Потому что из летчиков инструкторов тоже отбирали для фронтовых частей – их как командиров звена, эскадрилий тоже отправляли на фронт. А на их место отбирали наиболее подготовленных.
Уже после войны я встретил этого групорга геройского из резервного полка. Ни одного дня он на фронте не был. Так по разным тыловым частям и просидел всю войну.
***
А я на фронт попал через три месяца, из инструкторов уже. Никаких рапортов не писал. Как раз пришла команда из подготовленного состава в резервном полку сформировать два полка для фронта. Резервным полком он только назывался, а там летчиков было не на полк собрано, больше. Прилетели командиры полков этих. Самолеты новые пригнали. Там тоже по-разному было. Одних летчиков отправляли в части без самолетов. А какие-то группы на своих самолетах улетали. А тут был приказ два полка сформировать и отправить именно на самолетах. Как раз это и были те полки, которые потом один 80-м стал, а второй 81-м. А тогда - 46-й, в который я и попал вначале, и 202 авиаполки.
Свое время на это ушло, пока самолеты появились, пока эти командиры проверяли, кто, как летает, отбирали. Кто там командирами звеньев будет, кто комэсками.
Сначала я туда не попадал. Никого из инструкторов туда не планировалось отдавать. Сформировали эти два полка 46-й и 202-й, и они почти в один день улетели. Такая команда была, чтобы полк не по частям, а сразу в полном составе прибыл на фронт. Они должны были в одну дивизию войти, им было почти в одно место лететь. И как часто в таких случаях, какие-то сроки срываются, должны уже быть на месте к такому-то числу. Пока новые самолеты пригнали, какая-то чехарда с этим была.
Все в спешке, чтобы быстрее улетели и отчитаться перед командованием, что выполнили приказ. А когда как бы все готово, чтобы улетели, погода плохая стала. Нелетные условия. А их все равно в воздух подняли всех. Летчики в большинстве не опытные. Тогда у большинства, кого на фронт отправляли, где-то по 10-12 часов налета было. Это как бы нормой считалось тогда. А те, которые после 42-го года попадали на фронт, то у них еще меньше было. Хорошо, если 7-8 часов успевали налетать, а чаще и меньше.
Я до того, как попал на фронт, пока в училище летали, пока был в резервном полку, а потом инструктором, успел налетать 18 часов. Оно как бы и немного, но больше, чем те, которые после училища сразу в резервном полку оказались и были отправлены. Кажется, что разница-то небольшая, а, в действительности, эти 5-6 лишних часов многое, что значили. На фронте это понятно стало, очень заметная разница оказалась. Увеличивало возможность быстрее привыкнуть, выжить в первых боях, опыт набрать.
***
Два полка эти улетели, а где-то на следующий день стало известно, что три экипажа разбились. Звена не хватает, получилось. Два самолета в одном полку, а один из другого. И пришел приказ, что срочно дополнить эти два полка экипажами из числа инструкторского состава. Мол, не умеют научить как надо, тогда пусть сами на фронт и летят.
Опять там забегали. Кого отправить, кого нет. Кто-то там пытался выяснить, куда-то ходили, кого хотят на фронт отправить. Какие-то разговоры были. Я никуда не ходил, ничего не выспрашивал. Вроде моей фамилии никто не называл, пока эти слухи ходили.
Потом вызывают нас троих к командиру и как приказ: вылететь сегодня и прибыть туда-то. Звеном лететь. А погода по маршруту еще хуже, чем когда те вылетали. Не лучше, во всяком случае. Казалось бы, уже одни разбились, нет – все равно: «немедленно лететь». Мы их должны догонять, чтоб уже все вместе прилететь. Они сели, переночевали, дозаправились и дальше на фронт полетели. Нас уже не стали дожидаться. А мы по их же маршруту тоже так лететь должны.
Тоже: взлетели, в облачности, когда уже темнеть стало, потеряли один другого. В итоге до промежуточного аэродрома я только и долетел. Один экипаж погиб, а другой из этого нашего звена на вынужденную сел. Живыми остались, но самолет побили.
Когда долетел, меня в 46-й авиаполк направили потому, что там именно одного экипажа не хватало. А в 202 полк два самолета уже позже прилетело. Кто-то видно понял, что так погубить могут и еще кого-то. Уже приказали прислать два новых экипажа после того, как погода улучшилась.
***
Тоже вот судьба. Тот летчик, который на вынужденную со своим экипажем сел, так на фронт уже и не попал. Из резервного полка другие два экипажа улетело, а он вернулся опять в резервный полк. Может, потом уже попал, не знаю. Потому что мог так и всю войну инструктором быть. В эти инструкторы не так просто было попасть, да и замены им не очень легко было найти. Особенно дальше, когда потери большие были, опытных летчиков мало. А учить кто-то должен. Из инструкторов мало кого на фронт стали отправлять. Проштрафиться если только там.
Вот так я на фронт и попал в начале июня 42-го. А если бы оставался инструктором, то так бы и не воевал. Как мне кажется, сколько помню то настроение. Не только свое, а и других. Из инструкторов никто сам на фронт не просился. Из тех, кого не на фронт, а в другие части отправляли, тоже никто не отказывался. Кто-то все равно попадал потом на фронт, а кто-то так и служил в тех полках, которые так и не принимали участие в боевых действиях.
То, что я своими глазами, что называется, видел – таких героев, которые требовали, чтобы их на фронт отправили, не встречал. Да и сам бы, как мне кажется, какие-то рапорты подавать, чтобы на фронт попасть, не стал бы. Как там, в кино обычно показывают.
***
А на фронте, чтобы кто-то героизм старался показать, на задание какое-нибудь сам просился, если его не посылали – тоже такого не было.
Тоже, помню, еще на Калининском фронте, в начале, когда на фронт попал. Осенью 42-го. Тогда получилась ситуация, что наши попали в окружение. Большая такая группировка. И нас начали использовать, чтобы им боеприпасы, продукты, медикаменты сбрасывать.
Они в таком окружении оказались, вроде как аппендицит получился. По ширине узкая полоса, а длинная. В таком окружении оказались. Тогда вообще линия фронта там была такая, что и не поймешь, где наши, где немцы. Немцы на Москву тогда наступали.
Как тогда говорили между собой, что тот слоеный пирог, где наши, где немцы, где линия фронта - ничего нельзя было понять. И каждый день обстановка менялась, то наши в одном месте отступили, то в другом, наоборот, контратаковали немцев и продвинулись вперед. Линии фронта как таковой, действительно, не было, какими-то такими слоями чередовались, где наши войска, где немцы.
Вот эти наши части оказались в таком окружении. Не знаю, сколько там было, но и артиллерия, и пехота. Им недалеко было и выйти из этого окружения, но, видно, командование не хотело, чтобы они отступали. Они удерживали позиции, а нам было приказано им сбрасывать обеспечение, снаряды, продукты, медикаменты.
Чего-то там намудрили, чтобы можно было сбрасывать груз вместо бомб. Начали загружать в таких тюках, не поймешь, в каком что. А сначала летали группами, девятками. Несколько вылетов сделали. Все, что сбросили мимо. Те, с земли сообщили, что из сброшенного груза, все к немцам попало.
Приезжает какой-то начальник из штаба армии или откуда там, весь наш полк построили. Стоим все, а он нам рассказывает, что каждый снаряд и патрон на счету, дети в тылу недоедают, а мы «отбомбились» так, что весь груз к немцам попал. Читает нам нотацию такую.
А что тут странного. Мы сбрасываем не с пикирования. Полоска узкая. А мы заходили для сбрасывая поперек. Немцы зенитки успели подтащить, огонь заградительный уже сильный. Группа за командиром маневрирует, чуть раньше или позже сброс сделали – все мимо и улетело. А вдоль этой полосы таким строем тоже не зайдешь – мимо улетит груз.
Так он нас отчитал всех, а потом спрашивает: «Поняли вашу задачу? Или какие-то есть вопросы?».
Все молчат, а я, возьми, и сказал, не помню, как его звание было: «Товарищ полковник!» - кажется: «Разрешите обратиться».
Разрешил, я и говорю, что надо не такими большими группами летать, а звеньями или, еще лучше, по одному. Он так с нашим командиром переглянулся и говорит: «Если такой умный – давай, сам слетай и покажи».
Весь полк остался, а мы с экипажем пошли к самолету. И помню, идем, а штурман мне говорит что-то такое, что оно тебе надо было это говорить. Мол, мы теперь под тот огонь лететь должны, а остальные на земле будут. Смотрю, стрелок молчит, но тоже так голову повесил.
И сам иду, тоже так себе думаю, зачем напросился, лишний раз со смертью поиграться. Но деваться уже некуда, штурману ответил, мол, ладно, не умирай раньше времени.
А самолет уже с грузом был. До этого построения еще загрузили. Взлетели одни. Погода облачная была, облачность низкая была. Вышел так, чтоб вдоль этой полосы пролететь, а не поперек. Уже представления были, зашел так, чтобы с более узкой стороны пролететь в сторону, которая как бы расширялась. Причем, из облачности выскочил, со снижение сбросил груз, и сразу опять в облачность ушел. Штурман мне: «Есть попадание», - хотя я и сам это видел. Немцы даже ни одного залпа из зениток не сделали. Наверное, думали, что за мной группа еще будет.
Пока прилетел, уже оттуда сообщили, что груз получили. Чего-то там побилось, пока мы прилетели, там уже начали по-другому эти тюки паковать. Этот из штаба не уезжал, ждал результата. Прилетел, доложил о выполнении задания командиру. Полковник этот рядом стоит, командиру: давайте, мол, все пусть так, как этот сержант, сбрасывают.
И так весь груз перебросали туда. Один за другим туда летали, но каждый на свое усмотрение, с какой стороны заходить, с какой высоты сбросить. Почти никто больше к немцам ничего не сбросил, все к нашим попало.
***
А я тогда запомнил, как и сам себя корил, что напросился. Да и по глазам других было понятно, что они думали, когда мы из строя одним экипажем пошли на задание. А даже благодарности мне тогда не объявили.
Что значит - младшим сержантом был. Если бы лейтенантом был, не говоря уж, что командиром звена, – за такое награждали. А как рядовой состав – совсем все по-другому было. Не один раз за время войны убеждался в этом.
Группой одно и тоже задание выполняем – офицеров к медали представляют, а тем, кто сержантами были, благодарности объявляют и все. Или офицеров - к орденам, а сержантов – к медалям. Не один раз так было. Во время войны это не очень важно было. Все знали, кто и на что способен. Это уже после войны стало совсем другое. Все эти благодарности как бы и не награды оказались. А тогда благодарность от Главнокомандующего понималась даже выше, чем медаль. Вроде как лично от самого Сталина. Молодые были – не соображали. Оно ни до этих наград тогда и было – никто на это особенно и не обращал внимание. Может, уже к концу войны. А так главная награда, что живой остался.
***
Не знаю, как вообще, но у нас никогда такого не было, чтобы, для выполнения какого-то задания, спрашивали, есть добровольцы. Или чтобы, как показывают, - коммунисты вперед. В каких-то таких случаях, как с доставкой этого провианта для окруженных войск, а были похожие моменты, никто не старался вызваться самостоятельно для выполнения какого-то задания. Командир сказал, кто будет выполнять задание, - идешь уже, куда денешься. А так, чтобы сам кто-то вместо другого просился на задание какое-то – таких случаев не помню.
_________________________________
23 Войско польске гонорове
Показывают, конечно, этих танкистов польских, как они смело воевали. А как оно действительно было, об этом никто не рассказывает.
Видели этих поляков смелых, известно, как они воевали. Те, которые на передовой были, рассказывали. Уже ближе к концу войны воинские части, сформированные из поляков, принимали участие в боевых действиях. Они в соприкосновении с нашими частями на фронте находились. Причем так делали, чтобы чередовались. Наш батальон, потом польский, потом опять наш. Чтобы не было, что поляки на большом участке сами воевали.
Было такое сначала, что так разместили, что только поляки одни и на большом участке фронта. Целая армия была как бы создана. То они как начали драпать, вся эта армия разбежалась. А участок фронта большой оголился - немцы осуществили прорыв фронта.
Это как раз Корсунь-Шевченковская операция была. Чуть эта операция не сорвалась тогда. Поляки тогда показали себя, какие они вояки. Разбежались все, побросали все: и оружие, и артиллерию, и технику. Те же танкисты побросали все танки.
Нас как раз закрывать тот прорыв и бросили. Немцы крупным танковым соединением прорвались. Угроза была, что в тыл зайдут и смогут там дел наворотить.
Пока наши войска, танковые соединения смогли осуществить передислокацию, с других участков фронта их снимали, авиацию туда и бросили. Наш корпус всем составом принимал участие в устранении этого прорыва. Особенно первый день один наш корпус по тем танкам и работал, чтобы их остановить. Потом уже штурмовики появились. Даже истребители и те тогда атаковали те немецкие танки.
На Курской дуге такое тоже было, что самолеты с танками дуэли устраивали. Но тогда, под той же Прохоровкой, и наши танки в бою участвовали. Танки между собой в основной вели бой.
И тут, когда эти поляки разбежались, несколько дней этот бой с танками продолжался. Наших ни танков, ни артиллерии – ничего не было. Наш корпус туда и был брошен, оно как бы в зоне именно боевых действий нашего корпуса это произошло. Поэтому в эту мясорубку нас первыми и кинули. Настолько страшный был бой, потери такие были. И в нашем полку, и во всем корпусе.
Тогда так получилось, что бой шел именно между немецкими танками и нашей авиацией. Но немцы еще и своих истребителей туда тоже подтянули. Сколько наших летчиков тогда погибло из-за этих поляков. Те же штурмовики в лобовую атаку на танки шли. И не один, не два. Тогда нас всех настраивали: остановить любой ценой. На самолетах остановить танки – легко сказать.
Тоже тогда и бомбили по этим танкам, и из пушек штурмовку делали – что называется, летали так, что прямо в дуло этому танку заглядывать приходилось. Ты в него целишься, а он с земли в тебя – кто раньше попадет.
В тот момент авиация просто своим телом остановила те немецкие танки. Об этом и не упоминают после войны нигде, наверное, из-за этой дружбы с Польшей. Союзники ведь стали. А тогда, когда уже наши танки и пехота закрыла прорыв, у всех нас такое настроение было, если бы дали возможность, сами бомбы на этих всех поляков сбросили бы. Какое-то такое остервенение у всех появилось за эти несколько дней, да и у меня самого.
Их потом опять собрали, армию эту польскую. Но уже так не ставили, чтобы только поляки одни какой-то участок фронта держали. Чередовали с нашими. Чтобы, если поляки побегут, то на небольшом участке быстрее можно было перекрыть прорыв.
Позже потом рассказывали и до нас об этом доходили слухи, немцы не один раз на передовой через громкоговорители, как бы подначивали, обращались к нашим солдатам, мол: «Рус Иван, давай с нами не воюй. Мы будем сами только с поляками. Мы хотим показать полякам, как надо воевать».
В кино теперь показывают, какие они герои, вроде бы никто не видел и не знает, как они воевали.
***
Гонору у поляков, всегда хватало. И раньше, да и в то время. Аксельбанты на себя навесить, да галуны какие-то позолоченные. А воевали они слабенько. Доверия к ним не было на фронте. А после войны, как о союзниках, тоже правду не рассказывали.
Еще была встреча с польскими офицерами, когда непосредственно столкнулись. Под трибунал могли попасть.
Война уже закончилась, наш полк под Веной так и продолжал базироваться. С этого аэродрома как раз и в Берлинской операции участвовали, а потом и в освобождении Праги.
Тоже тогда, эти чехи. Восстание подняли, не подготовленное как следует, а потом: «Братушки, помоги».
Нам их обращение по радио перед заданием зачитывали. Там же тоже, пока перекинули наши танковые соединения, авиацию сразу бросили на Прагу. Только перестали Берлин бомбить, задание Праге помочь.
Наш полк как раз в числе первых был туда направлен. Тоже тогда, бомбить так, чтобы не разрушить сильно город. По строго определенным целям. Цели передавали эти восставшие, а такую точность можно только на «пешках» обеспечить. Наш корпус и был задействован. Но не все летчики, а как бы отбирали из числа снайперских экипажей. Потом уже от чешского правительства награды вручали, не всем, кто там тогда участвовал, но многим. Меня тоже медалью их правительства «За храбрость» наградили и нашей еще «За освобождение Праги».
Когда война закончилась, награды уже легче раздавали. И героев тогда понадавали, всем командирам от полков и выше.
***
А с этими поляками такая история получилась. Война уже закончилась. Начали собирать участников и технику на парад в Москве. Герои Советского Союза от разных соединений как участники. Еще отбирали, кавалеров орденов Славы. Я не попадал в эти списки участников. А нужно еще было самолеты для участия в этом параде в Москву перегнать.
Сначала из нашего полка звено полетело. На самолетах, которые поновее были. Их там еще готовили, подкрашивали. А какие-то такие погодные условия - тоже все: быстрее, быстрее, - что командир звена разбился, где-то в Карпатах в гору воткнулись. Почти всю войну прошел, а тут погиб.
В авиации это не редкость, разбивались и погибали не только во время войны. Это ж не гражданская авиация. Для военной авиации это как бы нормально считалось. Уже когда на Дальнем Востоке служил, как-то видел статистику – в среднем за неделю два самолета разбивалось.
Еще один, из этого же звена, тогда на вынужденную сел, но тоже где-то в горах так, что самолет сильно побил. Уже не починить. А тут же на парад. Хорошо, хоть живыми сами остались. Третий только до нужного промежуточного аэродрома долетел, но тоже не совсем удачно что-то. Дальше лететь не мог. А экипажи были опытные, летчики неплохие.
В других соединениях тоже какие-то такие случаи произошли при перелетах. Причем с теми, кто как участники парада туда полетели.
Пошла команда, что участников группами отправлять на поездах, и что только новые самолеты перегонять для этого парада. Из частей, которые не принимали участие в боевых действиях, которые на нашей территории уже были.
Из нашего полка был сформирован отряд такой, чтобы тоже на поездах поехать за самолетами. Где-то на Западной Украине какой-то полк стоял запасной. Там были все летчики молодые. Им не доверили такой перелет совершить, а нас туда послали.
Отряд наш - человек одиннадцать было. Не полные экипажи посылали для этого перегона. Почти все летчики, один или два только штурмана. Девяткой лететь. Меня старшим группы назначили.
Поехали мы. С Вены нам через Германию, Польшу ехать надо. А это поезда, которые сразу после войны были. Какие там билеты, кто, куда грузится, куда поезд едет – ничего не поймешь. На вокзалах не только военные, а какие-то бабки с мешками, какие-то дядьки. Война только закончилась, откуда они там появились. Но и военных много, и солдаты, и матросы какие-то. Куда и откуда они все едут – ничего не поймешь.
Эти военные коменданты на станции ничего толком не знают. У нас бумаги, предписание. Все это никого не волнует. Ехали мы тогда, конечно, тоже – всего не расскажешь.
С боем на каждый поезд залазить приходилось. С какими-то пересадками. Это не то, что в Вене сели в поезд и до Львова ехали. Уже не помню, сколько пересадок пришлось делать.
Поскольку нас бригада не маленькая, мы все вместе, то нам легче было. Кого-то в окно забросим, они место займут. Хотя тоже чуть не до драк доходило. На нас не очень, конечно, наседали. Видят – группа немаленькая, офицеры все, с оружием.
До Польши как-то добрались. На какой-то станции пересадка, поезд на Варшаву. А мы уже несколько суток таки едем. Потому что куда-то доедем, потом ждем где несколько часов, где полдня. Поспать могли сидя только, забито все было.
А тут почему-то в вагон зашли, а он пустой практически. А вагоны у них не наши, полки только нижние. Хлопцы сразу, каждый по полке, заняли, тут же легли спать. Даже есть не стали, настолько за эти несколько суток мы все устали. Ну, и получилось, что где-то полвагона мы и заняли.
Сначала немного было других пассажиров. Они вроде разместились, сидели на других полках. Места как сидячие продавались. Потом стали добавляться на остановках. Мы спали, уже не знали, когда и сколько там этих пассажиров стало, что уже и не все могли сидеть. Не знаю, мы спали.
Потом уже стало понятно. Все пассажиры гражданские какие-то, в основном женщины там, старики были. Нас никто не тревожил. Между собой, наверное, недовольны были. Военных трогать они боялись.
Проснулся я от шума. Я так в середине лежал. Слышу в конце вагона несколько голосов. Уже громко так. Ругаются, и кто-то из наших. А другие по-польски говорят.
Встал и туда. Смотрю, один из наших летчиков и два польских офицера между собой шумят. И уже так беседуют, толкая друг друга. Видно, что уже дело до драки доходит. Я, как командир этой нашей бригады, подошел туда. Наш летчик мне объяснил, что эти двое его с полки начали сталкивать, чтобы самим сесть.
Два этих офицера зашли в вагон, билеты есть. Видят, что одиннадцать лавок занято нами, а на остальных уже не все могут сидеть, в проходе уже там, на мешках или чем-то, сидят, кто-то стоит. Решили поднять нашего, он крайним лежал.
Наш парень уже разгорячился, эти два поляка тоже. Причем, видно, эти поляки только получили эту форму офицерскую. Какие-то веревки желтые такие через плечо висят, с бахромой. Фуражки их квадратные, с побрякушками под золото спереди и на козырьках. Сапоги такие хромовые, голенища не как у наших хромовых сапог были, а «бутылками» такими стоят. Хромовые сапоги тогда такие офицеры, как мы, и не имели, у нас только генералы ходили.
Эти поляки два, короче, блестят, как тот пятак. Видно, что только их одели в эти офицеры. Они может, помоложе нас, но где-то такого же возраста, 23-24 года. У меня по документам – родился 1919 года. А, в действительности, я с 1920 был. Когда меня с хаты отец выгнал «иди на все четыре стороны» я хотел попасть в кавалерийскую как бы школу. При изяславской кавалерийской дивизии была такая. Мне не хватало года, вот я себе сам исправил, чтоб взяли. А меня все равно не взяли. Не смог обмануть. Вроде все нормально со здоровьем, но приходи через год – еще молодой. Лекарь, который там был, все равно увидел, что кости еще молодые, не окрепшие. Садить в седло, что называется, в строевом порядке еще нельзя. А так в документах и осталось уже, что я с 19-го года. Потом из-за этого чуть на Халхин-Гол не попал, как шофера мобилизовать хотели.
***
Где они, эти поляки, успели тогда какое-то училище, в этой Польше, закончить, что им этих офицеров дали, форму эту надели? Поляки, которые у нас в этой польской армии были, в нашей форме воевали. Только высшие офицеры, и то не все, в своей ходили.
Я начал их успокаивать, хотел объяснить, что мы несколько суток не спали, устали… Польскую не очень знал, но в Изяславе были поляки, у нас и в классе. В гости к кому-то ходил. Приходилось разговаривать, что родители на польском говорят, а я на украинском. Я их понимал, они меня.
К этим полякам я тоже на украинском языке заговорил, чтоб им было понятнее. Один из этих поляков меня даже и не дослушал – по лицу ударил.
Не ожидал, как-то не успел увернуться. Оно и не сильно ударил, ну, как пощечину. Этот первый наш парень рядом так стоял, немного сзади. Я когда подошел, то, чтобы разделить этих, уже начавших переталкивания, стал перед этими поляками. Как старший группы этой. А когда я туда подошел, еще один наш летчик тоже поднялся и стал сзади меня. Да там уже от шума почти все наши и проснулись, но лежали так еще.
Когда этот поляк махнул так рукой, Николай, который за мной, а он где-то на полторы головы меня повыше был, через меня этого поляка за грудки схватил и крикнул: «Братцы, командира бьют». У этого Николая рука была как две мои, здоровый парень такой. Меня еще так вбок оттолкнул: «командир, в сторону», - я уже ничего не успел, чтобы остановить эту драку.
Который самый первый наш с ними ругался - с другим поляком сразу сцепились. Он ему эти погоны с желтой бахромой сразу поотрывал. Первое, что сделал – погоны сорвал, а потом уже начал бить. Тут же все остальные наши на этот крик, конечно, подхватились.
Когда уже драка началась – это уже не остановить. Никакой команды уже никто слушаться не будет. Тут же еще опыт фронтовой взаимодействия. В рукопашных мы, конечно, не участвовали, у нас свое было взаимодействие. Но оно и тут сказалось. У всех – не меньше трех лет войны за плечами. А в основном – больше. Среди нас были такие, которые имели звание и старше меня. Я старшим лейтенантом войну закончил и до 46-го года так им и был.
А тут два этих польских офицера, как петухи разнаряженные, которые еще и пороха ни разу не нюхали. Да командира ударили, хотя я для них таким еще командиром-то был. Комендант какой-то документы проверяет, еще кто-то – то я как командир тогда иду или отвечаю, кто мы, куда следуем.
Но все равно, привычка сработала, как в бою. Если слышали: «Командира атакуют!», - всё внимание сразу туда, если могут помочь, даже самого атакуют, все будут командира спасать. За годы войны у нас у всех, кто воевал, такое, что называется, в кровь въелось. И здесь такой же, как и в воздухе клич: «Братцы, командира атакуют».
Два этих офицерика только погоны одевших, а у нас всех, что называется, вся грудь в орденах-медалях. У каждого только орденов по три-четыре штуки, не говоря уже о медалях. В то время не очень много у кого столько наград на гимнастерках висело. Это потом уже стали навешивать все подряд, что было и не было. Мы тогда ехали – видели. И замечали, как на наши награды другие смотрели.
***
Тогда, в первые недели и месяцы после войны, обычно у большинства офицеров, в лучшем случае, – один орден и одна-две медали. Да и то у старших офицеров. А солдаты, сержанты – хорошо, если одна медаль висела. Таких иконостасов ни у кого не было, как потом это стало. Это уже к концу 45-го года и дальше такие герои появились, домой начали отпускать, навешивали на себя.
Этим полякам, конечно, надавали тут же. Это ж получилась своя куча-мала. Вернее, две такие кучи. Одного туда в глубь к полкам затащили, повалили, а другого, который меня ударил, – возле двери в тамбур прижали.
Я там пытался остановить. Меня один из наших же, который сзади там старался добраться до поляка, - а не получалось, место мало, это ж вагон – так он на меня оглянулся, когда я попытался оттянуть его, чтобы других потом остановить, и, с такой угрозой в голосе, крикнул: «Отойди, командир!». Вроде того, что иначе и сам сейчас получишь.
До поляка добраться не мог, а кому-нибудь по морде дать хочется. Со злостью тогда он так на меня оглянулся, может, думал, что кто-то из поляков гражданских вмешивается.
Сколько там эта возня была, не знаю. Наши еще между собой и менялись, мол, отойди, дай мне теперь ему надавать. Я решил уже не вмешиваться, хотя, понимал, что изобьют уже сильно этих поляков. Отошел в сторону, а то, думаю, и мне еще от своих же достанется, что мешаю за командира постоять. Несмотря на то, что я как бы и есть этот командир.
Гляжу, а эти гражданские поляки на все это смотрят. Понимаю, что для них эта драка, между двумя этими поляками и нами, по-другому видится. Никто не вмешивается, но вижу, что смотрят осуждающе так.
***
Минут двадцать или сколько там этих поляков хлопцы по очереди мордовали. У этого, который меня ударил, начал драку, лицо уже все крови, весь в лохмотьях. Почти голый по пояс. А второй упал, его и не видно, какой он. Этого как прижали в углу, то так он и оставался на ногах, держали и били. А второй, наверное, еще хуже, его там и ногами били, это ж в сапогах.
Потом кто-то крикнул: «Давай их из вагона выкидывай». И так все быстро, что я и сообразить не успел, чем нам это грозит. Тут же, открыли двери, в одну линию построились, один другому этих поляков передают из рук в руки. Эти поляки и не сопротивлялись уже. Двое в тамбуре: за руки, за ноги - и одного за другим из вагона выкинули. Буквально, за секунды какие-то все это произошло. Кто-то подал команду, и тут же разобрались в цепочку, дверь открыли. И один за другим эти поляки вылетели на ходу.
Эти двери в поездах у поляков не как у нас закрывались на ключ какой-то. Каждый мог открыть.
Сели после этого все, перекурили, разговоры об этом же. Прошло какое-то время, оно как-то уже успокоилось. Гражданские поляки так наши места и не занимали, хотя мы сначала так в одном пролете все сидели. Поесть чего-то сообразили. Некоторые опять пошли спать, легли.
Ну, все, как и на боевое задание летали – привычка. С задание прилетели, после боя, настреляют, все внутри кипит. Настолько близко смерть была. Поели и перед следующим вылетом все заснули. Почти у всех за время войны это в привычку вошло. И засыпали сразу. Я засыпал – минута не проходила. Как бы внутри не колотило от пережитого только что. Потому, что меньше как через час опять надо будет лететь, нужно отключиться оттого, что было. Нужно успеть отдохнуть, подготовиться к тому, что будет на новом задании.
Вечером там баланду травят, то, как бы, не сразу засыпаешь.
Как тебя там не настреляли, а поспал перед следующим вылетом – сразу уже другим себя чувствуешь. Все, что было в последнем бою, оно уже как бы далеко становилось. И если в день три вылета - тоже самое. На следующий вылет идешь уже не столько вспоминаешь, что было несколько часов назад, а думаешь и настраиваешься на новый бой.
Кто не мог так заснуть, они по-другому находили возможность: ложились и ни о чем не думали. Было у нас несколько таких летчиков. Чтоб совсем никаких мыслей. А в основном – засыпали. Хотя бы двадцать там минут, полчаса поспал – сразу другим себя чувствуешь. Кто так не мог, не научился отключаться от своих переживаний, он не долго летал на фронте.
***
И тут тоже – смотрю, почти все опять разлеглись, заснули. Дело сделали, можно отдохнуть. А мне уже не спиться. Тоже прилег, но в голове крутится, что мы сделали. Едем-то по Польше. В Варшаву едем. Какие-то поляки выходят, другие заходят. Вроде никаких польских полицейских или жандармов не видно, но они могут и нашим сообщить. В комендатуру. Кручусь, там выйду покурить в тамбур.
А проводник был уже такой пожилой поляк. Он так ходил по вагону. И в один из таких проходов как бы не мне, но произнес там, а я услышал и понял, что, мол, «то не добже панство» сделало, что офицеров польских побило и выкинуло. Что поезд на скорости, они и погибнуть могли.
Он так пошел себе, а я соображаю. Думаю, он тут прав. Кто там знает, куда они упали и как. Шею свернуть легко. Их выкидывали за руки, за ноги, а они почти не соображали, в таком состоянии уже были. А потом понимаю, что пока этот проводник тут рядом ходит, то, может, он никому и не сообщит. Побоится, что и его туда же следом отправят. Но когда в Варшаву приедем, он нас в комендатуру и сдаст всех.
***
Эти все спят как вроде, действительно, с задания прилетели и перед новым вылетом. Посоветоваться не с кем, обсудить, что нам делать.
Кого-то я там из таких, более рассудительных, пару человек растолкал. Поговорили, я им рассказал, что тут проводник ворчал. До Варшавы нам лучше на этом поезде не доезжать. Прикинули, как нам дальше двигаться. Все летчики – карту хорошо представляли. Еще штурмана подняли, он без всякой карты все помнил. И названия станций и населенные пункты. Польшу мы тоже бомбили, а эти штурманы настолько память свою натренировали. Хорошему штурману и карты не надо, он все дороги, километраж все помнил. Особенно если это входило в зону боевых действий, все деревни и овраги, и озера. Не то, что дороги. А с нами из таких штурманы были. Это ж правительственное задание выполняем, лучших отбирали.
Решили, как другим маршрутом будем добираться. Перебраться на другую железнодорожную ветку. Оно как раз через одну или две остановки была шоссейка, по которой на параллельную эту железнодорожную линию можно ближе добраться. На попутках от этой железнодорожной линии туда переберемся, а оттуда уже не через Варшаву, а через Краков до Львова доберемся.
Решено, дождались нужной остановки, остальных быстро подняли, и вышли. Проводник еще бросился к нам, что «то ще не Варшава, панство». Я еще ему в глаза посмотрел и понял, что правильно делаем, мы с ним приехали бы. Видно было, что он так растерялся, что никому еще не сообщил о случившемся, а мы выходим раньше.
***
Тоже не совсем получилось на попутках. Марш-бросок пришлось делать. Некоторые даже ворчать начали, чего мы сорвались, ехали бы себе.
А во Львове как раз я и убедился, что мы правильно сделали. К коменданту пришел, как старший группы, а меня к особисту. И начал этот особист спрашивать, откуда мы едем, как мы ехали. Почему мы так ехали, а не через Варшаву. Я ему объяснил, тогда поезда ходили, не поймешь, куда и как едут. Поэтому мы так и ехали. Добирались, как могли.
Он видит, что у нас как бы больше суток, чем нужно, в дороге находимся. Не говорит, почему спрашивает, но я догадываюсь. Как и думалось мне, что поезд в Варшаву пришел и проводник сообщил. Пока мы там перебирались, пока опять поезд ждали, то уже пошла команда.
Этот особист нас задержал, придите через полдня. Я пришел, он опять меня расспрашивать начал. Мне уже деваться некуда, я ему опять рассказываю сказку, которую мы придумали. Что мы вот так ехали. Этот старший лейтенант опять: приходите на следующий день. Я ему как бы говорю, что мы спешим, нам надо самолеты перегнать в Москву, на которых будут на параде лететь.
Этот особист все равно: на следующий день приходите. Не дал разрешения дальше ехать. Смотрим, что не только нас, а там и другие какие-то группы тоже так же. В то время разные такие команды ехали. Понимаем, что какие-то такие группы военных проверяют. Почему не объясняют, но не только мы там под дверью у него сидели.
Уже так приунывшие все, дожидаемся следующего дня. Понимаем, что, скорее всего, нас ищут. Из-за этих поляков. Может, и нет, другое что-нибудь случилось. Поди, знай, этот особист же не объясняет, почему расспрашивает.
На следующий день пришел опять. Этот особист еще раз документы проверил, бумажку какую-то написал, чтоб дальше следовали, но на прощание мне сказал: «Я почти не сомневаюсь, что это ваша группа натворила. И по количеству как раз подходит. Только, вот летчики там были или нет, не могут сообщить». Вижу, он это говорит, а за моим лицом следит. Я делаю вид, что, вроде, не понимаю, о чем он говорит. Начни расспрашивать, он может понять, что знаю.
- Ладно - говорит,- следуйте своим маршрутом потому, что тут долго выяснять, но догадываюсь, что это вы. Других не могло быть.
Я тогда соображал, как правильнее из себя ничего не знающего изобразить. Если меня совсем не интересует, что произошло – тоже подозрительно. Поэтому спросил его, а что, мол, случилось-то, что почти на сутки задержали нас во Львове. Он так поглядел на меня, вроде того: «а то ты не знаешь, что случилось», - но ответил: «Ничего, идите».
Я и пошел. Себе потом раздумывал, что, по-видимому, все-таки эти поляки живыми остались. Если бы погиб какой-то из них, то по-другому искали бы. Хотя, возможно, это только проводник сообщил, а про тех поляков еще не успела дойти информация. Они же без документов оказались, одежду посрывали вместе с документами. Начни там такое расспрашивать, этот особист сразу поймет, что знаешь.
***
Тогда из-за этих двух польских офицеров могли и под трибунал попасть. В то время были случаи, когда за подобное и под трибунал попадали. В той же Германии, после освобождения. Да и еще во время освобождения хватало случаев, когда наши убивали мирное население. Их за это под трибунал. Даже был случай, одного Героя Советского Союза расстреляли. Как бы другим в назидание. Тогда многие, в Германию попав, немцам мстили. У многих у самих вся семья погибла, они и женщин и детей убивали. Когда передовая шла, то там вообще, кто не попадался, всех стреляли. А потом уже, когда начали стрелять и женщин насиловать и на освобожденной территории, тогда пронеслась волна арестов, трибуналов. Чтоб остановить это. Наш полк в самой Германии так и не базировался, это нас не коснулось. Но по разговорам, приказы зачитывали, - слышали о таком. Мы после аэродрома в Чехословакии сразу перелетели на аэродром в Австрии, под Веной. Оттуда уже так и летали до конца Берлинской операции.
***
Не знаю, почему так ребята бросились на них. Оно еще, наверное, и из-за того настроения к тем полякам, которое тогда еще у всех было, когда на танки те немецкие, которые прорвали оборону, почти в лобовую атаку приходилось идти, чтобы остановить. И бомбы бросали под гусеницы, и из пушек стреляли, штурмовку делали. И по бакам этим стреляли, и по щелям смотровым этим в танках.
А немцы из своих танковых орудий и пулеметов по нам. Наших ребят тогда погибло не мало из-за этих поляков. Такое настроение было у все, что дали бы возможность сами бы бомбы по тем разбежавшимся полякам сбросили бы. Никого и уговаривать не надо было бы. Настолько на них злые все были. А в этой группе тогда все хлопцы были, которые в той катавасии тогда принимали участие.
***
Добрались до этой части, где самолеты надо бы забрать. Самолеты новые все. Видно, что не один не был под огнем. И полк весь этот – летчики молодые. Командиры обстрелянные, конечно. Но тоже не очень там, чтобы награды были видны. Командир полка, комэски видно, что воевали, а остальные – так и не попали на фронт.
Пока мы самолеты проверяли вместе с их же техниками, молодежь эта за нами наблюдала, а подойти, поговорить – как бы стеснялась. В той же столовой. Смотрят на нас, на наши ордена, медали, но даже и не обращаются. Молодые, чувствуют, что им не о чем с нами разговаривать. Хотя тоже – они были молодые. А мы что – старые? Разница у нас по возрасту – года три-четыре, казалось бы, только.
Но такие это годы разницы были. Они ничего и не видели, и не понять им было того, через что мы прошли к тому времени. Казалось бы, разницы почти никакой. Вроде бы, я - старший лейтенант, а эти летчики - лейтенанты.
По самолетам и по летчикам в этом полку видно – ни разу не были еще в бою. Самолеты еще краской пахнут, и эти летчики в новеньких формах, комбинезоны чистые, не порванные. Ну, и мы тут, только Берлин отбомбили, можно сказать. Мы все гвардейцы, а этот полк не гвардейский. Заметно было, все на нас внимание обращают, но никто не пристает с разговорами какими-то.
Наш полк тогда за участие и, как в таких случаях писали, за проявленное мужество в ходе Берлинской операции получил звание Берлинского полка.
По тем же знаменитым Зееловским высотам сколько раз бомбить летали. А потом уже и сам Берлин. А как тогда зенитки стреляли – просто трудно объяснить. Настолько плотный и массированный огонь немцы вели. Стянули уже все, что могли. Они технику бросали, конечно, когда отступали. Но и то, что тогда стянули на тот пятачок вокруг Берлина – такого огня с земли до этого никогда не было. Немецких истребителей в воздухе уже практически и не было. К тому времени все аэродромы их разбомбили. Но зениток столько было, за все годы войны такого видеть не приходилось. Такими площадями стреляли, почти до последнего дня.
***
Забрали самолеты и, уже без всяких приключений, перегнали их в Москву. Нормально долетели, всей девяткой так и прилетели, куда надо было. Самолеты сдали и назад в полк к себе поехали.
Голосование:
Суммарный балл: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
|
Оставлен:
 |
echorny
|
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор
НЕ ТОБОЙ ОПЕЧАЛЕНЫ СТРУНЫ
ПРЕМЬЕРА КЛИПА( по мотиву Лейли и Маджнун).Стихи В.Кошелев. Песня , клип - я.
Ждем с нетерпением!
ПРЕМЬЕРА КЛИПА( по мотиву Лейли и Маджнун).Стихи В.Кошелев. Песня , клип - я.
Ждем с нетерпением!
Присоединяйтесь